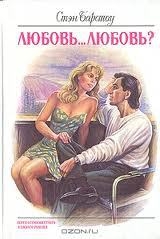
Текст книги "Любовь... Любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Тетя Эдна поворачивается и с улыбкой, любовно на меня смотрит. Я подмигиваю ей, а она – мне.
– Джим в самом деле сильно вырос с тех пор, как мы видели его в последний раз, – говорит она.
– Ну да, растет он быстро, а силенок-то мало. Вся сила у него уходит в мозг, а не в мускулы. Я уже решила, что схожу с ним к доктору после праздников и посоветуюсь.
– Если учение ему в охотку, значит, все в порядке, – говорит дядя Уильям. – Он очень умный парень, это сразу видно, а такие ребята, если голова у них ничем не занята, становятся непоседами, шалыми. Я бы на
26
твоем месте, Люси, за него не опасался. С доктором поговорить, конечно, можно, а тревожиться нечего.
– Тебе хорошо говорить, Уильям, но когда у тебя дети, как о них не волноваться. Тут уж ничего не поделаешь.
По-моему, Старушенции не следовало бы так говорить, потому что у дяди Уильяма и тети Эдны нет детей, и, как мне кажется, они частенько горюют об этом.
– Мы, конечно, вовсе не хотим, чтобы он что-то упустил в жизни, – говорит Старик. – Только бы хватило у нас средств поддержать его, пока он сам не начнет зарабатывать. С Кристиной дело было проще – она получала стипендию, но, когда человек изучает медицину, тут, говорят, стипендия – капля в море. – Он сует руку в карман за трубкой и табаком и вспоминает, что в буфете лежит большая коробка сигар. – А ну-ка, Уильям, – говорит он, – угощайся. Это мне Дэвид купил. Молодец он, верно?
– Очень даже, Артур. – Дядя Уильям берет сигару и нюхает. – А я уж подумал было, что ты сам себя так балуешь.
– Ну и зря подумал, —говорит Старик. – Я не из тех, кто курит сигары.
– Но и не так уж тебе далеко до них, верно, Артур? – говорит дядя Уильям, и при свете спички я замечаю лукавый огонек в его глазах. – Чем ты не новая аристократия: живешь себе припеваючи, сына собираешься послать в колледж изучать медицину. У кого, у кого, а у тебя деньжата водятся. Ты ведь их каждый вечер не пускаешь на ветер.
– Полегче! Полегче! – говорит Старик, распаляясь и попадаясь на удочку. – В кои-то веки люди стали зарабатывать прилично, так все теперь прохаживаются на их счет.
– Я бы не возражал по двадцать фунтов в неделю зашибать,– говорит дядя Уильям, – а там пусть хоть весь мир на меня кидается.
– А ты попробуй, – говорит Старик, – попробуй их заработать, я буду только рад. Но вот что я тебе скажу, Уильям, – я это всем говорю, – если ты думаешь, что можешь заработать в забое двадцать фунтов в неделю, приходи попробуй. Заработать такие деньги можно, и кое-кто из ребят всегда столько получает. Но зато они и вкалы-
27
вают, как каторжные, А эти трепачи только знают, что подпирать стойки в барах да языком молоть. Опрокинут кружку-другую – вот и вся их работа, более тяжелой они не знали. Да они одной смены в забое но продержат. Я-то, рубил уголь. Я знаю, каково оно, и очень рад, что могу больше этим не заниматься. Вот я теперь старший, и, хотя многие под моим началом зарабатывают больше меня, я им не завидую, потому что сам когда-то выколачивал так деньгу и знаю, почем фунт лиха. И еще одно...
– Ну ладно, Артур, хватит уж, – вмешивается Старушенция. – Чего тут спорить. Уильям так об этом судит, а ты иначе.
– Никто не имеет права судить, если не знает фактов. -Я ведь просто объясняю ему...
Старушенция и тетя Эдна переглядываются, и тут я решаю, что пора мне сматывать удочки. Я встаю.
– Ты что, спать пошел, Виктор?
– Нет, я ухожу. Сегодня в городе танцы. Думаю сходить туда на часок.
– Что?! В такую поздноту?
– Да там самый разгар сейчас.
– Ну ладно. Возьми ключ. И не задерживайся слишком долго, ты ведь сегодня целый день был на ногах.
– Веселись хорошенько, Виктор, – говорит тетя Эдна.
IV
Поднявшись наверх, я первым делом оглядываю себя в туалетном зеркале. Оно трехстворчатое, и, если поставить створки под определенным углом, можно увидеть не только свой фас, но и профиль. Что-то я последнее время слишком часто гляжусь в зеркало – и дома и на улице. Раньше я не замечал, что на свете так много зеркал – не только зеркал, а и зеркальных витрин, которые могут служить тем же целям, когда шторы за ними спущены. На работе я мою руки и вижу другую пару рук, которые проделывают те же движения. Иду в кино – и десять шансов против одного, что, всходя по лестнице, я столкнусь лицом к лицу с моим двойником, поднимающимся по лестнице с другой стороны. (Правда, это не совсем мой двойник – у него, например, правая рука там, где у меня левая.) А вечером, глянув в окно автобуса, я вижу того же двойника, который смотрит на меня снаружи. Не скажу,
28
чтобы я был так уж влюблен и себя,– но всяком случае, ни всегда,– и, глядя на свое отражение в стекло или еще где-нибудь, я вовсе не умиляюсь: «Какой роскошный тип!», а стараюсь смотреть на себя как бы со стороны и представить себе, что я об этом парне думаю. А думаю я то, что итого типа в зеркале никак нельзя назвать роскошным. По крайней мере в большинстве случаев.
Но раньше и ведь не был такой. Помнится, мне было ровным счетом наплевать, как я выгляжу и что обо мне думают. А теперь все изменилось, потому что теперь, понимаете, меня стали интересовать женщины. И, признаться, даже очень.
Когда дома я смотрюсь в зеркало – вот как сейчас,– мне кажется, что я не так уж плохо выгляжу. Как ни посмотри и кто ни посмотри – уродом меня не назовешь. Может, я и не красавец, но, уж во всяком случае, не урод. Лицо у меня скорее квадратное, чем длинное, и, как пишут и романах, открытое, кожа хорошая. (Слава богу, я не принадлежу к числу тех парней, которых насмерть изводят разные там прыщи, угри и прочая пакость.) Конечно, шрам над левым глазом, где я приложился к рельсу, не слишком украшает, хотя иногда мне кажется, что он делает меня более мужественный. Но—не знаю. Что же до волос, тут двух мнений быть не может: любой мужчина мне позавидует. Волосы у меня густые, темные, с блеском – никакого крема не надо – и слегка вьются: причешешь, рукой подправишь, и все в порядке. Да, насчет волос я спокоен. Я слежу за ними и стригусь каждые две недели, ну, может, иногда на день или на два позже. Вот росту мне бы не мешало набрать еще дюйма два. Но заморышем меня не назовешь, да и сложен я неплохо – грудь у меня широкая, плечи квадратные, так что я не боюсь показываться в купальных трусах. Теперь об одежде. Одеваться я умею – что да, то да. Я не плачу бешеных денег портным, но знаю, где хорошо шьют, и всегда слежу за тем, чтобы брюки у меня были отутюжены, а ботинки начищены. Стоит воротничку у рубашки чуть-чуть засалиться, я мигом отправляю ее в стирку. Можете спросить у нашей Старушенции. Она говорит, что легче обстирать армию солдат, чем одного меня.
Вот какой я, Виктор Артур Браун; мне двадцать лет, я не слишком уверен в себе и сразу теряюсь, когда начинаются всякие двусмысленные шуточки, остроты и саль-
29
ности. Нравлюсь я вам или нет, но таков уж я есть. Да и какое значение имеет то, как ты выглядишь? Каждый день можно встретить шикарных девчонок с омерзительнейшими типами – казалось бы, на такого ни одна уважающая себя девушка в жизни не посмотрит. А какое значение имеет одежда? Скажем, прилично ты одет или нет? Чем больше ты похож на пугало, тем вроде бы лучше: девчонки, точно бешеные, так и липнут к париям, которые черт-те как одеты, я бы в таком костюме и за ограду своего палисадника не вышел. Так какого же черта!
В общем, я не хуже других и просто не пойму, почему бы Ингрид не разделять этой точки зрения. Но думаю то я так, лишь пока я у себя в комнате, а стоит мне увидеть Ингрид, и я чувствую себя не более привлекательным, чем какое-нибудь чудище из научно-фантастического фильма.
Наконец я отрываюсь от зеркала и иду в ванную. Затем решаю, что надо одолжить у Джима его новый галстук – синий вязаный, с поперечными полосками. Под дверью его комнаты виден свет, я захожу и застаю его в постели, с книжкой на коленях и карандашом в руке.
Вытаскиваю из комода галстук.
– Дашь мне надеть?
Он что-то бурчит. Не думаю, чтобы он возражал. Подхожу к зеркалу (опять зеркало!) и принимаюсь завязывать галстук.
– В жизни не видал, чтобы человек так выдрючивался, завязывая галстук, – минуту спустя замечает он.
– Что значит – выдрючивался?
– Так вертелся, крутился и дергал галстук туда-сюда. Неужели нельзя затянуть узел и дело с концом?
– Это же виндзорский узел, – поясняю ему. Подтягиваю галстук и опускаю воротничок. – Когда галстук так завязываешь, узел получается аккуратный и не расползается.
– Зато галстук будет теперь весь мятый.
– А разве ты на это обращаешь внимание?
– М м... – мычит он и вновь утыкается в книгу.
– Хороший у тебя галстук.
Он молчит.
– Давай махнем?
– Что?
– Да вот галстук. Ты не согласился бы его продать?
– Я его не покупал. Мне мама подарила.
30
Я смотрюсь в зеркало. Отличный галстук и, уж во всяком случае, не для Джима, которого одежда вообще не интересует.
– Я дам тебе за него полкроны.
– Он куда дороже стоит.
– Но ты же его не покупал.
– Нет. Поэтому я и не могу его продать!
– Но полкроны тебе наверняка больше нужны, а? – говорю я, глядя на него в зеркало. Джим у нас всегда сидит без гроша, потому что вечно что-нибудь покупает или копит деньги на то, чтобы что-то купить – то морских свинок, то кроликов, которых он держит в сарае, то марки для своей коллекции или что-нибудь еще.
Он смотрит на меня, что-то обдумывая.
– Вот что я тебе скажу, – говорит он. – Я буду тебе давать его, надевай, когда хочешь, но ты должен платить мне по три пенса за каждый раз. И за сегодняшний вечер тоже.
– И кто это меня за язык дернул – молчал бы себе в тряпочку! – Я сую руку в карман. – У меня нет мелочи, только шиллинг.
– Ничего. Зато потом ты три раза сможешь надевать его бесплатно.
Я бросаю ему шиллинг.
– Я вижу, друг, ты не теряешься, надо тебя будет по коммерческой части пустить. Глядишь, к тридцати годам миллионером станешь. – Подхожу к нему и выпячиваю подбородок. – Как, по-твоему, надо мне бриться?
– Пожалуй, к пасхе уже кое-что проглянет, – говорит он.
– Что? Да я теперь бреюсь каждый день.
– Ну, если тебе нравится доставлять себе столько хлопот... Ты что, куда-нибудь идешь?
– На танцы.
– Так поздно?
Я смотрю на часы.
– Без четверти десять. Детское время, малыш.
– Охота тебе тащиться куда-то в такую поздноту и потеть в этой толкучке под так называемый джаз?! – говорит он.
– Не суй нос не в свои дела и займись-ка лучше латынью.
– Откуда ты знаешь, что это латынь?
31
– Да уж уверен, что это не «Леди, не оборачивайтесь!»
– А что это такое?
– Неважно.
– Так вот: это не латынь, а математика, – говорит он. – И раз уж ты здесь, мне хотелось бы тебя кое-что спросить, я тут не понимаю.
– Ну, я тебе не помощник. Для меня что математика, что акробатика – один черт.– Произнося это, я чувствую, что сострил. – Как это я сказал, а? Математика все равно что акробатика?!
– Ха, ха! – иронически бросает Джим. – Как остроумно, Вик! Лопнуть можно! Кстати, старик Картрайт набросился тут на меня. Говорит, ждал лучших отметок от брата Вика Брауна.
Этого достаточно, чтобы снова оторвать меня от зеркала.
– Он так сказал? Старина Картрайт? В жизни не поверю.
– Вот-те крест, – говорит Джим. – Старик Картрайт, кажется, и впрямь высокого мнения о тебе. А вот на уроках французского я стараюсь не афишировать наше с тобой родство.
– А, подумаешь, французский, кому он нужен!
Подхожу к постели Джима и беру у него учебник.
– Что тут у тебя не ладится, малый? – бурчу я, подражая старику Картрайту.
– Вот здесь. – Джим тычет пальцем в учебник, – Никак это уравнение не выходит. Я уже полчаса над ним бьюсь. Верно, опечатка в книге.
– Никогда не видел опечаток в учебниках. – Начинаю проверять и сразу обнаруживаю ошибку. Бросаю учебник Джиму на колени. – Попробуй перевернуть последнее уравнение.
Он смотрит.
– Тьфу... Как же это я не сообразил!
– Вот так, не сообразил и готово – провалился на экзамене.
– Ну хватит тебе, гений.
Провожу рукой по подбородку и словно слышу, как шуршат волоски.
– Эх, все равно нет времени бриться. И так уже поздно.
– Неужели она не подождет? – спрашивает Джим,
32
– Кто?
– Кто? – повторяет он с ухмылкой. – Брижжит Бардо, конечно, а то кто же еще?
На секунду у меня мелькает мысль, что он, видно, знает. Но тут же я понимаю, что этого не может быть, потому что никто, кроме меня, ничего, не знает. Даже и она еще не знает. Но теперь узнает. И скоро.
На улице ясно и холодно, настоящая зима. Утром казалось, что вот-вот пойдет снег, но сейчас небо все в звездах и мороз пощипывает щеки. Я отмечаю это, но иду пешком, не дожидаясь автобуса, потому что слишком холодно стоять на месте. Однако через какую-нибудь минуту я уже слышу урчание автобуса, взбирающегося в гору следом за мной, и пускаюсь бегом. На остановке я нагоняю автобус и беру билет в город за три пенни. Наверху пусто. Сажусь на заднее сиденье и погружаюсь в созерцание голых и полуголых девиц в журнале, который дал мне Уилли Ломес перед праздником. Называется он «Cherie»1 . Это французское издание с девицей на обложке. На девице пояс с резинками, черные нейлоновые чулки – ничего больше, если не считать взгляда, этого самого... Ну, вы понимаете. «Журнальчик—первый сорт»,– сказал Уилли, и точно. Уж кто-кто, а эти французы мастера на такие штуки. Все в тебе растопляется, когда смотришь на этих девчонок. Есть птички, которые сняты в одном белье или в прозрачных нейлоновых рубашонках и прикрыты, ровно настолько, чтобы раздразнить воображение, а на других и воображения тратить не надо. Там есть и текст, и я начинаю жалеть, что в школе не уделял должного внимания французскому, потому что если текст связан с картинками, он, должно быть, силен. Глядя на них, я в трехтысячный раз пытаюсь представить себе это и прихожу к выводу, что с такими девочками ничего у меня не получится – стоит такой подойти ко мне, и я мигом дам заднего пару.
Но вот что любопытно: об Ингрид я никогда так не думаю. И не потому, что она уродка, – девчонка она хорошенькая, самая хорошенькая из всех, кого я знаю. Просто думаю я о ней, как о чем-то очень чистом, святом и
нежном, и мне кажется, что коснуться ее щеки куда приятнее, чем все то, что могут дать мне другие девчонки.
Стоит мне подумать об Ингрид, как я забываю обо всем на свете, и, конечно, я проехал свою остановку и теперь иду пешком.
По мере того как я продвигаюсь вперед по Иллиигуорс-стрит, настроение у меня становится все лучше и лучше. На мне хороший костюм, свежее белье, я подстрижен, причесан, и звук моих шагов почему-то преисполняет меня уверенности в себе. Я знаю, что на танцах сейчас, наверно, перерыв, поэтому захожу в «Баранью голову»– кабачок, расположенный чуть дальше по той же улице, – пропустить для бодрости пивка и взглянуть, нет ли там ребят. В зале полным-полно народу, чувствуется, что на танцах перерыв; за баром, в курилке, топчутся оркестранты в стильных бежевых куртках и коричневых галстуках бабочкой. Получаю свою кружку пива, оглядываюсь и кого, вы думаете, вижу? Уилли Ломеса, который машет мне из-за столика в углу. Подхожу, парень, что с ним (зовут его Гарри, а фамилии не помню), пододвигается, и я сажусь. Оба они без пальто, и я спрашиваю, были ли они на танцах.
Они кивают, а Уилли говорит:
– Народу – пропасть. Все ноги оттоптали.
Вид у него тем не менее веселый. Впрочем, он всегда кажется веселым – наверно, потому, что у него такое лицо. А лицо у него длинное и бледное, как у клоуна; черные, будто вороново крыло, волосы гладко зачесаны назад и блестят, как хорошо начищенные ботинки. Он поднимает ногу и показывает порванный отворот брючины.
– Выставил ногу во время быстрого фокса, – говорит он. – Не успел опомниться – р-раз, какая-то девка зацепилась каблуком за мою брючину. Чуть не полетел вверх тормашками.
– Есть стоящие девчонки? – спрашиваю.
– Обычный сброд, – отвечает Гарри. Но это вовсе не то, что меня интересует. Впрочем, едва ли они знают Ингрид.
– А ничего у них певичка, – говорит Уилли.
– Да разве это птица твоего полета, Уилли? – говорит Гарри. – С такой на одних чулках разоришься.
– Но помечтать-то о ней ведь можно бесплатно или уж тоже нельзя? – говорит Уилли.
34
– Так или иначе, она замужем, – вставляю я.
– А ты откуда знаешь?—спрашивает Уилли.
– Оттуда, что у нее на пальце обручальное кольцо, дуралей.
– Я иногда думаю, что замужние – это самое милое дело, – говорит Гарри. – Они хоть знают, чего ты хочешь, и обхаживатъ их не надо.
– А мне вовсе не улыбается вечно Чувствовать у себя за спиной какого-нибудь тяжеловеса-мужа, – говорит Уилли. – Нет, мне подавайте одиноких девочек. Обучишь этакую маленькую девственницу уму-разуму, она тебе еще и благодарна будет за то, что ты открыл ей радости жизни.
И понес, и понес; Гарри хитро подмигивает мне, а я сижу себе, посмеиваюсь.
– Вся беда в том, – говорит Уилли, отхлебнув из своей кружки, – что все девчонки, которые мне нравятся, либо замужем, либо уже зафрахтованы. Познакомился я с одной в «Трокадеро» на той неделе. Девчонка – пальчики оближешь, и по морде видно – на все пойдет, угости ее только рыбой с жареной картошкой. Провожаю ее до Грин-форда – целых две мили – и только хочу пристроиться с ней в подъезде магазина, чтобы немного ее потискать и уговориться о встрече, а она – что вы думаете, она мне говорит? «Моему жениху это не понравится», – говорит. Ее жениху!.. А я-то, как последний дурак, прошагал туда и обратно четыре мили!
Смешно! Но у меня насчет Уилли своя теория. Я считаю, что в конце концов он женится на какой-нибудь шлюхе шести футов ростом, ничем не примечательной, как стена пакгауза. И всю жизнь будет у нее под каблуком.
– M-да, с бабами лучше не связываться, – заявляет Гарри, из чего я заключаю, что и у него не все идет гладко. – Встречался я тут с одной девчонкой. Целый год за ней ухаживал, и мы даже стали подумывать о помолвке. Она только об этом и твердила. «Ну, когда же мы объявим о помолвке, Гарри?» Только и твердила.
– Ну, я об этом никогда не думаю, – говорит Уилли, я же тихонько усмехаюсь, вспоминая свою теорию о девице-гренадере, которая уже где-то поджидает его,
– А вот я не возражал, – говорит Гарри. – Она меня совсем измотала. И я уже готов был сдаться, только бы меня оставили в покое. Но однажды отправляется она на
35
субботу и воскресенье к своим родственникам в Уоррингтон. А потом начинает ездить туда каждое воскресенье и пускает меня под откос ради какого-то там янки.
– Ну, еще бы: мундир и монеты, – говорит Уилли. – Где уж нам с ними тягаться.
– Наймитесь кондукторами на автобус, – говорю я, и у вас будут мундир и монеты. – Сам же думаю, что тоже начну жаловаться на судьбу, если еще посижу здесь. А сейчас все внутри у меня поет при мысли, что я скоро увижу Ингрид.
В кабачке стало тише; озираюсь вокруг – оркестрантов не видно, значит, перерыв кончился и я теряю драгоценное время.
– Да, кстати, Уилли... – Выуживаю «Cherie» и передаю ему, прикрыв рукою шлюху на обложке. – Спасибо.
Уилли с видом заговорщика сует журнал в карман.
– Ну как, понравилось, Вик?
– Ничего! Есть тут пара девчонок, с которыми я бы не прочь познакомиться поближе.
– Еще бы, – говорит Уилли. – Я не я, если на будущий год не смотаюсь в Париж. Ну его к черту, наш Блекнул. Вот увидите.
– Ты что, думаешь, они там разгуливают по улицам голышом? – говорит Гарри.
– Конечно нет, – говорит Уилли. Потом перегибается через стол и, понизив голос, добавляет: – Но вот что я тебе скажу: там есть девчонки – с виду все в порядке, идет себе в пальто, а как к ней подойдешь, она распахнет пальто, а под ним ничего.
У меня рот растягиваемся в ухмылке, а Гарри изрекает:
– Бред!
– Нет, правда, – говорит Уилли. – Я знаю одного парня, который все время туда ездит, этакий великий путешественник. Так у него было больше девчонок, чем у кошки из меблированных комнат котов. А потом притоны там на каждом углу, государственные. Все в открытую. Заходишь, платишь и выбираешь. Представляете, как было бы здорово, если б парочка таких заведений открылась у нас в Крессли. Не надо было бы бегать за девчонками по танцулькам – пришел и получил, что надо и когда надо.
36
– Я обеими руками «за», – говорит Гарри, – только в Париж ехать ты, Уилли, опоздал. Там все эти лавочки прикрыли.
– Что? – огрызается Уилли. – А ты откуда знаешь?
– Прочел недавно в одной книжке. Их закрыли сразу после войны.
– Может, и закрыли, – несколько разочарованно говорит Уилли,– а все равно там в два счета можно подценить себе девочку.
– Смотри, как бы не подцепить такого, от чего не скоро избавишься, – говорит Гарри.
– Иди ты, – говорит Уилли. – На то, брат, существует наука.
– А ты думаешь, уличные девки очень разбираются в науке?
Похоже, что они тут прочно обосновались, и я встаю.
– Ты что, уходишь, Вик? – говорит Уилли. – Выпей еще перед уходом.
Я отказываюсь. Мне не терпится поскорее добраться до танцев и поискать Ингрид. Да и вообще выпивка – это не по моей части. На такого Уилли мог бы работать целый пивоваренный завод, а с меня одной кружки хватает.
– В общем, до скорого, – говорю я; оба отвечают: «До скорого, Вик» – и продолжают свой разговор о парижских шлюхах.
На улице, по дороге к танцульке, я сую в рот кусок мятной жвачки, чтобы приятней пахло. У входа плачу три монеты и спускаюсь в раздевалку скинуть пальто. Какой-то парень, хвативший лишку, распевает в туалете, и служитель то и дело поглядывает в ту сторону, видимо обдумывая, не вышвырнуть ли его за дверь. Я причесываюсь, поправляю галстук и топаю наверх. Открываю тяжелую дверь в зал И словно натыкаюсь на завесу, образованную запахом пота и дешевого одеколона, – завесу такую плотную, что хоть режь ножом. На секунду останавливаюсь. Но потом решаю идти напролом – минуты через две привыкну! – и ныряю в толпу, стараясь не втягивать глубоко воздух.
Здесь действительно полным-полно, как и говорил Уилли, люди толпятся даже у дверей. Работая локтями, начинаю пробираться вдоль стены, где меня чуть не опрокидывает какая-то парочка, исполняющая нечто вроде
37
индивидуальной боевой пляски. На парне зеленая бархатная куртка, желтая клетчатая рубашка без галстука и черные брюки, шириной дюймов в четырнадцать. Девчонка, с которой он трудится, жуть – одни ресницы и намалеванные губы на белом без кровинки лице, не человек, а ходячая смерть; все ее прелести скрыты под черным свитером и торчат, как колышки для шляп у входа в церковь, а парень, согнувшись над ней в три погибели, не может оторвать от них глаз. В этом зале не бывает разухабистого джаза, рока и тому подобного – об этом гласят предупреждения на стенах. А потому тут же появляется администратор, хлопает парня по плечу и что-то ему говорит. Парочка, окидывает его убийственным взглядом и переходит на быстрый фокстрот, который здесь принято танцевать.
Ингрид нигде не видно, хотя я уже целых полчаса стою и слушаю оркестр, очень неплохой для любительского. Наконец, решаю, что, пожалуй, скорее отыщу ее, если не буду стоять на месте, протискиваюсь вперед и приглашаю какую-то девчонку, которая издали выглядит вполне прилично, а вблизи оказывается, что от нее разит, как от бочки с тухлым говяжьим салом. Я рад, что танец скоро подходит к концу – терпеть не могу девчонок, от которых воняет. Поднимаюсь на балкон, откуда мне всех видно, кроме тех, кто толпится у двери. Пока я там стою, оркестр начинает играть вальс-бостон. Огни гаснут, только высоко под потолком вращается граненый зеркальный шар, разбрасывая во все стороны лучи света. Как бы мне хотелось в эту минуту танцевать с Ингрид, крепко прижав ее к себе, – на меня часто нападает романтическое настроение, когда я танцую вальс-бостон и огни слегка притушены. Но Ингрид явно нет, теперь я в этом убедился. И едва ли она уже придет в такой поздний час. Я и сам бы не пришел, если б не услышал, что она собиралась сюда, и теперь я чувствую пустоту и разочарование. Может быть, она пошла в «Тракадеро». А может быть, сидит дома и смотрит телевизор или даже спит. Закуриваю сигарету и жду, пока зажгутся огни, чтобы в последний раз оглядеть зал – уж очень не хочется уходить ни с чем. Внизу вижу Уилли и Гарри, но их общество не интересует меня сегодня, а потому я направляюсь вниз, беру пальто и двигаю домой. Автобусы уже не ходят, и я всю дорогу топаю пешком.
38
Глава 2
I
Праздники кончились, и повседневная жизнь снова вошла в свою колею, и снова те же люди едут утром на работу на верхнем этаже автобуса. Большинство сидит, уткнувшись в газету, так что одного не отличишь от другого, но есть тут человека два или три, которых ни с кем не спутаешь. Один тип – он обычно сходит на второй остановке вниз по склону – очень похож на эсквайра. На нем обычно толстое, ворсистое твидовое пальто, темная, отливающая сединой шляпа с опущенными вниз полями, и, держи он под мышкой охотничье ружье вместо «Дейли телеграф», картина была бы вполне законченная. Лицо у этого малого красное, все в крошечных прожилках и всегда напоминает мне апельсин «королек», а глядя на его большой, торчащий, словно руль, нос, кажется, что он каждое утро отвинчивает его, а побрившись, снова привинчивает. Малый этот помешан на свежем воздухе, и все сидящие наверху начинают ежиться, заслышав на лестнице стук его башмаков. Садится он всегда на одно и то же место в середине автобуса (а если кто-нибудь другой уже занял его, этот нарушитель традиции, кто бы он ни был, награждается уничтожающим взглядом) и первым делом открывает все окна, до которых только может дотянуться, так что по автобусу начинает гулять ветер и шляпы слетают с голов. Ветер, дождь, пороша, снег или туман – ему все едино: при любой погоде он распахивает окна. Тот день, когда отменили открытые автобусы, был, наверно, самым печальным днем в его жизни.
Я прозвал этого малого кислородным алкоголиком – есть такой персонаж в одном эстрадном представлении. Я лично считаю, что это не такое уж большое зло, его можно вытерпеть, если как следует одеться. А вот любители поговорить – это гораздо хуже, их надо избегать всеми силами, как, например, того маленького старикашку, который садится на следующей остановке после кислородного алкоголика и, точно мы с ним старые приятели, неизменно устраивается рядом со мной. У него, у этого старикана, обо всем свое мнение, и он необыкновенно веселый, за что все так нежно и любят его.
39
– Вот она – жизнь, – говорит он в это утро, пристроившись, как обычно, рядом со мной, – месяцами ждешь-не дождешься этих праздников, а потом день-другой – и конец. – Голос его разносится по всему автобусу, будто через микрофон, и глаза у всех постоянных пассажиров тотчас стекленеют.
– Да уж, – изрекаю я. Главное: всегда с ним соглашаться, таково мое правило. И ни в коем случае не вызывать на разговор, иначе погибнешь.
Он возится некоторое время с трубкой, потом раскуривает ее и окружает нас дымовой завесой. Он сам выращивает табак – это он всегда всем говорит и в подтверждение своих слов протягивает руку, показывая на ладони сухие желтые волокна, похожие на конский навоз, пролежавший весь день на солнце. Никто не оспаривает его утверждений, потому что трудно себе представить, какой сорт табака может так омерзительно пахнуть. Вот когда старикашка закуривает, мы начинаем с благодарностью думать о кислородном алкоголике и его открытых окнах.
– Не успеешь полчаса пробыть на работе, как уже кажется, будто и не отдыхал, – говорит он, посасывая трубку. Должно быть, он купил ее еще в юности, потому что чубук весь обгорел с одной стороны, а мундштук в месте полома скреплен изоляционной лентой. Я так думаю, что либо он очень привык к ней, либо такой скряга, что не хочет покупать новую. И решаю, что, скорей всего, он скряга, потому что люди, которые рассуждают так, обычно нелегко расстаются с деньгой.
– И мне тоже, – говорю я.
– Просто не пойму: и чего это люди так носятся с рождеством! – во всю мочь орет он. – Веры ни у кого ни на грош, настоящего чувства тоже. Одно богохульство. Вот лавочникам – тем рождество на руку. Они распродают все, что у них есть и чего даже не было. А все прочие напиваются, обжираются и потом сидят, осоловелые, и смотрят телевизор... Богохульство, да и только.
Он вытаскивает из кармана платок, громко сморкается и вытирает седые усики. Потом разглядывает содержимое, чтобы удостовериться, какой клад он там оставил, и сует платок обратно в карман.
– Правда, я и сам не большой любитель в церковь ходить, – говорит он. – Нынешняя церковь – сплошное лицемерие и обман. А священники... мелкота, вруны и па-
40
разиты, которые живут себе припеваючи, знают, что никто их не уволит, если они не будут в своих проповедях по-честному обрушивать громы и молнии на головы кого следует...
– Совершенно верно.
– А телевидение... Ни в жизни не куплю себе телевизор. Жена все время канючит. Но я ей сказал: «Если у тебя есть деньги, так и покупай. Но в тот день, когда телевизор появится в доме, я из дома уйду...». И куда только мы катимся... Вся страна точно помешалась на этих телевизорах. Они ее прямо заполонили. Заполонили всю как есть.
И мелет, и мелет, и мелет...
Но сегодня утром мне его болтовня не страшна: я могу замкнуться в себе и думать об Ингрид. Сегодня я непременно с ней заговорю. Как это произойдет, не знаю, но твердо знаю, что заговорю. Мы уже года два здороваемся, но только за месяц до рождества я вдруг понял, какая она необыкновенная. А ведь все это время она, можно сказать, была у меня под носом... И теперь я уже дошел до того, что больше выжидать не могу. Не могу – и все. К несчастью, я понятия не имею о том, каковы мои шансы. Я не знаю, заметила ли она меня или же я для нее просто один из голоштанных чертежников, которые получают по тридцать монет. Зато я знаю, что никогда этого не выясню, если не соберусь с духом и не начну действовать. И прежде всего надо хотя бы заговорить с ней.
Покупаю утреннюю газету на автобусной станции и перехожу через улицу на остановку другого автобуса. Где-то на полпути замечаю в очереди ее, и на секунду все люди вокруг меня куда-то исчезают, и я стою один, и вся очередь на другой стороне улицы смотрит на меня, а я думаю о ней, и мне кажется, что мои мысли написаны на моем лице и все их читают. Я как будто даже краснею и, почувствовав это, спешу присоединиться к очереди. Мне, конечно, хотелось думать, что она смотрела на меня. На самом же деле она лишь случайно взглянула в мою сторону, а потом продолжала болтать с мисс Прайс из машинного бюро. Да и с чего бы это она обратила на меня внимание? Кто я такой? Просто парень, который работает в конструкторском бюро и притом на одной из самых маленьких должностей. Наверняка я не занимаю надолго ее внимания. И если я на этой неделе уйду от Уиттейкера, она едва ли это заметит. Ух, до чего же противное








