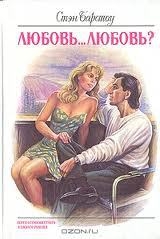
Текст книги "Любовь... Любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Какой-то человек помог мне выбраться из канавы.
– Ты не очень расшибся, мальчик?
Я тупо покачал головой. Похоже, у меня все было цело. Я потер колено и бок, на который упал, и рука моя нащупала часы. Сердце у меня сжалось от страшного
348
предчувствия, но, только завернув за угол, я снова соскочил с велосипеда и сунул дрожащую руку в карман. Я поглядел на остатки того, что было когда-то предметом гордости моего деда. Задняя крышечка часов глубоко вдавилась внутрь. Стекло треснуло, и римские цифры как-то нелепо поглядывали друг на друга па исковерканном циферблате. Я спрятал часы в карман и медленно поехал дальше. Несчастье было слишком велико и непоправимо, оно придавило меня.
Я, хотел было показать ребятам то, что осталось от моих часов, но передумал. Это было ни к чему. Я обещал показать им самые прекрасные часы на свете, и, какие бы роскошные обломки ни совал я им теперь под нос, ничто мне не поможет.
– Ну, где твои часы, Уилли? – обступили они меня. – Ты привез часы?
– Мать не позволила мне взять их с собой, – солгал я и протиснулся к своей парте, держа руку в кармане и крепко зажав в кулаке останки часов.
– Ах, ему маменька не позволила взять часы! – насмешливо воскликнул Кроули. – Брось заливать-то!
(Погоди смеяться, Кроули, подумал я. Ты у меня еще получишь.)
Но остальные ребята поддержали его. Я был заклеймен трепачом, хвастунишкой, обманщиком. Я не мог их винить, ведь я подвел их, обманул их ожидания.
Прозвенел звонок; я тихонько уселся за свою парту, раскрыл книгу и в ожидании учителя тупо уставился в нее; странное чувство овладело мной вдруг. Насмешки товарищей – это в конце концов было не самое главное, им рано или поздно надоест. Мать, конечно, так рассвирепеет, что об этом страшно было даже подумать. И все же меня мучило другое, и только этим были сейчас полны мои мысли: я видел перед собой старика, моего дедушку: вот он лежит в своей постели после долгих, долгих лет тяжкого труда, пальцы его беспокойно теребят край простыни, и я слышу его слабый голос, когда он повторяет, борясь с одышкой: «Терпение, Уилли, терпение».
И тут я едва не расплакался, потому что это была самая горькая минута в моей мальчишеской жизни.
349

ИГРОКИ НИКОГДА НЕ ВЫИГРЫВАЮТ
В сером свете зимнего дня миссис Скерридж шевельнулась и открыла глаза – пригревшись у огня, она, видно, вздремнула, и сейчас ее разбудили легкие шаги мужа в спальне наверху; она сразу вскочила и при свете огня уже наполняла водой почерневший от копоти медный чайник, когда муж вошел в большую крестьянскую кухню, – его редкие темные волосы были спутаны, узкое острое лицо не брито, а веки набухли от сна, который он разрешал себе по субботам после обеда. Молча, даже не взглянув на жену, он пересек комнату, подошел к очагу и провел рукой по доске над ним в поисках окурка. Рукава его полосатой фланелевой рубашки без ворота
350
были закатаны выше локтя, темно-синий жилет распахнут. Помимо подтяжек, он всегда носил широкий кожаный пояс, который свободно висел на его тощем теле. Был он короткий, кривоногий, и ему пришлось бы подниматься на цыпочки, чтобы увидеть, что лежит на полке над очагом. Пошарив с минуту, он нашел недокуренную «вудбайн» и, скрутив бумажку, сунул ее в огонь, чтобы прикурить. От первой же затяжки он закашлялся и несколько мгновений беспомощно стоял, согнувшись, держась рукой за высокий старомодный очаг, в то время как в горле у него булькало и клокотало. Когда приступ прошел, он сплюнул в огонь, выпрямился, отер слюну с тонких губ тыльной стороной ладони и спросил:
– Чай готов?
Жена отстранила его от очага, поставила чайник на огонь и надавила покрепче, чтобы он лучше стоял на раскаленных угольях.
– Все можно приготовить, – сказала она, – если знать, чего тебе хочется.
Она подняла бумажку, которую Скерридж бросил возле очага, и зажгла висевшую над столом газовую лампу. Газ вспыхнул и загорелся – сначала ярким, потом сумрачным жалким светом, обнажив всю душераздирающую бедность комнаты: квадратный стол на пузатых ножках, выщербленных и исцарапанных за многие годы неосторожными ногами; стулья с торчащими пружинами и прохудившейся грязной обивкой; тонкий потрескавшийся линолеум на сыром каменном полу; в углу, на стене – большое бурое пятно сырости, точно кто-то выплеснул кофейник на грязные обои. Самый воздух в комнате, казалось, был пропитан затхлым запахом сырости и гниения, – запахом, который никакой огонь не в состоянии прогнать.
Скерридж потянулся за утренней газетой и открыл ее на спортивной странице.
– Я бы съел яичницу с ветчиной, – сказал он и сел к огню, поставив острые локти как раз в центре двух проплешин на ручках кресла.
Жена бросила сумрачный взгляд на развернутую газету.
– У нас нет яиц,– сказала она.
Скерридж опустил газету, и его светлые водянистые голубые глаза впервые посмотрели на нее.
351
– Что значит «нет яиц»?
– А то и значит, что нет. – И она добавила с каким-то угрюмым вызовом: – У меня не было денег на этой неделе, чтоб купить их. Они теперь пять шиллингов шесть пенсов за дюжину стоят. Вот и приходится от чего-то отказываться: не могу я все покупать при таких деньгах.
Скерридж раздраженно пожевал губами.
– О господи, господи! Неужели опять все сначала? То одно, то другое. И куда только ты деньги деваешь – ума не приложу.
– На тебя трачу, – сказала она. – Бог-то – он знает, какие крохи на меня идут. А тебя изволь кормить всегда хорошим. И чтобы все всегда было. Можно подумать, что ты не знаешь, сколько стоит жизнь. А ведь я тебе не раз говорила, что не хватает мне, но все впустую.
– Да разве я не дал тебе полкроны на прошлой неделе? – спросил Скерридж, выпрямляясь в своем кресле. – Разве не дал? Пора бы научиться тратить деньги: ты не со вчерашнего дня хозяйство ведешь.
Она знала, сколь бесполезно с ним препираться, и поспешила, по обыкновению, укрыться за стеной безразличия. Она зажгла газовую конфорку и поставила на нее сковородку.
– Я могу поджарить тебе хлеба с ветчиной, – сказала она, – Устроит?
– Наверно, устроит, раз ничего другого нет! – сказал Скерридж.
Она посмотрела на развернутую газету, и во взгляде ее не было ни ненависти, ни злобы, ни возмущения – лишь тупое безразличие, принятие жизни, как она есть, без всяких чувств и переживаний; очень редко поднимала она голос в знак протеста, да и то лишь потому, что еще не совсем утратила способность представить себе, какою ее жизнь могла бы быть.
Она накрыла Скерриджу на газете в конце стола, и, пока он ел, присела, скрючившись у огня, жуя кусок хлеба с ветчиной, левой рукою стянув ворот рабочей блузы на плоской груди. Лицо у нее было желтое, отекшее; темные, лишенные блеска волосы были стянуты назад и замотаны небрежным узлом на затылке; ноги, некогда составлявшие ее украшение, были обезображены уродливыми синими венами. Только черные как угли глаза и
352
сохранилась от этой некогда хорошенькой девушки, да и то красота их обнаруживалась лишь в те редкие минуты, когда в них вспыхивал гнев. По большей же части они были словно темные окна, за которыми пряталась душа, погруженная в транс, без мыслей и без чувств. Ей было немногим больше сорока пяти, но она износилась и преждевременно состарилась в нескончаемой борьбе со Скерриджем в этом унылом и мрачном доме, который одиноко стоял на холме над Крессли, отделенный целой вечностью от света, шума и тепла, которые несут с собой человеческое веселье.
Скерридж отодвинул тарелку и провел языком по жирным губам. Потом допил чай и поставил кружку на стол.
– С яйцом оно бы, конечно, лучше было, – сказал он. Указательный палец его машинально полез в карман жилета в поисках нового окурка. – Надо экономить, – сказал он. И причмокнул губами, как бы смакуя вместе с жирным хлебом это слово. – Экономить, – повторил он.
– На чем экономить-то? – устало спросила жена, хоть, и не надеялась получить сколько-нибудь разумный ответ. Она уже многие годы урезала себя, сокращая расходы там, где муж меньше всего мог это почувствовать, и сейчас ей оставалось лишь отказаться от самого насущного. Давно прошло то время, когда мелкие радости смягчали тяготы ее существования.
– А я откуда знаю? – сказал Скерридж. – Разве это мое дело? Я свои обязательства выполнил – поработал как следует и денег накопил.
– Ну, и проживаешь их.
– Ну, и проживаю. Что же, я уж и позволить себе ничего не могу, после того как целую неделю гнул спину, а? А как другие справляются? Да многие бабы были бы счастливы, если б имели столько, сколько я тебе даю. – И, поднявшись, он снова принялся шарить по доске над очагом.
– Из десяти женщин девять швырнули бы такие гроши тебе в лицо.
– Ну, конечно, – сказал Скерридж. – Я знаю, ты считаешь, что тебе худо живется. Всегда так считала. Но я-то знаю, что рассказывают мужчины в шахте, и, уж поверь мне, тебе живется лучше, чем ты думаешь.
353
Она промолчала, но мысли бурлили, будоражили её. О господи, ведь он же не всегда был таким, – во всяком случае вначале все было иначе, пока в него не вселился этот бес, алчный бес, толкавший его к легкой наживе и бездумной ленивой жизни. Она никогда не знала точно, сколько он зарабатывает, но однажды увидела мельком почтовый перевод, который он посылал в уплату за ставки на футболе, и цифра, стоявшая на нем, ужаснула ее: на эти деньги можно было пристойно, уютно жить, а он бессмысленно выбрасывал их на ветер.
Закурив сигарету, Скерридж выпрямился и посмотрел на жену – взгляд, его с необычным вниманием вдруг приковался к ней.
– Что это ты сделала с рукой? – спросил он. Он произнес это грубо, резко, без всякого тепла, словно боясь очутиться в ловушке, расставленной его чувствам.
– Да зацепилась за крюк для веревки, на которой я вешаю белье на заднем дворе, – сказала миссис Скерридж. – А он ржавый и острый как игла. – Она рассеянно взглянула на неуклюже сделанную повязку и безразличным тоном добавила: – Не удивлюсь, если заражение крови получится.
Он буркнул, отвернувшись:
– A-а, вечно ты во всем плохое видишь.
– Да ведь я не впервой об него кожу сдираю, – заметила она. – Вот если б ты мне новый крюк вбил, я бы больше не пользовалась этим.
– Ах, вот что! Если б я тебе новый крюк вбил! – ехидно передразнил ее Скерридж. – Если б я сделал то, если б я сделал это... Ты уж сразу выкладывай, что еще я должен для тебя сделать!
Заражаясь его настроением, она выбросила вперед руку и указала на большое пятно от сырости в углу.
– Вот, изволь! И добрая половина окон не закрывается. Пора наконец навести здесь порядок, а то, глядишь, весь дом рухнет нам на голову!
– Господи боже ты мой! – сказал Скерридж. – Да когда же ты оставишь меня в покое? Мало я, что ли, работаю в этой дыре, чтоб еще и дома гнуть спину? – Он снова схватил газету. – Да и потом все это денег стоит.
– Конечно, стоит. Кур кормить денег стоит, поэтому ты и перерезал их одну за другой. А теперь у нас и яиц нет. Сад в порядке содержать тоже денег стоит, поэтому
354
он весь и зарос. Сараи тоже денег стоят, поэтому они теперь и рассыпаются. У нас могла бы быть неплохая усадьба, которая кормила бы нас, когда бы ты ушел с шахты. Так нет, все стоит денег, и теперь у нас ничего не осталось.
Он зашуршал газетой и произнес из-за нее:
– Никогда наша усадьба не могла бы нас прокормить. Сколько бы я ни вложил в нее денег, все ушли бы как в прорву.
Страшная несправедливость этих слов вывела из себя даже эту долготерпеливую женщину, и, не в силах сдержаться, она дала волю гневу:
– Все равно, лучше тратить на это деньги, чем на пиво, да на футбол, да на собачьи бега, – вспылила она. – Чтоб жирели букмейкеры и всякие проходимцы.
– Ты, значит, считаешь, что я круглый идиот, да? Ты, значит, считаешь, что я выбрасываю денежки на всякую дрянь, да? – Пальцы его смяли края газеты, и из водянистых голубых глаз на нее глянул злобный бес. – Ты просто не понимаешь, на что я мечу. Я их всех рано или поздно обскачу. Так будет, непременно будет. Вся куча попадет мне в руки – вот тогда мы посмеемся.
Она отвернулась, чтоб не видеть этого бесовского взгляда, и пробормотала:
– Грешно играть...
Она сама в это не верила и, чувствуя несостоятельность своего утверждения, подивилась, почему она так сказала. Это были не ее слова, а слова ее отца: с какой стати после стольких лет она вдруг вспомнила его поучения?
– Не поминай при мне этого старого ханжу, – спокойно сказал Скерридж.
– Я уж и сказать тебе ничего не могу, да? – спросила она. – Ты, значит, сам все знаешь? Поэтому и твоя родная дочка ушла из дому: ты знал, чем ее прогнать. Смотри не доведи и меня до того же.
Ее слова заставили его вскочить с кресла – он стоял теперь над ней, лицо его дышало яростью.
– Не смей говорить о ней в этом доме! – рявкнул он – Неблагодарная сука! Не желаю ничего слышать о ней, ясно? – Он качнулся под приступом кашля и притулился к очагу, пока его не отпустило. Со свистом вдохнув и выдохнув несколько раз воздух, он сказал: —
355
А если хочешь уйти, можешь убираться в любое время.
Она понимала, что это только слова. Понимала и то, что никогда не уйдет. Она никогда всерьез об этом не думала. Ева, исподтишка навещавшая мать, когда отца не было дома, не раз спрашивала ее, как она может это терпеть, но она знала, что никогда его не бросит. С годами она все чаще и чаще вспоминала об отце и стала воспринимать свою жизнь, как предсказанную им неизбежную кару за грех, в который она впала, связав себя со Скерриджем и произведя Еву на свет. Еву, которая теперь, когда колесо судьбы сделало полный оборот, тоже ушла из дому без родительского благословения, хотя и по иным причинам. Нет, она никогда не покинет его. Но и жизни у нее с ним не будет – это уж точно. Со временем она поверила в предсказание отца о том, что ничего хорошего из их совместной жизни не выйдет, и теперь то и дело поддавалась, смутному, но все же тревожному предчувствию надвигающейся трагедии. Давно уже миновали те дни, когда она надеялась на то, что Скерридж образумится. Слишком он далеко зашел, и этот бес уже напрочь вселился в него. Но и она пересекла рубеж, когда возврата быть не может. На горе или на радость – она связана с ним, так сложилась ее жизнь, а от жизни не убежишь.
Они продолжали сидеть у огня – два человека, таких близких и таких чужих, – и молчали, потому что им нечего было друг другу сказать; часов около шести Скерридж поднялся с кресла, умылся и кое-как побрился возле умывальника в углу. Она тупо смотрела на его приготовления к уходу.
– Собачьи бега? – спросила она.
– Сегодня ведь суббота, не так ли? – вопросом на вопрос ответил Скерридж, надевая пиджак.
Чувство предстоящего одиночества вдруг навалилось на нее, и она сказала с плаксивой ноткой в голосе:
– Почему ты как-нибудь в субботу меня с собой не возьмешь?
– Тебя? – сказал он. – Взять с собой тебя? Да неужели ты считаешь, что с тобой можно куда-нибудь пойти? Ты только посмотри на себя! А ведь какая ты была раньше!
Она отвела глаза. Теперь она и обижаться перестала. Но ведь и она могла вспомнить, каким он был раньше, —
356
правда, она теперь редко этим занималась: подобные воспоминания пробуждали в ней отчаяние, пересиливавшее даже апатию, которая стала с годами единственным ее прибежищем.
– Когда же ты вернешься?
– Когда переступлю порог, тогда и вернусь, – сказал он уже в дверях. – И наверняка ужинать захочу.
А порог он переступит, когда нетвердые ноги приведут его домой, подумала она. Если он проиграет, то напьется, чтобы утешиться. Если выиграет, то напьется, чтоб отпраздновать выигрыш. А на ее долю в любом случае останется лишь злость да новые оскорбления.
Через несколько минут после того, как он ушел, она поднялась и подошла к задней двери, чтобы посмотреть, что происходит на дворе. Снова шел снег, и его легкий чистый пушок смягчал резкие, уродливые очертания разваливающихся построек на участке за домом и засыпал следы Скерриджа, шедшие от двери вниз по склону, в направлении леса, который пересекала тропка, выходившая на шоссе в миле от них. Женщина вздрогнула, почувствовав дыхание холодного воздуха, и вернулась в дом, захваченная помимо воли воспоминаниями. Было время, когда сараи стояли крепкие, прочные и служили пристанищем для домашней птицы. Сад и огород тоже выглядели иначе и снабжали их овощами и фруктами, которые не только удовлетворяли их собственные нужды, но еще и, шли на рынок. Сейчас огород зарос сорняками и щавелем: Ну, а дом – они купили его задаром, потому что он был старый и слишком большой для одной хозяйки, но и он в свое время был крепким и прочным и неплохо выглядел, если его исправно красить, подправлять стены и следить за рамами. В первое время, видя, как все начинает расползаться, она пыталась сама что-то делать. Но это была неблагодарная безнадежная борьба без всякой поддержки со стороны Скерриджа, – борьба, в которой она под конец потерпела поражение и которая привела к тому, что сначала она впала в отчаяние, а потом в апатию. Теперь все гнило и разваливалось, и это постепенное умирание было как бы символом ее собственного превращения из полной надежд молодой жены и матери в уславшую от жизни старуху.
Раздумывая обо всем этом, она вымыла чашки и поставила их сохнуть. Потом взяла ведро для угля и пошла
357
вниз в большой погреб, где было темно как в склепе и капало с потолка. Там она наполнила ведро и потащила его наверх. Заправив огонь, навалив в очаг целую гору сырого блестящего угля, она почувствовала некоторое удовлетворение от того, что хоть в этом благодаря шахтерскому пайку, положенному Скеррижду, они никогда не терпят недостатка. Затем она включила приемник на батареях и протянула ноги в рваных парусиновых туфлях к огню.
По радио передавали программу старинной танцевальной музыки – «Сельский вальс», «Велета», «Мы, уланы», «Ты моя медовая кашка, а я пчела...» Оба они – и она и Скерридж – в те далекие, далекие дни любили старинные танцы и, презирая современные фокстроты, в первые годы замужества часто кружились в вальсе, пока какая-нибудь добрая соседка смотрела за малюткой Евой. Ах, какие это были чудесные дни – короткая эра блаженной свободы, когда строгие ограничения родительского дома остались позади, а безумие Скерриджа еще было сокрыто во мраке будущего. Ах, какое это было время... Сегодня словно все сговорилось тревожить ее память: она сидела перед приемником, и знакомые мелодии поднимали со дна души давно затонувшие картинки и прибивали их к берегам ее сознания; тогда она взяла свечу и поднялась в холодную, похожую на сарай спальню, взобралась на стул и долго рылась в ящике над встроенным в стену гардеробом, пока не извлекла оттуда альбома с фотографиями. Вытерев заплесневелую крышку о свою рабочую блузу, она спустилась с альбомом вниз, к огню. Она многие годы не заглядывала в этот альбом и сейчас медленно переворачивала страницы, возвращаясь к дням своей юности.
Она заснула и проснулась от неожиданного стука в заднюю дверь, – газовая лампа потухла, и комнату освещали лишь отблески огня, догоравшего в очаге. Она подумала было, что стук ей послышался, но он повторился, на этот раз более настойчивый, тогда она встала и, подняв и положив на стол альбом с фотографиями, который соскользнул с ее колен на пол, пока она спала, вышла в сени.
Остановившись в нескольких шагах от двери, она крикнула: «Кто это? Кто там?» Дом-то ведь стоял в стороне от жилья, и, хотя нервы у нее были крепкие, на этот раз, внезапно пробудившись от сна, она почувствовала легкую тревогу.
– Это я, – ответил женский голос. – Ева.
358
– Ох! – выдохнула миссис Скерридж и, подойдя к двери, отодвинула засов и распахнула ее. – Входи, моя радость, входи. Я тебя не ждала сегодня. Ты, наверно, совсем застыла.
– Подожди минутку, – сказала дочь,—я только крикну Эрику. – Она дошла до угла дома и крикнула в темноту. Мужской голос ответил ей, потом с дороги, пролегавшей мимо фасада, раздался захлебывающийся кашель мотоцикла.
– Я уж думала, что тебя нет дома, когда увидела, что темно, – сказала Ева, вернувшись. Она отряхнула снег с сапог и только тогда вошла в сени. – Что ты делаешь в темноте? Только, пожалуйста, не говори, что у тебя нет денег на газ.
– Он погас, пока я дремала.
Они прошли по выложенному каменными плитами коридору на кухню, освещенную огнем из очага.
– Я сейчас найду кошелек – может, у меня там есть медяки.
– Подожди, – сказала Ева и достала свой кошелек. – У меня есть шиллинг – дольше гореть будет.
– Да у меня тоже есть медяки... – начала было мать, но Ева уже вышла из комнаты, и каблуки ее застучали по ступенькам, ведущим в погреб. Миссис Скерридж поднесла свернутую бумажку к огню и, услышав звон шиллинга, упавшего в счетчик, зажгла газ.
– А Эрик что, не зайдет? – спросила она у Евы, когда та вернулась.
– У него заседание футбольного клуба в Крессли, – сказала Ева. – Он заедет за мной на обратном пути. Тогда, может, и заглянет на минутку.
Мать смотрела на дочь – та сняла с головы платок и подправила пальцами каштановую шевелюру со свежим перманентом.
– Занятой молодой человек, этот твой Эрик.
– О, за ним не угонишься – его так и рвут на части.
Ева сняла толстое твидовое пальто. Под ним оказалось темно-зеленое шерстяное платье. Вокруг высокого ворота вилось ожерелье из поддельного золота, запястье Евы украшал такой же браслет. Дух преуспеяния и благоденствия вошел вместе с ней в жалкую комнату.
– На прошлой неделе его сделали мастером, – сказала она с легкой гордостью в голосе.
359
– Повысили, значит, да?
Ева приподняла на бедрах юбку, чтоб не вытягивалась сзади, и села в кресло отца. Она сняла меховые зимние сапоги и положила на решетку очага ноги в нейлоновых чулках.
– Рано или поздно он станет управляющим, – сказала она. – Все говорят, что уж очень он толковый.
– Приятно слышать, когда молодой человек в гору идет, – сказала ее мать, – а особенно если этот молодой человек имеет к тебе отношение.
Ева провела ладонями по икрам и приподняла подол платья, чтобы погреть колени. Она была худенькая, тоненькая, зябкая – она вечно мерзла зимой в этом доме. Протянув руки, она пригнулась ближе к огню.
– Бр-р-р! Ну и погодка... Можно живьем замерзнуть.
– Надеюсь, с твоим Эриком ничего не случится на мотоцикле.
– О, за него можно не беспокоиться. Он ездит осторожно. И потом он сегодня с коляской – в такую погоду оно лучше... Ты что, порезалась? – спросила она, только сейчас заметив повязку на руке матери.
Миссис Скерридж рассказала, что случилось, и Ева промолвила:
– Смотри, это не шутка. Еще заражение начнется.
Миссис Скерридж передернула плечами: подумаешь.
– Это всего лишь царапина. Я ее смазала мазью. Через день-два пройдет...
– Мне нравится твое платье, – сказала она немного погодя. – Новое?
– Ну, как тебе сказать? Я надевала его раза два или три. Я купила его в Лидсе, когда мы ездили искать мебель. Увидела в витрине у Крестона – ну, знаешь, в районе Бриггейт, – и уже глаз оторвать не могла. Эрик заметил, что я на него загляделась, и купил. Я понимала, что мы не можем позволить себе такую трату, когда у нас такие расходы с переездом и прочее, но он меня уговорил. – И она рассмеялась от удовольствия, какое доставляет каждой женщине щедрость мужа.
– Вы что же, уже переехали, значит?
– Да, слава богу. Правда, пройдет еще немало времени, прежде чем мы устроимся: ведь все такое новое. Но мы точно в раю после нашего прежнего жилья.
360
– Да, уж наверно. Но ты ведь, кажется, ладила со своими хозяевами? У тебя никогда не было с ними неприятностей?
– Что ты! Конечно, никогда. Ну, бывало, скажешь там слово-другое, но миссис Уолшоу – женщина сдержанная, настоящая леди, так что лаяться она ни с кем не станет. У нее, правда, такая манера смотреть на всех свысока – мне это не по душе. Но уж очень ей Эрик нравился – у нее с мистером Уолшоу никогда не было детей – и она, видно, считала, что нет такой девушки, которая была бы под стать ему. Нет, с миссис Уолшоу невозможно поссориться. Она настоящая леди. По ней никогда не скажешь, что разбогатела она, торгуя рыбой с картошкой и сдавая комнаты постояльцам.
– Да, люди бывают всякие... Значит, у тебя было много дел сейчас, да?
– Ой, ты и представить себе не можешь сколько. Надо было все вымыть, и покрасить, и купить мебель, и сшить занавески – целый месяц на это ухлопала. Зато у нас такой чудесный дом, мама. Когда Эрик уходит на работу, я частенько хожу по комнатам и все говорю себе: это в самом деле наш дом. И никак поверить не могу. Все мне кажется: вот проснусь утром, открою глаза и увижу, что я снова лежу в комнате миссис Уолшоу...
Они немного помолчали; Ева потирала ноги, протянутые к огню. Потом миссий Скерридж заботливо спросила:
– А тебе не... А ты не боишься, что вы немного зарвались, а? Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать: не слишком ли большие вы взяли на себя обязательства.
– Ну, что ты! – сказала Ева. – За нас можешь не беспокоиться. Мы все время откладывали с тех пор, как поженились. И мы оба работаем. И Эрик, пока жил холостяком, приучился к аккуратности. Он не разбрасывается деньгами, как многие другие. Нет, за нас можешь не беспокоиться. Теперь нам, конечно, придется, поужаться, но мы вылезем, можешь не сомневаться.
– Ну, тогда ладно, – сказала, сразу успокоившись, мать. – Ты свои дела знаешь лучше меня. А я только рада, что ты наконец устроилась в собственном доме.
– И ты теперь сможешь навещать нас, когда захочешь, – сказала Ева. – Это недалеко – всего каких-нибудь полчаса на автобусе из Крессли.
361
– Да, надо будет как-нибудь выбраться. Вот выдастся погожий денек – непременно к вам загляну. Только бы погода установилась хорошая.
Ева подставила огню колени.
– Ну, —сказала она,– а ты как живешь?
Миссис Скерридж слегка пожала плечами.
– Да так, живу. Вот поясницу иной раз схватит. А в общем, ничего, не жалуюсь. Конечно, я бы лучше себя чувствовала, если б погода была посуше. А то, когда снег на земле лежит, кажется, будто ты здесь от всего мира отрезан. Ведь до ближайшего дома добрых полмили будет. А вечером по дороге почти никто и не ездит.
– Надо бы тебе почаще выбираться из дому, – заметила Ева, – а не сидеть взаперти из вечера в вечер.
– Да, наверное. Только вот отвыкаешь. Да и потом погода...
– Ну, про папашу я могу не спрашивать, – сказала Ева. – Его, видно, погода дома не удерживает. Куда это он сегодня умотался? В город?
Мать кивнула, глядя в огонь.
– На собачьи бега, должно быть.
– А тебя, как всегда, оставил одну.
– Ну, какое же удовольствие тащиться куда-то в такой вечер.
Ева кивнула:
– Я эту песенку знаю. – Она глубоко вобрала в себя воздух. – Но не понимаю, как ты можешь терпеть. Честное слово, не понимаю. – Она обвела глазами комнату, и зрелище, представшее ее взору, было настолько жалким, что она еле сдержала дрожь отвращения.– Слава богу, что хоть я выбралась отсюда, как только случай представился.
– Ну, ты – это другое дело, – сказала мать. – Ты в любом случае ушла бы со временем.
– Да нет, не ушла бы, если б он сумел настоять на своем. Его бы вполне устроило, чтоб две женщины ухаживали за ним. Да и деньги мои его бы устроили: он тогда мог бы больше себе оставлять. – Она помолчала и, не сдержавшись, разразилась потоком злых, возмущенных слов: – Не понимаю я этого. Просто не понимаю. Муж должен быть – ну, вот как Эрик. Должен относиться с вниманием к жене, должен холить ее. А когда он перестает быть таким, то и жена может махнуть на него рукой. Ты же моему отцу ничем не обязана. Ты можешь
362
уйти отсюда сегодня, сейчас, и никто тебя за это не осудит. И ты знаешь, есть такое место, где тебя в любую минуту примут. Теперь такое место у тебя есть.
Миссис Скерридж проницательно посмотрела на дочь, сидевшую к ней в профиль, разрумянившуюся от жара, который исходил от очага, и от бурлившего в ней возмущения.
– А Эрик тоже так думает? – спросила она. – Что он-то думает по этому поводу?
– Ну... Он думает так же, как я. Он тоже не понимает, почему ты здесь торчишь.
– Но это еще не значит, что он будет счастлив поселить тещу в своем новом доме. Особенно такую, как я.
– А что же в тебе такого особенного?
– Ну, мне кажется, он не считает, что я самая приятная женщина на свете.
– Но ты можешь быть приятной!– воскликнула Ева. – И станешь приятной, если уйдешь отсюда. Конечно, какой тебе смысл следить за собой здесь, когда ты неделями никуда не выходишь, а вокруг на многие мили нет никого, и муж твой тратит все деньги на пари да на вино? Интересно, у кого бы хватило духу гордиться такой жизнью?
– Видишь ли, мое место рядом с твоим отцом, Ева, и тут уж ничего не поделаешь.
– Но не собираешься же ты...
– Хватит, – промолвила мать тихо.
Ева сказала: «О!» и нетерпеливым движением опустила ноги на пол. Из приемника по-прежнему гремела какая-то музыка.
– Ты непременно хочешь это слушать?
– Можешь выключить, если тебе мешает. Я слушала старинную танцевальную музыку, но она уже кончилась.
Ева обогнула кресло и выключила приемник. Наступила тишина; она продолжала стоять спиной к матери, держа руку на крышке приемника.
– Мама,– сказала она вдруг и повернулась к ней лицом, – я незаконнорожденная?
Мать вздрогнула.
– Нет, что ты.
– Но вы с отцом вынуждены были пожениться из-за меня, правда?
– Нет, нет. Все было немножко не так. Поженились мы, правда, когда поняли, что ты должна появиться на
363
свет, но мы и без того поженились бы. Никто нас к этому не принуждал. – Она спокойно выдержала взгляд дочери. – А как ты об этом узнала?
– О, я уже давно об этом раздумываю, – сказала Ева, продолжая стоять за креслом. – Достаточно было сравнить несколько дат, чтоб убедиться.
– Ты сказала об этом Эрику?
– Нет.
– А собираешься сказать?
– Не вижу в этом надобности.
– Я тоже, – сказала миссис Скерридж. – Но ведь не думаешь же ты, что это может иметь какое-то значение?
– Не знаю, – откровенно призналась Ева. – Он... Видишь ли, он в некоторых вопросах держится очень строгих правил, наш Эрик. И мне не хотелось бы портить...
– Но никто не может назвать тебя незаконнорожденной, Ева, – сказала миссис Скерридж. – Мы же поженились за много месяцев до того, как ты... – Она посмотрела в огонь. – Извини меня, девонька, я никогда не считала нужным говорить тебе об этом.
– Тебе, во всяком случае, не за что извиняться.– Ева поджала губы. – Не ты виновата в этом, а он.
– Нельзя так ненавидеть своего отца, Ева.
– Да как я могу относиться к нему иначе, когда все, что с ним связано, сплошная мерзость? Он испортил тебе жизнь и испортил бы мне, если б я не воспротивилась. Он даже жениться по-человечески не мог, и тебя к себе привязал только потому, что ты в беду попала.








