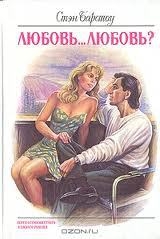
Текст книги "Любовь... Любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
182
и разворошить все эти воспоминания о том, как мы целовались, заставить меня вспомнить, что я чувствовал, когда ласкал ее и держал в объятиях, вспоминать, какое у нее крепкое, упругое тело и какая нежная кожа, особенно в тех местечках, которые нельзя видеть. В секретных местечках. Именно в этом, должно быть, ее сила, именно это так и волнует – то, что они секретны для всех, кроме меня. Ведь, что ни говори, этот дар она приносит только мне одному, только мне она позволяет все это, и тот же Уилли, к примеру, наверняка сказал бы, что я кретин, если упустил такую возможность.
А теперь вот она снова говорит о любви, а мне казалось, что в этом смысле мы с ней уже давно поставили все точки над i.
Я знаю – она ждет, чтобы я ей ответил, но я не в состоянии бесстыдно лгать ей в глаза. А как я могу сейчас, после того, что только что было, сказать, что не люблю ее? Разве она поймет, разве я сумею объяснить ей все, что я чувствую? Да я сам был бы рад, если бы кто-нибудь помог мне разобраться в себе! К тому же женщина едва ли может чувствовать то, что чувствую я, по-видимому, женщины устроены в этом отношении иначе, им непременно нужно, чтобы была любовь.
Но она задала вопрос и ждет ответа.
– Не знаю, – говорю я.
Она молчит. Потом спрашивает:
– Ты любишь другую девушку?
– Нет. – И это тоже отчасти ложь, хотя, с ее точки зрения, я сказал истинную правду – ведь, задавая свой вопрос, она, конечно, не имела в виду женщины, которой я даже никогда не видал, которая не существует в действительности, а только в моих мечтах.
Мы лежим на моем плаще под деревьями в самом глухом углу парка, куда не заглядывает никто, кроме влюбленных парочек. Вечер на редкость хорош. Теплое солнышко пробивается сквозь листву, и на траве вокруг нас шевелятся узорные тени. С вершины холма я гляжу вдаль, а Ингрид, словно прочтя мои мысли, неожиданно говорит:
– Ты помнишь тот вечер, когда мы сидели там внизу на скамейке, помнишь, что ты тогда сказал?
– Да... помню.
– Ты тогда правду говорил, Вик?
183
– Вероятно, правду, иначе зачем бы я стал это говорить. Я был очень взволнован тогда.
– Тогда ты говорил правду, – говорит она. – Я знаю, что это действительно было так. Тогда ты хотел видеть меня не просто ради того, чтобы чего-то добиться, верно ведь?
Она говорит это слишком напрямик, и я чувствую, что краснею. Одно дело думать про себя, что ты скотина, а другое дело, когда тебе об этом говорят в лицо. А главное – ведь на самом-то деле я вовсе не такой. Нет, я не скотина. Я не хочу поступать подло ни с ней, ни с кем бы то ни было. Я не хочу ее обижать. Но ведь она сама хочет встречаться со мной. Разве не так? И ведь это она сама все затеяла. Разве не она?
– Я бы никогда не зашел так далеко в тот вечер, если бы ты не дала мне понять, что ты этого хочешь.
– Дала тебе понять? – говорит она. Как же это я дала тебе понять?
– Ты целовала меня так... Ну ты знаешь. Я даже твой язык чувствовал. И я считал, что ты даешь мне понять...
– Я не знала, что это имеет такое значение. Я просто хотела поцеловать тебя как следует... Ты, значит, все это время думал, что я слишком доступна.
– Нет, я этого не думал. И тогда я этого не думал и теперь не думаю. Я... Ах, не могу я тебе этого объяснить. Просто не могу – и все.
Знаю, что она любит меня, и мне хочется сказать ей, что именно в этом-то и вся разница. Но как можно сказать такую вещь? Ведь это значит, что я черт те что о себе воображаю. А тогда и подавно получится, что я просто хотел воспользоваться.
– Ты ведь не веришь тому, что наболтала в тот раз про меня Дороти, правда, Вик? Ты ведь не думаешь, что я встречалась так с кем-нибудь еще?
– Нет, конечно нет.
Меня это не слишком волнует, по правде говоря. Ни секунды не сомневаюсь, что я не единственный парень, который лазил к ней под юбку, но, быть может, дальше у нее с ними дело не заходило. Ведь она должна была бы вообразить, что влюблена в этого парня по уши, чтобы ему все позволить. Такая уж она девчонка.
Она обхватывает меня за шею и притягивает к себе.
– Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, Вик? Ты мне нравился еще до того, как мы начали встречаться с тобой.
184
Просто удивительно, как все в этой истории выглядит теперь совсем по-другому с самого начала. Конечно, я сейчас должен поцеловать ее, раз она говорит мне такое, но только для меня это ничего не меняет, весь ее заряд пропал даром.
Мимо холма неподалеку от нас проходит какая-то парочка, и я говорю:
– Пошли, пока сторож нас не прогнал.
– А чем мы ему помешали?
– Да все равно уже поздно.
Она садится, достает из сумочки пудреницу, губную помаду и расческу и начинает прихорашиваться. Я лежу, наблюдаю за ней, и мне хочется, чтобы она побыстрее закончила эту волынку и мы могли уйти. Я все-таки не в состоянии этого понять. Ну просто никак не могу понять, что такое происходит с человеком, отчего все вдруг так меняется! Она застегивает все эти свои молнии и крючки, и я привожу себя в порядок тоже, и мне до смерти не терпится, чтобы она наконец встала и мы могли смотаться отсюда.
– Как идут дела у вас на заводе? – спрашиваю я, чтобы что-нибудь сказать, когда мы направляемся на конец к воротам парка.
– Да все по-старому.
Мы подходим к воротам, отсюда ей идти домой по шоссе, а мне обратно, вдоль ограды парка. Она смотрит на меня и ждет, что я ей скажу, и я это понимаю.
– Можно звонить тебе на работу?
Она кивает.
– Лучше, всего в обеденный перерыв. Минут двадцать второго, когда мы уже возвращаемся из столовой.
– Эти дни у меня будет довольно много дел. А на следующей неделе я тебе позвоню, не знаю только когда.
– Если захочешь.
Она думает, что я говорю это просто, чтобы отвязаться, – я понимаю это по выражению ее лица. Ну что ж, быть может, так даже лучше. Быть может, если она сейчас разозлится на меня и скажет, чтобы я катился ко всем чертям, это будет самое правильное.
Но она этого не говорит. Она говорит: «Пока», и мы прощаемся и она уходит по шоссе, а я смотрю ей вслед. Знаю, что у нее сейчас очень скверно на душе, да и сам я отнюдь не чувствую себя на вершине блаженства.
185
IV
Так вот оно и тянется у нас все лето и всю осень, и снова подходит зима. Иной раз мы встречаемся с ней два раза на неделю, а иной раз не видимся дней по двадцать, а то и больше. Потом либо она звонит мне, либо я звоню ей, и нас снова бросает друг к другу. Она больше никогда не говорит о любви, и, в общем, кажется, мы оба решили принимать вещи такими, как они есть. Я нужен ей хотя бы так, потому что она знает: требовать большего – значит потерять меня совсем. Мне же временами кажется, что я никогда в жизни не захочу больше ее видеть, а временами у меня нет других желаний, кроме одного: раздеть ее и положить в постель. Только мы никогда не заходим так далеко. Не знаю, что бы она сказала, если бы я ей это предложил, но я еще не настолько рехнулся, чтобы пойти на такой риск, даже если она захочет. Но не думать об этом я не могу.
В октябре мне исполнился двадцать один год, и я начал приносить домой деньги за мой стол. Наша Старушенция как будто всегда мечтала закатить по этому поводу пир, но я сказал, что мне этого совсем не хочется, и они с отцом подарили мне шикарные золотые часы с браслетом.
Дня два спустя я встретился с Ингрид. Она прислала мне поздравительную открытку, и я поблагодарил ее, хотя считал, что зря она это сделала, потому что наша Старушенция, ясное дело, так и впилась в открытку глазами.
Вечер был прохладный, сеял обложной дождь, в кино смотреть было нечего, и я повел Ингрид в «Голубую птицу» выпить кофе. Обычно я не вожу ее в такие места. Легко можно нарваться на кого-нибудь из знакомых, и, уж конечно, они вообразят невесть что.
– Я думала, ты не придешь, —говорит Ингрид, когда мы усаживаемся за столик в углу. На ней зеленый плащ, он совсем промок на плечах. Она стаскивает с головы платок, волосы у нее тоже намокли и слиплись.
– Я был на донорском пункте. Совсем забыл, что мне назначено на сегодня, а то бы сговорился с тобой на полчаса позже.
– Я не знала, что ты сдаешь кровь.
– Да, время от времени.
– А как это получилось?
186
– Им потребовались новые доноры, и один из вербовщиков зашел к нам как-то вечером. Я решил, что раз им это так нужно, почему бы не сдать пинту-другую.
– А это больно, когда берут кровь?
– Нет, совсем не больно. Мой отец тоже сдает, да и многие еще. Когда к нам приходили, в нашем доме записалось еще двое.
Она ужасно фасонит, когда пьет кофе, – отставляет мизинец, как светская дама. У нее масса разных этих ужимок, от которых меня корежит.
– Я бы, наверное, не вынесла вида всей этой крови, – говорит она, – особенно своей собственной.
– Да ты там не видишь никакой крови. Банка все время стоит на полу. Можешь, конечно, увидеть, если подглядишь вниз, но тебя же никто не заставляет.
– А я думала... Я видела в кино...
– Это ты видела, как переливают кровь. Тогда банку подымают кверху.
– Ах, вот как.
– Потом они посылают тебе открытку – сообщают, как твоя кровь была использована.
– А твоя кровь была использована хоть раз при каких-нибудь необычайных обстоятельствах?
– Ну, видишь ли, у меня первая – очень распространейная – группа крови, да и сдавал-то я всего четыре раза. – Достаю из кармана небольшую синюю карточку и показываю сделанные на ней наклейки – по одной за каждую сдачу. – Чаще всего она идет на обычное переливание крови после операции. Но ведь это всегда приносит пользу. Невольно думаешь обо всех этих беднягах, которые в твоей крови нуждаются, и о том, что, как знать, может и ты когда-нибудь окажешься в таком же положении. Представляешь, как было бы паршиво, если бы им не смогли вовремя перелить кровь.
Она поеживается.
– Надеюсь, что мне никогда этого не понадобится. Думать не могу обо всех этих операциях. Хватит с меня моей сломанной руки.
– Никогда не знаешь, что тебя ждет, – говорю я.
Она пьет кофе, а я поглядываю по сторонам. Вечер дождливый, и в кафе народу много, самого разнокалиберного, но больше молодежь – пришли убить вечер и пофлиртовать. За одним из столиков в центре зала – боль-
187
шая компания; девчонки в джинсах, со взбитыми прическами и парни – тоже в джинсах и в полосатых свитерах под пиджаками. А один – стриженный чуть не наголо и в кожаной куртке. Работает под голливудского ковбоя. У нас все сейчас помешались на этих янки. Как только что-нибудь заведется в Америке, так уж и у нас перенимают. Взять хотя бы этот рок-н-ролл. Ну, а я хочу походить только на англичанина, так как считаю, что Англия – самая прекрасная страна на свете. Хотя, конечно, не для всех у нас такое уж отличное, такое райское житье. Вон у стены один-одинешенек сидит какой-то старикан, и хотелось бы мне знать, что он обо всем этом думает. Даже со спины видно, что он не бреется уже вторую неделю и не помнит, когда в последний раз был в парикмахерской. На нем старая фетровая шляпа с дырой на макушке и грязный морской бушлат без пуговиц, подпоясанный веревкой. Когда в наши дни встречаешь такого типа, становится как-то не по себе и, конечно, начинаешь думать, что никто, кроме него самого, в этом не виноват. Верно, допился до такого состояния – и все. Небось лень было работать, вот и бил баклуши всю жизнь. Может, и так, почем я знаю.
И все Же, как бы там ни было, а вон он сидит, старый и одинокий, и небось без гроша в кармане, и, когда я на него гляжу, у меня внутри все ноет от жалости, и никуда от этого не денешься.
– На кого это ты все время смотришь? – спрашивает Ингрид, которая следит за мной.
– Ни на кого. Просто глянцу, и все. Просто моя голова повернута в ту сторону.
– Ты что, боишься встретить кого-нибудь из знакомых?
– Почему я должен бояться?
– Мне иногда кажется, что ты стыдишься появляться со мной, – говорит она, опуская глаза в чашку.
– Почему я должен стыдиться? – говорю и чувствую, как пылает у меня лицо.
Она пожимает плечами.
– Не знаю. Просто мне так кажется порой.
Я концом спички развожу из пролитого кофе на столе узоры, а она отворачивается и смотрит по сторонам.
– Ну вот, – говорит она, помолчав,– ты теперь стал совершеннолетним. Как ты себя при этом чувствуешь?
188
Я смеюсь.
– Спроси меня что-нибудь полегче.
– Ты получил хорошие подарки?
Протягиваю руку над столом, показываю ей часы.
– Отец и мать подарили. Сила, верно?
Она берет мою руку, поворачивает так, чтобы получше рассмотреть часы.
– Прелесть, какие Часики... А что ещё тебе подарили?
– Ну, Джим купил мне галстук, Крис и Дэвид – сборник детективных рассказов и долгоиграющую пластинку – Шестую, патетическую, симфонию Чайковского.
– Ишь ты! – говорит она и подымает брови. – Вот мы какие стали высококультурные!
Меня злит неимоверно. Она ведь совершенно уверена, что всякие модные тявканья и завывания – высшее достижение музыкальной культуры.
– А что в этом плохого? – спрашиваю. – Эта симфония была написана, чтобы доставить людям удовольствие, не так ли? Так что плохого, если она мне нравится?
– O, ровным счетом ничего. Просто очень многие делают вид, что любят всякие такие вещи, потому что воображают будто они от этого становятся личностью.
– Ты же знаешь, что на меня это непохоже.
Она пожимает плечами.
– Ну если тебе это нравится – на здоровье. А я этих симфоний терпеть не могу. Я люблю, чтоб была мелодия.
– Но там же полно мелодий, – говорю я. – У Чайковского столько мелодий, что... – Я умолкаю. Какого черта буду я оправдываться, если мне нравится что-то действительно стоящее, а не последний предмет всеобщего помешательства из ансамбля Свистозвоногромопляски – какой-нибудь чудо-мальчик, который пробрался на экраны телевизоров, потому что ему посчастливилось обзавестись клетчатой рубахой, гитарой и изрядной долей нахальства!
И мы сидим за столиком, подперев руками подбородки, и молчим.
– Может выпьешь еще кофе? – спрашиваю я наконец.
– Пожалуй, – говорит она. – В такой дождь все равно никуда не пойдешь.
– Дождь, вероятно, уже прекратился.
189
– Трава будет мокрая.
Я смотрю на нее.
– Ты какая-то странная сегодня. Зачем тебе понадобилось все портить?
– Сегодня вообще неудачный для меня день, – говорит она.
– Ах, так вот в чем дело!
– Отчасти в этом и еще кое в чем.
Отвожу глаза в сторону и жалею, что пришел. Я совсем не этого ждал. Мне еще никогда не приходилось видеть ее в таком настроении. Она бывала задумчива порой, даже, пожалуй, замкнута, но такой насмешливо-язвительной я ее еще никогда не видел. А впрочем... Едва ли я имею право ее осуждать.
– Я принесу еще кофе.
Иду к стойке, которая занимает все пространство вдоль одной из стен кафе. Здесь под высоким стеклянным колпаком лежат горы бутербродов, пирожных, сдобных булочек с кремом и еще всякой всячины, а посредине возвышается сверкающая никелем электрическая кофеварка, над которой поднимается пар. При виде такой кучи съестного меня, как всегда, когда я не голоден, начинает немного подташнивать.
Возвращаюсь к нашему столику и вижу, что рядом с моей тарелкой лежит какой-то плоский предмет в оберточной бумаге.
– Что это такое?
– Открой и посмотри.
Разворачиваю бумагу и вижу портсигар.
– Поздравляю с днем рождения и желаю счастья, – говорит она.
Верчу портсигар в руках, разглядываю его. На маленькой квадратной пластинке выгравированы мои инициалы: В. А. Б. Она не забыла даже моего второго имени. Внезапно я чувствую, что это трогает меня, трогает до глубины души. Мне хочется взять ее за руку и сказать: у «Я люблю тебя, Ингрид. С этой минуты все будет по-другому». Но я не могу этого сделать, так как знаю, что это неправда.
– Нравится тебе?
– Очень... Честное слово... Спасибо тебе большое, Ингрид. И ведь это именно то, чего мне так хотелось... У меня никогда не было портсигара.
190
Я все смотрю на портсигар – на нее я не гляжу – и говорю:
– Мне... мне бы хотелось, чтобы у нас все было по-другому, Ингрид... Мне, правда, хотелось бы.
– Но это невозможно? Да?
– Я не хочу поступать подло по отношению к тебе, ты это знаешь.
– Я этого и не считаю.
Я открываю портсигар.
– Сколько сюда помещается, пятнадцать сигарет?
– Да, пятнадцать.
– И тут еще эта металлическая пластинка, чтобы их придерживать. Мне это нравится больше, чем пружинки, – те мнут сигареты.
– Я хотела наполнить его, – говорит она, – да не успела зайти в табачный магазин.
– Ты купила его сегодня?
– Он был у гравировальщика. А сегодня после работы я его взяла.
– Это классный портсигар, Ингрид, честное слово. Щелкаю портсигаром и смотрю на мои новые часы.
– А что, если нам все-таки пойти в кино? В «Рице» идет новая картина – что-то про войну. Рискнем – может, неплохая?
Она кивает.
– Давай попробуем.
Мы допиваем кофе и направляемся к выходу. Когда мы проходим мимо старика, я замечаю, что он все еще старается растянуть свою чашку чая подольше, и невольно сую руку в карман и достаю полкроны.
– Вот, выпейте еще чаю за мое здоровье. – Кладу монету возле его чашки, а он молча и вроде как испуганно глядит на меня, и я догоняю Ингрид.
– Что он тебе сказал? – спрашивает она, когда мы спускаемся по лестнице.
– Так, ничего особенного.
– Просил у тебя денег?
– Да нет, он вообще не промолвил ни слова.
– Но ты все-таки ему дал? Дал ведь?
– Ну, предположим так, что из этого?
– И сколько же ты ему дал?
– Полкроны.
– Полкроны! Чего это ради!
191
– Просто мне стало его жалко, вот и все. Кажется, это не запрещено законом? Ты так говоришь, словно я швырнул полкроны в канаву.
– А ты и швырнул. Можно не сомневаться, что он прямой наводкой мчится сейчас в ближайшую пивную.
– Ну, это уж его вина, а не моя. Если он такой кретин, что пропьет деньги, это уж не моя забота.
Мы идём рядом, и она берет, мою руку и стискивает ее.
– Чудной ты, – говорит она.
– А то я сам не знаю, – говорю я.
Через несколько минут мы сидим в темном кинозале в одном из последних рядов, и я прижимаю ее к себе и целую, и опять мне начинает казаться, что все почти совсем так, как было когда-то, когда я целовал ее в первый раз... Почти как тогда... Но не совсем.
Глава 4
I
Снова святки. В тот день, когда мы закрываем магазин на праздники, у нас с мистером ван Гуйтеном происходит небольшая беседа, и он говорит мне, что чрезвычайно доволен тем, как у нас идут дела. Приятно сознавать, что и от тебя есть какой-то толк. Я получаю от мистера ван Гуйтена праздничные премиальные – пять фунтов – и тут же раскошеливаюсь на пудреницу для Ингрид: иду и выкладываю три фунта десять шиллингов.
На святках в День рассыльных5 Крис и Дэвид приглашают нас к себе на годовщину их свадьбы. Просто не верится, что уже пролетел год, с тех пор как они поженились, но как подумаешь обо всем, что за это время произошло со мной... Наш Старик, как всегда, отпускает свои заплесневелые шуточки насчет того, что только первые семь лет трудно, а им теперь осталось всего каких-нибудь шесть. Они отшучиваются и от него, и от нашей Старушенции, которая все съезжает на то, что у них скоро пойдут дети, в то время как у них никаких признаков детей нет еще и в помине. Может, у них по этой части не все
в порядке, размышляю я, а потом прихожу к выводу, что ведь они женаты всего год и в конце-то концов какое кому дело, когда у них пойдут дети и сколько их будет. Но как же это похоже на нашу Старушенцию: сначала ей все не терпелось, чтобы Крис поскорее выскочила замуж, а теперь ей уже не терпится стать бабушкой. Интересно, за кого она теперь примется? За меня, по всей вероятности. Каждую минуту я жду, что она начнет делать намеки на мой счет. Конечно, в принципе я не против женитьбы. Но ведь надо, чтобы посчастливилось встретить хорошую девушку и знать, что это уже настоящее, а не мимолетное увлечение, как с Ингрид. Мне кажется, брак – это нечто совсем особое, если Крис и Дэвид после целого года совместной жизни выглядят такими счастливыми. Во всяком случае, глядя на них, я еще острее чувствую разницу в моем отношении к Ингрид тогда, год назад, и теперь.
Как-то утром в январе я спускаюсь вниз к завтраку и вижу возле моего прибора письмо. Адрес на конверте написан рукой Ингрид. Сажусь за стол, беру письмо и чувствую, что наша Старушенция следит за мной в оба, хотя и стоит ко мне спиной – это уж она так умеет, словно у нее еще одна пара глаз, на затылке.
– Письмо от твоей подружки?
– От какой подружки?
– От какой подружки? – Я слышу, как шипят яйца, которые она выливает на сковородку. – От той девчонки, которой ты хороводишься, – говорит она. Верно, думаю, видела меня где-то с Ингрид, но тут она говорит: – От девчонки, которая прислала тебе поздравительную открытку в твой день рождения и подарила тебе портсигар.
– О, эта... Так это было несколько месяцев назад.
– А теперь ты что же – больше с ней не встречаешься?
Кто ее знает, что она могла пронюхать. У нашей Старушенций не сразу-то разберешь, с ней легко попасть впросак.
– Да так, время от времени. Мы с ней, в общем-то, дружим.
– Так чего ты тогда виляешь? – говорит она. —Ты что, стыдишься ее или как?
Она оборачивается ко мне, и я опускаю глаза в тарелку с кукурузными хлопьями.
193
– Просто я не хочу, чтобы ты вообразила невесть что.
Она снова отворачивается и поливает яичницу растопленным салом.
– Что такое я могу вообразить?
– Ну, что это серьезно и прочую муру.
Опа покачивает головой.
– Понять не могу, что такое творится с молодежью нынче! Сами не знают, чего им надо. Все хотят только позабавиться – сегодня с одной, завтра с другой. Когда я была молодая, у нас парни либо ухаживали за девушкой всерьез, либо оставляли ее в покое.
Она снимает сковороду с плиты и широким кухонным ножом раскладывает куски яичницы по тарелкам: одно яйцо Джимми, одно мне. Потом дает нам еще по куску бекона, ставит сковороду обратно на плиту и выключает газ. Берет свою чашку и принимается пить чай, поглядывая, как мы с Джимми уплетаем яичницу.
– Теперь все по-другому, – говорю я, – времена меняются. Знаешь, как теперь говорят: нужно перебеситься до брака, чтобы потом не потянуло.
– Бывает и иначе: парень только побаловаться хочет, а его хлоп – и окрутили, – говорит Старушенция.
Разговор этот был мне не по нутру с самого начала, а теперь он и вовсе принимает такой оборот, что нравится мне все меньше и меньше, поэтому я умолкаю и не произношу больше ни слова. Минуты бегут, мы продолжаем молча есть, и через некоторое время Старушенция говорит:
– Что же ты не распечатаешь письмо?
– Прочитай письмо, Вик, будь паинька, – говорит Джим. – А мы послушаем, что новенького.
– Придержи язык, пока не получил хорошего подзатыльника, – говорит Старушенция. – Это будет самая для тебя подходящая новость.
Джим сидит к ней спиной, он прячет голову в плечи, высовывает язык и страшно таращит глаза.
– Я прочту в автобусе, – говорю я, стараясь не улыбнуться, чтобы не выдать Джима. – Верно, какая-нибудь ерунда.
– Ну, едва ли! – говорит Старушенция крайне сухо. – Зачем бы тогда стала она писать?
Однако, как она ни старается, я не поддаюсь на удочку
194
и, когда я спускаюсь с холма к автобусной остановке, письмо, все еще не распечатанное, лежит у меня в кармане. Я здорово зол на Ингрид за то, что она послала это письмо и растревожила нашу Старушенцию. Точно нельзя было позвонить по телефону, если ей хотелось мне что-то сообщить! На остановке я разрываю конверт.
«Дорогой Вик, – пишет Ингрид, – у меня что-то с желудком, и я не была сегодня на работе и не пойду и завтра (в четверг), а значит, не смогу с тобой встретиться. Но сегодня вечером мамы не будет дома, и ты, если хочешь, можешь прийти к нам. Ты знаешь, где я живу. Постучись с черного хода. Любящая тебя Ингрид.
P. S. Не приходи раньше половины восьмого, потому что мама уйдет только в семь».
Что ж, это действительно хорошая новость. Я еще никогда не был у Ингрид, но, уж наверное, у них там найдется кушетка или большое кресло, и это будет куда удобнее, чем в парке.
II
– Я никак не могла позвонить тебе, потому что мама целый день была дома, – говорит Ингрид. – Тогда я нацарапала эту писульку, сказала, что хочу немножко погулять, пошла и отправила.
– Ты ничего не рассказывала своей маме обо мне? – спрашиваю я.
– Нет, не рассказывала. Ведь мы с тобой... Понимаешь, если бы мы были помолвлены, тогда другое дело...
– Да... конечно.
– А твои родители тоже ничего не знают обо мне?
– Да вроде и знают, и не знают. Они видели твою открытку и догадываются, что какая-то девушка подарила мне портсигар, но, как часто мы встречаемся и что вообще у нас с тобой, этого они не знают.
Ингрид слегка краснеет.
– Надеюсь, что нет... В этом-то вся беда, верно? Мы ведь никому не можем сказать о том, что у нас с тобой, верно?
– Для тех, кому это интересно, ну, для тех, кто мог видеть нас вдвоем, мы с тобой просто приятели, которые проводят иногда вместе время, и все.
Она ничего не отвечает, смотрит на огонь в камине и
195
и оправляет – машинально, я полагаю, – юбку, стараясь прикрыть колени. Вообще-то ноги у нее открыты много выше колен, потому что она носит очень короткие юбки, а эти мягкие кресла так устроены, что в них совсем тонешь.
Мы сидим в столовой. У них в доме такой же, по-видимому, порядок, как и у нас: гостиной пользуются редко. Но столовая очень уютная: кожаные кресла, стулья и кушетка – все из одного гарнитура – и большой ковер во весь пол. По одну сторону камина консольный телевизор, по другую – радиола на маленьком столике. Мамаша Ингрид, должно быть, отъявленная монархистка, потому что над камином у них огромная цветная фотография королевы в коронационном наряде. В камине жарко пылает огонь, и я чувствую себя славно, совсем как дома, я даже снял пиджак и повесил его на спинку стула.
Ингрид, кажется мне, немного взволнована от того, что принимает меня здесь потихоньку от матери, – она как-то ненатурально весела и все время хихикает. Вернее, все время хихикала, пока мы не заговорили о наших с ней отношениях, а теперь она примолкла, словно этот разговор заставил ее задуматься, – сидит и смотрит в огонь. А я как раз думал о том, что сейчас подойду и поцелую ее. Нам здесь так хорошо и уютно, мы в первый раз так по-настоящему, совсем уединились, и мало ли что может случиться? Я вижу линии ее тела под бледно-розовой блузкой, и мне хочется поглядеть как следует. Хочется убедиться, что мои руки не обманывали меня и я не зря думал, что она чудо как хороша.
Я встаю, достаю сигарету. Вытаскивая из кармана портсигар, я заодно нечаянно выгребаю еще разные мелочи: расческу, бумажник и маленькую книжечку с фотографиями голых красоток, которая приглянулась мне, когда два дня назад я покупал сигареты в табачной лавчонке. Ингрид в этот момент встает, чтобы задернуть шторы, и мне не удается спрятать от нее эту книжонку – она так и остается валяться на полу. Ингрид видит ее – видит красотку на обложке, и тут уж никуда не денешься. В ту же секунду Ингрид наклоняется, хватает книжонку и отпрыгивает в сторону, когда я делаю попытку отнять се.
– Перестань, дай сюда!
Она смеется.
196
– Нет, Я хочу посмотреть и убедиться, какой ты, однако, старый, грязный паскудник.
Она прячется за спинку кресла. Ну, ясно: чтобы noлучить обратно книжонку, я должен гоняться за Ингрид по всей комнате и отнять ее силой. Чувствую, что краснею, но не собираюсь поднимать из-за этой книжонки целую бучу, сажусь в кресло и закуриваю. Ингрид видит, что меня все это не слишком трогает, подходит ближе, садится и начинает перелистывать страницы. Мне кажется, что она всерьез увлечена этим занятием: не хуже любого парня разглядывает подробно каждую фотографию и время от времени хихикает – должно быть, когда находит что-нибудь особенное, по ее мнению, пикантное. Я подхожу, сажусь на ручку ее кресла и заглядываю ей через плечо. Довольно-таки острое ощущение – разглядывать с ней вместе эти фотографии, руки у меня дрожат, и кровь стучит в висках.
– Не понимаю, как они могут все это проделывать, – говорит она. – Как это можно – стоять перед фотографом в таком виде.
– Мне кажется, они к этому по-другому относятся. Это профессия. Используют, так сказать, свои природные ресурсы.
– Я уверена, что этим дело не ограничивается.
– Так кто здесь старый паскудник? У кого грязные мысли?
– Ну хорошо, ну скажи, если бы ты целый день фотографировал подобным образом женщин, разве бы тебе тоже не полезло это в голову? Ну посмей сказать, что нет!
– Не знаю, не пробовал. Я, видишь ли, понятия не имею, где и кто этим делом занимается. Мой отец, конечно, поступил бы очень толково, если бы догадался отдать меня на выучку к одному из этих фотографов.
Она толкает меня локтем в ляжку.
– Пошел ты! – И снова переворачивает страницы. – Вот эта – прелесть, ничего не скажешь! Точно литая вся, верно?
– Ты не хуже ее, – говорю я и рад, что она не видит, как пылают у меня щеки.
– Ах, отстань, – говорит она. – Ты надо мной смеешься.
– Вовсе нет, я считаю, что ты сложена ничуть не хуже ее.
197
– Да ты погляди, какая у нее грудь! Ручаюсь, что она даже не носит бюстгальтера.
У меня пересохло в горле, и мне не сразу удается вымолвить.
– У тебя очень... красивая грудь. Я давно это заметил.
– Перестань, – говорит она. – Ты вгоняешь меня в краску.
Я вижу, как у нее розовеют шея и уши.
– Конечно, голову на отсечение не дам, поскольку я... Я хочу сказать...
– Знаю я, что ты хочешь сказать, – говорит она. – Можешь не вдаваться в подробности.
Я наклоняюсь к ней, поворачиваю к себе ее лицо. Я целую ее, но она почти не отвечает на мой поцелуй.
– А мне бы хотелось, чтобы мы это могли, – говорю я.
– Что могли?
– Вдаваться в подробности.
– А тебе не кажется, что ты слишком многого хочешь?
Наклонившись к ней, я тихонько шепчу ей кое-что на ухо, а она переворачивает страницы, делая вид, что хочет досмотреть до конца. Я встаю с кресла, подхожу к ней вплотную, беру ее за локти, заставляю подняться и снова целую. Но она по-прежнему почти не реагирует. Я чувствую, что она в каком-то капризном настроении, но я уже снова совсем без ума от нее, и она, конечно, слышит, как колотится мое сердце, когда я ее к себе прижимаю.
– Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, Ингрид, – говорю я.
– В том-то и беда, – говорит она, – что не знаю.
– Ни с кем у меня еще не было так, как с тобой, – говорю я, и говорю истинную правду.
– Но ты ведь не всегда это чувствуешь, верно? И тогда ты даже не вспоминаешь обо мне.
Я молчу в замешательстве. Что я могу сказать ей?
– Я сам не могу в себе разобраться иногда, – говорю я. – Со мной ведь ничего подобного никогда еще не бывало. Я знаю, что тебе иной раз кажется, что я подонок, но это выходит у меня против воли, и на самом, деле я не такой. Просто иногда у меня, возникает какое-то поганое чувство, и тогда мне начинает казаться, что продолжать








