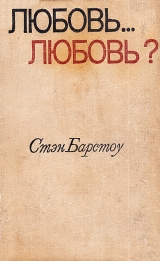
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Старик спускается вниз, когда я пью чай, и берет с каменной доски открытку.
– Ты не забыл про это, Вик?
Это повестка донорам – надо явиться в школу на Шайргроувроуд. Старик тоже получил такую, а мы обычно ходим туда вместе.
– Забыл, – говорю я, – но это не страшно: никаких особых дел у меня нет.
– И кто это сдает кровь в середине зимы? – говорит наша Старушенция. – Разве не ясно, что это ослабляет сопротивляемость организма простуде и болезням.
– Да перестань ты, – говорю я.
– А по-моему, в некотором роде это даже полезно, – заявляет наш Джим. – Одно время кровопускание рассматривалось как средство излечения почти от всех болезней.
Я строю рожу мистеру Всезнайке, а наша Старушенция говорит:
– Так ведь больше-то этого не делают, верно? С тех пор кое-чему научились.
Старик чистит ботинки у огня.
– Не вижу в этом никакого вреда, – говорит он. – Зато эта капля крови, которую у тебя берут, может принести кому-то большую пользу.
– О господи! – вздыхает Старушенция. – Каждый должен чем-то помочь другому. Без этого весь свет полетит в тартарары. Но все-таки, Виктор, я бы на твоем месте попринимала зимой пивные дрожжи и рыбий жир. Очень полезно.
Я снова строю рожу. Я уже много лет не принимаю ни пивные дрожжи, ни рыбий жир.
– Джим выпил целую бутылку. Надо будет завтра купить в аптеке еще.
– Тогда купи лучше в капсулах: я слишком стар, чтобы пить рыбий жир с ложечки. – Я протягиваю ей чашку. – Есть там еще капелька?
Старушенция снимает с огня чайник и наливает мне чашку.
– Будь ты самый что ни на есть старый, а полезные вещи всегда полезны, в том числе и материнский совет…
– Так, послушаем лекцию.
– Вот сейчас надеру тебе уши, молодой человек, будешь знать, как над матерью смеяться. Добрый совет всегда пригодится.
Я вскакиваю из-за стола, выбрасываю вверх руки и на манер Эла Джолсона принимаюсь плясать.
– Мамочка, я тебя обожаю, мамочка, жить без тебя не могу…
Лицо ее расплывается в улыбке, хоть она изо всех сил хмурит брови.
– Пошел, пошел, этакий ты кривляка.
Вся школа освещена. Мы пересекаем спортивную площадку и направляемся к входной двери, но тут висит табличка: «Сдавать кровь – туда», а на ней стрелка. Какой-то парень и женщина средних лет, оба с повестками, ждут у двери слева, и двое или трое сидят у двери в помещение, где берут кровь. Мы со Стариком занимаем очередь. Теперь для меня сдавать кровь сущие пустяки, раз плюнуть, но я никак не могу привыкнуть к запаху больницы, который появляется здесь, как только оборудуют донорский пункт. Старик заходит; через минуту захожу и я и сажусь перед тем парнем, который берет у меня повестку. Он дает мне карточку, которую я должен подписать и где сказано, что у меня никогда не было желтухи, малярии, рака, нефрита и множества других малоприятных вещей. У вас не возьмут кровь, если вы болели чем-либо из того, что тут перечислено, и всякий раз приходится подписывать такую карточку – наверно, в подтверждение, что после вашего последнего посещения ничего такого у вас не было. Затем этот парень дает мне почтовую открытку, на которой я должен написать свою фамилию и адрес. Недели через две мне пришлют ее по почте с сообщением о том, куда пошла моя кровь. Наконец он вручает мне донорский лист и что-то еще, и я перехожу к девчонке в синем халате, которая завладевает моей рукой, всаживает иглу мне в палец, выжимает из него несколько капель крови в стеклянную пробирку и потом добавляет туда какой-то жидкости. Затем она берет стеклянную трубочку, опускает ее в пробирку, дует и следит за тем, как меняется цвет. Так она устанавливает группу моей крови и сверяет ее с той, что указана в донорском листе. Я выхожу из комнаты, прижимая к уколотому пальцу кусочек ваты, вешаю пиджак на крючок и присоединяюсь к тем, кто ждет очереди.
В большом зале расставлены каталки, и сестра подводит меня к одной из них. Я ложусь на спину. Она дает мне в руку подобие ручки от головной щетки – я должен то сжимать ее, то расслаблять пальцы, пока сестра будет накладывать мне выше локтя резиновый жгут и стягивать его, чтобы лучше выступила вена. Все доноры готовы. Тут появляется женщина-врач, подходит ко мне, мило так, как всегда, улыбается и спрашивает, хорошо ли я себя чувствую. Я говорю, что хорошо, она вводит мне иглу – так осторожно, что я почти ничего не ощущаю, кроме прикосновения ее пальцев. Я смотрю на ее лицо. Она совсем не накрашена, и кожа у нее чистая, молодая. Всякий раз я думаю о том, какая она славная, и удивляюсь, что она не замужем, потому что она наверняка была бы хорошей женой какому-нибудь парню.
– Вам так удобно?
– Отлично, спасибо.
Она снова улыбается и переходит к другому донору. Мне очень хочется закрыть глаза, но я боюсь заснуть, поэтому я таращу глаза и смотрю в потолок, а время от времени бросаю убийственный взгляд на сестру – та сидит подле каталки и вяжет джемпер, в то время как я истекаю кровью, которая скапливается в бутылке на полу. Помещение старое, требует ремонта. С тех пор как я его помню, оно всегда требовало ремонта. Десять лет назад, в этой самой комнате, я сдал экзамены за начальную школу и перешел в среднюю. Десять лет! Говорят, чем старше ты становишься, тем быстрее бежит время, но даже я помню, что было десять лет назад. А что будет еще через десять лет? Что я буду делать, когда мне стукнет тридцать? Наверно, буду женат, и, возможно, у меня уже будут дети. Но на ком я буду женат? Кто будет эта девчонка? Еще две недели назад я, пожалуй, сказал бы, что это будет с Ингрид, – да, пожалуй. Но сейчас… Странно, как все получилось с Ингрид. Я теперь встречаюсь с ней два-три раза в неделю и вроде бы добился всего, о чем мечтал. Вроде бы. Но почему-то – сам не знаю почему – куда-то исчезли все чары, что были вначале, хотя порой ее близость и теперь еще здорово волнует меня. Словом, когда я думаю о женитьбе, я не думаю о ней – вот и все…
Минут через двадцать, полежав и выпив по чашке чаю, мы со Стариком выходим из ворот – все кончено, и порядок.
– Ты идешь прямо домой? – спрашивает Старик, и я говорю:
– Да, пожалуй: у меня на сегодняшний вечер ничего не запланировано.
Мы спускаемся с холма и доходим до «Виноградной лозы» – приятного тихого кабачка, где на стенах висят таблички, предупреждающие о том, что петь нельзя. Старик вдруг останавливается и говорит:
– Выпить не хочешь?
Я обалдело гляжу на него. Потому обалдело, что, сами понимаете, хоть он, конечно, и знает, что я иной раз выпиваю, как всякий парень, но до сих пор он ни разу не признавал за мной такого права и не приглашал с собой в кабачок.
– Не возражал бы пропустить по кружечке, отец.
– Надо же немного подкрепиться, верно? – говорит он, и я вижу при свете, падающем из окна, что он ухмыляется.
– Точно.
Хозяин знает Старика и приветствует его:
– Добрый вечер, Артур. Как жизнь?
– Добрый вечер, Джек. Помаленьку, серединка на половинку. Но особенно жаловаться не приходится. А сам-то как?
Хозяин говорит, что и ему особенно жаловаться не приходится, и спрашивает, что нам подать. Старик смотрит на меня, и я решаю, что разумнее, пожалуй, не показывать вида, будто я такой уж знаток, а потому говорю: «Я возьму то же, что и ты». Старик заказывает две полпинты черного пива (я лично предпочитаю горькое, светлое), пачку «Плейерс», и мы усаживаемся за столик поближе к огню. Единственные посетители, кроме нас, – два каких-то парня, которые сидят по другую сторону камина и беседуют о футболе.
Старик поднимает кружку.
– Ну, чтоб все было хорошо.
– Поехали.
Он пьет, ставит на стол кружку и, уперев руки в колени, выпрямляется на табурете.
– Ты чего осклабился? – минуту спустя спрашивает он.
– Да так, ничего.
Но я не могу сдержать улыбки – ведь это, что ни говорите, еще одна веха в моей жизни, такая же, как мои первые длинные брюки или первая сигарета, которую я открыто закурил дома! Сегодня Старик как бы окончательно признал, что я уже совсем взрослый.
– Славное, тихое тут местечко, – говорит Старик. – Никогда никаких буянов. Ты здесь уже бывал?
Я говорю, что нет, не бывал.
– Но ведь ты же иногда выпиваешь, верно?
– Да, иной раз пропускаю кружечку.
Он кивает.
– Не вижу особой беды в том, что молодой парень выпьет иной раз кружечку, только перебирать не надо. А то ведь есть такие, которые выхлестывают по восемь-девять кружек подряд, а потом начинают хватать всех за грудки.
– Да, это совсем ни к чему.
– Конечно, ни к чему, но только немало парней именно так себя и ведут.
– Неплохое здесь пиво.
– Да, Джек хорошее пиво держит, что верно, то верно. Некоторое время мы сидим молча, потом Старик спрашивает:
– Ну, как у тебя на работе дела?
– Все в порядке.
– Тебе по-прежнему там нравится?
– Да, в общем, нравится. – Я знаю, что это не совсем так, но очень трудно объяснить Старику то, в чем я и сам еще не вполне разобрался.
– По-моему, специальность у тебя хорошая. Во всех вечерних газетах полно объявлений о том, что требуются чертежники.
– Да, мест вокруг сколько угодно.
– А что ты скажешь насчет вашей фирмы? Думаешь остаться там, когда они возьмут тебя на полную ставку?
– Ну, пока еще я не думаю никуда переходить. Вот когда мне стукнет двадцать один, там видно будет. Платят они столько, сколько установлено профсоюзом, а работа – как везде в этой области, по-моему, не хуже и не лучше. Конечно, я, наверно, мог бы устроиться на такое место и где-нибудь еще. По-моему, насчет продвижения по службе у нас в бюро не очень-то. Слишком много пронырливых башковитых ребят.
– Но ведь если ты задумаешь перейти на другое место по той же специальности, тебе придется уехать отсюда. Это ты понимаешь?
– Да, придется. Может быть, в Манчестер или в Бирмингем.
– М-да. – Старик кивает и молчит, как бы взвешивая мои слова. Потом говорит: – Что поделаешь, многим ребятам приходится отрываться от семьи и шагать самостоятельно, если они хотят чего-то добиться в жизни. И делать это надо, пока ты еще один и тебя ничто не связывает.
– Наверно.
Давно мы со Стариком так не беседовали. Если подумать, то мы вообще ни о чем не говорили – скажешь, к примеру, где лежит сапожная мазь, или попросишь передать соль, и все.
– Ты только не вообрази, будто я тебя выталкиваю из дому и всякое такое прочее, – говорит он. – Просто я хочу, чтобы ты знал, что я все понимаю, и, если ты решишь, что лучше тебе уехать, твое дело. Я не хочу, чтоб ты думал, будто кто-то здесь станет тебе мешать.
– Нет, нет, я понимаю.
– Конечно, матери твоей это не понравится. Ты для нее все еще дитя малое.
– Если бы я был на другой работе, ей уже года два назад пришлось бы от этой мысли отказаться.
– Ты имеешь в виду службу в армии?
– Да.
– А как ты считаешь, тебя еще могут призвать?
– Не думаю. Многие из нас, кто работает у Уиттейкера, подучили отсрочку. Так что не думаю, чтоб нас теперь побеспокоили. Похоже, что на нас скоро вообще поставят крест.
– Ну что ж, это неплохо.
– А знаешь, я иной раз жалею, что не был в армии.
– Потерял бы два года, только и всего. Проболтался бы зря и меньше бы знал по своей специальности.
– А я думаю, что, может, по-иному смотрел бы на многое. Понимаешь, шире был бы у меня горизонт. Я разговаривал с парнями, которые служили за границей. Так, по-моему, ничего похожего я здесь у нас не видел.
– Армия, она, конечно, заставляет парня оторваться от маменькиной юбки, – говорит Старик. – Приучает стоять на собственных ногах. А что до расширения горизонта – не знаю. По-моему, это зависит от себя. Я знал ребят в девятьсот шестнадцатом, которые как пришли в армию, ничего не видевши, так из нее и ушли. Ничему она их не научила. Разве только открыла глаза на то, что политики разжигают войны, а мы, простые смертные, воюем.
Он осушает кружку, и я протягиваю за ней руку.
– Хочешь еще?
Он смотрит на электрические часы на стене и говорит:
– Да, пожалуй.
– Я вот подумываю о том, чтобы съездить как-нибудь в субботу в Хаддерсфилд, – говорит он, когда я возвращаюсь с полными кружками. – Хочешь погулять денек?
– Я ведь занят в магазине, отец, – напоминаю ему я.
– Ах да, конечно. Я и забыл. Ну, тут уж ничего не поделаешь. А жаль: давненько мы не проводили день вместе.
И правда, давненько. Я даже не помню, когда это было. И поднимаю кружку.
– Ну, хоть сегодняшний вечер мы вместе.
Старик подмигивает.
– Правильно, дружок. Только не будем слишком задерживаться, а то мать начнет беспокоиться, куда это мы девались.
Тут я замечаю коренастого человечка, который берет кружку пива у стойки и смотрит на Старика. Потом, держа в руке кружку, приближается к нам и хлопает Старика по плечу.
– Как дела, Артур? Как поживаешь, друг?
Наш Старик поднимает голову.
– Никак это Герберт! Э-э, давненько не видал тебя, друг. Присаживайся, присаживайся.
Человечек придвигает табурет и садится. Одет он очень прилично – серое твидовое пальто, зеленая фетровая шляпа, но, даже будь у него лицо не синеватого цвета, я сразу угадал бы его профессию.
– Ты ведь не знаком с моим сыном, Герберт? – спрашивает Старик. – Это мой старший. Другой еще в школу ходит, а этот – Вик – работает чертежником у Уиттейкера. – В голосе Старика звучит нотка гордости, и это удивляет меня, потому что мне никогда и в голову не приходило, что он может гордиться мной. Кристиной и Джимом – другое дело, но мной – никогда.
– Ей-богу? – говорит человечек. – Чертежником? Это получше, чем торчать в забое, а?
– Совершенно верно, – говорю я.
– Я всегда говорил, что моим сыновьям не придется спускаться в шахту, как мне, – заявляет Старик.
– Для молодежи сейчас золотое время, Артур, – говорит человечек. – Не то, что в дни нашей молодости. Тогда и выбора другого не было: либо иди в забой, либо на завод. И отцы наши только рады были послать нас под землю, чтобы мы принесли хоть немного деньжат. А мой парень, знаешь, работает сейчас в угольном управлении. И всегда ворчит, что меньше меня получает. Я говорю ему, что он сам не знает, под какой счастливой звездой родился. Да чтоб работать с девяти утра и видеть дневной свет в окошке, за это хватило бы и трех монет в неделю. На моем месте он бы через шесть дней окачурился. А то и меньше.
Он поднимает кружку и осушает ее до половины. Я смотрю, как уменьшается жидкость, и понимаю, что этот дядя выпить любит. И, словно прочитав мои мысли, он говорит:
– Прямо не знаю, что бы я делал без пива, Артур. Иной раз так думаю, что только пиво еще и держит меня. – Он достает пачку «Вудбайнз» и протягивает нам. – Им бы следовало выдавать нам пиво бесплатно, как уголь, – говорит он и смеется.
– Где же ты теперь работаешь, Герберт? – спрашивает его Старик, после того как мы все трое закуриваем.
– Да последние три года работаю у Раундвуда, днем, нагружаю вагонетки.
– У Раундвуда – это в Уэйкфилде? – говорит Старик. – Путь-то неблизкий, а?
– Да у меня есть машина, – говорит человечек. – Я уже давно не езжу на автобусах. Весь путь от дома до работы – двадцать минут.
– Барином стал, а, Герберт?
– А почему бы и нет? – говорит Герберт. – Никогда мы столько не заколачивали, как в последние десять лет, Артур, ну я и стараюсь, пока можно.
– Что значит – пока можно? Ты что, думаешь, опять будет кризис?
– Не может же всегда так быть, – говорит человечек. – Слишком много я знавал плохих времен, чтобы думать, будто так может без конца продолжаться.
– Ну, не знаю, Герберт. Я, к примеру, не вижу, почему бы так не могло продолжаться.
– Да ведь странные вещи бывают, Артур, вроде бы людям всегда нужен уголь. И наверно, еще долго будет нужен. Но оба мы с тобой знаем: было время, когда у людей в очагах было пусто, а уголь горами лежал на шахтных дворах. Все дело в экономике, Артур, а мы с тобой ничего в этом не смыслим. Мы с тобой умеем только вырубать уголь, если нас к нему подпускают…
Я сижу и слушаю их беседу. От добычи угля и экономики они переходят к политике. Оба они, конечно, лейбористы, так что спорить им особенно не о чем. Тогда они переходят к спорту и обсуждению Хаддерсфилдских городов, тут у них по двум или трем вопросам возникают разногласия, но они разрешают их вполне дружелюбно. Тем временем человечек берет себе еще кружку и наполняет наши тоже. Потом Старик угощает его, и мы, конечно, тоже пьем. Хорошо, что мы пьем черное пиво, думаю я: к тому времени, когда стрелки часов показывают без двадцати десять, мы выпили уже по пять кружек, а человечек приканчивает четвертую.
– Ты только посмотри, который час! – восклицает вдруг Старик. – Живо домой!
– Что-то больно долго у вас сегодня кровь брали, – говорит Старушенция при виде нас. В доме приятно, тепло, пахнет свежеглаженым бельем.
– Угу, – говорит Старик, и, услышав это, Старушенция окидывает нас взглядом.
– Понятно, – говорит она. – Вот, значит, где вы торчали.
– Да, нам захотелось выпить по кружечке, – говорит Старик, снимая пиджак. От пива глаза у него поблескивают, а наша Старушенция ни в жизни не допустит, чтобы кто-нибудь над ней смеялся.
– Значит, вот по каким местам ты решил таскать Виктора! – говорит она. – Решил, что пора учить парня дурным привычкам!
– А я считаю, ему уже можно выпить разок-другой, но только в меру, конечно, – говорит Старик. Он садится на стул и кладет ногу на ногу, чтобы снять ботинки.
– Теперь они и сами очень быстро всему научаются. Вспомнил бы лучше, что у тебя есть еще сын. И ты должен подавать ему пример.
Джим читает себе, не обращая внимания на происходящее.
– Я так полагаю, что подаю хороший пример любому из моих сыновей, – говорит Старик и подмигивает мне, воспользовавшись тем, что Старушенция повернулась к нам спиной.
Я подмигиваю ему в ответ. Я чувствую себя навеселе, а потому помалкиваю и двигаюсь очень осторожно, чтобы наша Старушенция ничего не заметила.
На минуту кажется, что этим дело не кончится и она будет говорить и говорить, но она вдруг решает прекратить пререкания и принимается снова гладить и развешивать выглаженное.
Глава 7I
– Тебе хорошо было? – шепчет она мне на ухо.
– Да, – говорю я, – мне было хорошо.
Я лежу на расстеленном плаще рядом с ней, на спине и смотрю сквозь ветви деревьев на небо. Оно сегодня высокое, огромное и светлое; темными тенями бегут по нему облака, закрывая луну. Несколько секунд я лежу совсем опустошенный – без мыслей, без чувств, будто даже и не живу. Потом меня обжигает стыд. Это первое, что всегда приходит потом, только теперь я пообвыкся и легче его переношу. А сейчас меня еще пронзает мысль: ведь я ничего больше не чувствую. Голова у меня работает яснее и четче, чем когда-либо с тех пор, как я впервые увидел ее и подумал, могу ли я ей понравиться. Голова работает четко и ясно, и это очень страшно, потому что я не люблю ее, – вот она, правда. И она даже не очень-то нравится мне. И не из-за того, что произошло между нами, хоть я и знаю, что после первых встреч, когда мне хотелось лишь быть рядом с нею и чтобы она любила меня, именно то, что между нами ничего не было, мешало мне понять, что в конце-то концов я вовсе ее не люблю. Решить же, нравится она мне или нет – ну, как одни люди вам нравятся, а другие нет, – я не мог просто потому, что с первого же взгляда, не обмолвившись с ней ни словом, влюбился в нее. Теперь же я лишь удивляюсь, как я мог столько времени терпеть ее, – терпеть ее сплетни, ее глупость и интерес к скандальным происшествиям, ее болтовню про телевизор и программы-викторины и про то, как домашней хозяйке из Вулверхемптона или Тутинга посчастливилось выиграть большой холодильник или три тысячи пар нейлоновых чулок и поездку в Америку, когда она ответила на вопросы, которые знает каждый ученик в четвертом классе начальной школы. Но я знаю также, почему я ее терпел, – только этого больше нет и ничего другого взамен не появилось. Мне даже трудно поверить, что всего каких-нибудь две-три недели назад я мог бы пойти ради нее на край света. Сейчас я этого не понимаю. Не понимаю, и все.
– Что-то ты притих, – говорит она.
– Да?
– Неужели тебе нечего мне сказать? – Она поворачивается ко мне, и я чувствую на щеке ее горячее дыхание. – Вик!
– М-м-м?
– Сначала, понимаешь… ну, сначала я думала, что ты… ну, понимаешь, что ты хочешь, чтоб все было.
Я и хотел – это я твердо помню, но сейчас я меньше всего этого хочу.
– Возможно, – говорю я, – но я еще не настолько ополоумел.
– Тебе кажется, что это было бы совсем по-другому? – минуту спустя спрашивает она, и я думаю: «О боже! Ну, зачем она об этом говорит? То, что было, уже прошло, зачем же снова и снова к этому возвращаться?»
– Вероятно, – говорю я. – Не знаю.
– Вот как, ты не знаешь? – говорит она, и я думаю, что, наверно, она хочет дознаться, было у меня это еще с кем-нибудь или нет.
Внезапно во мне просыпается острое желание причинить ей боль, и я говорю:
– Ты так говоришь, точно я первый парень, с которым ты встречаешься.
– Ты что же, думаешь, что я с кем-нибудь еще так далеко заходила? – говорит она. – Ты считаешь меня такой, да?
– Почем я знаю? – говорю я. В общем-то, у меня нет особого желания обидеть ее, скорее я как бы хочу выместить на ней что-то. Она отводит глаза, и мне сразу становится жаль ее, и я говорю: – Я ведь это так, несерьезно. Я знаю, что у тебя никого до меня не было. Я знаю, что ты не такая.
– Иной раз я начинаю жалеть об этом, – говорит она.
– Да перестань ты.
Вот теперь она начнет раздумывать, не слишком ли много она себе со мной позволяет и не потому ли я стал меньше ее любить. Я и в самом деле меньше ее люблю, но не поэтому. И мне не до ее чувств – впору бы разобраться в своих собственных. Мне вдруг показалось, что я постарел лет на пять и стал как бы грязнее. И я подумал: «Вот, значит, как оно бывает, когда без любви. А ведь если говорить о чувствах, было бы это как сейчас или совсем по-настоящему, любовь осталась бы прежней».
– В общем, – говорит вдруг она, – я не считаю, что мы поступили плохо или должны чего-то стыдиться. В этом нет ничего плохого, когда человек тебе дорог.
А если не дорог? Что тогда? И ведь часто ты прозреваешь лишь потом, а до тех пор – точно слепой. Я вот сейчас прозрел, вопрос в том, как же мне дальше себя вести? Как мне порвать с ней, когда всего две недели назад я говорил, что без ума от нее, и это была правда? Как мне сказать ей, что мечта и влечение смешались, ослепили меня, сыграли со мной злую шутку? Как сказать, что я ошибся и лучше нам покончить с этим? Как сказать все это после сегодняшнего вечера, когда она так ясно дала мне понять, что я ей дорог, что она любит меня, да я и сам чувствую, что любит. Она никогда этого не поймет. Она решит, что я все время только этого и добивался, а добившись, бросаю ее, потому что она мне больше не нужна. Но на самом-то деле все иначе. А может быть, это и не имеет для нее такого значения, как, скажем, могло бы иметь для другой девушки? Да нет, я ведь вовсе не считаю ее девчонкой, которая ходит по рукам. Не думаю, чтобы она вела себя так с первым встречным Томом, Диком или Гарри: она должна быть влюблена в парня, чтоб пойти на такое. Возможно, она легко влюбляется, и это, пожалуй, точно – она пылкая штучка. Ведь она сама дала мне зеленый свет своим поцелуем в тот вечер, вон на той скамейке, иначе я бы никогда не зашел так далеко. А потом – можно посмотреть на всю эту историю и с другой стороны: не такой уж я большой сердцеед. Вокруг сколько угодно куда более интересных парней, и я был бы самонадеянным болваном, если б считал, что только я один могу ее так распалить…
Пошел дождь. Не сильный, и я не сразу заметил, что капает. Ну что ж, достаточно веский предлог, чтобы расстаться.
– Побежали. Надо куда-нибудь спрятаться.
Она начинает возиться с одеждой – оправляет платье, застегивается, потом встает, отряхивается и поднимает с земли сумку. Я встряхиваю плащ, и под его прикрытием мы бежим по траве. Остановившись под деревьями, она начинает в темноте красить губы и пудриться, а я смотрю на нее и думаю: вот сейчас меня это раздражает, а еще совсем недавно я бы с восторгом наблюдал за ней и умилялся. Просто не пойму, что творится со мной. Почему это так: вот думал, что нашел такое сокровище, а потом вдруг очнулся и обнаружил, что ничего не нашел? А если уж я сам не могу в себе разобраться, то как я сумею ей все это объяснить?
Она кончает прихорашиваться, щелкает пудреницей и бросает ее в сумку. Мы сидим на скамейке, не касаясь друг друга, и смотрим на дождь. Через минуту она уже начинает рассказывать мне какую-то скандальную сплетню про одного из наших боссов. Я не очень люблю этого типа, про которого она рассказывает, и потому слушаю ее с интересом, хотя вместе с тем это почему-то вызывает у меня раздражение. И мне хочется опровергать то, что она говорит. Скажи она мне сейчас, что черное – это черное, я бы стал уверять: нет, белое. Только для того, чтобы ей насолить.
Я что-то говорю ей наперекор, и она удивляется:
– А я думала, что ты его не любишь. Ты даже говорил мне это.
– Не люблю. Но это еще не причина верить всему, что про него наболтают.
Она понимает, что я хочу обрезать ее. Никогда прежде я не говорил с ней таким тоном, и я знаю, что она это чувствует. Но она молчит, лезет в сумочку, выуживает оттуда пачку сигарет и протягивает мне. У нее всегда есть с собой сигареты, и она никогда не курит моих. «Ты и так достаточно на меня тратишься, чтобы я еще курила за твой счет». Я всегда считал, что это очень трогательно с ее стороны, да и до сих пор так считаю. О, она очень славная девчонка, любой парень был бы рад встречаться с такой. И нечего мне выдумывать, будто она слишком доступна и вульгарна, – ничего подобного. Если она и ведет себя так, то ведь только со мной. Но мне она больше нужна… Вот она, страшная правда. Я курю сигареты и смотрю на дождь – мне не терпится, чтобы он скорее прошел и мы могли уйти.
– Проклятая погода, – вырывается у меня, и Ингрид внимательно на меня смотрит.
– У тебя сегодня плохое настроение, да?
– Не заметил.
– А я заметила, – говорит она. – Я что-то не то сказала или сделала?
– Нет. Конечно, нет.
Видно, настало время сказать ей все, но я никак не могу решиться. Как могу я это сделать после того, что было всего полчаса назад? Она никогда не поймет. И конечно, решит, что у меня с самого начала было так задумано.
– Но что-то все-таки с тобой неладно, верно? – говорит она.
– Просто все мне надоело. Не очень доволен я и работой. Я сам не знаю, что со мной. Раньше я всегда был всем доволен.
– Может, тебе стоит поменять работу? – говорит она.
– Возможно. Возможно, мне бы следовало уехать – куда-нибудь в Бирмингем или в Манчестер… переменить обстановку.
– Тебе бы этого хотелось? Уехать из Крессли?
Я пожимаю плечами.
– Не знаю. Может, мне и там было бы так же плохо. Порой мне кажется, что просто мне осатанело работать. Знаешь, на той неделе нас вызывал к себе Олторп. Меня и Конроя… – И я рассказываю ей про драку, опуская то, что ее вызвало, а также то, что я укусил Конроя.
– Ты что же, не ладишь с Конроем?
– О, парень он башковитый и цену себе знает. А я, как увидел, что есть возможность вставить ему фитиль, не выдержал. Зато теперь он нравится мне куда больше, чем раньше. Нисколько не скукожился, когда Олторп принялся на него тявкать, а как потом он держался с Хэссопом – красота, да и только. Просто удивительно, что Хэссоп тут же его не выгнал. Конрой сам на это напрашивался.
– Мне всегда казалось, что он какой-то ненормальный, – говорит Ингрид. – Вот уж с кем я бы не хотела остаться вдвоем.
– С кем? С Конроем?
– Нет, с мистером Хэссопом.
– Но почему же? Что в нем плохого? – Это какое-то новое мнение о Хэссопе.
– Он как-то так смотрит на тебя. Точно рентгеном просвечивает, как говорят машинистки.
– Кто? Старик Хэссоп? Неужели он к кому-нибудь пристает?
– Да нет, он всегда держится очень корректно и на расстоянии. Никогда слова лишнего не скажет. Но он так на тебя смотрит, что, кажется, пронизывает тебя насквозь и даже мурашки бегут по телу.
– Вот уж никогда бы не подумал, что у него такие склонности. Я тебе не рассказывал, как я ездил к нему домой с поручением, когда он болел гриппом?
Я знаю: рассказать Ингрид – все равно что рассказать всему нашему женскому коллективу, но как-то мне сейчас безразлично, если даже это и обойдет всех сотрудников и Миллер узнает о моей трепотне. Надо же о чем-то говорить, пока не перестал дождь, раз уж мы не можем уйти отсюда.
– …и вот спускается она с лестницы в этом своем капоте, с большим конвертом в руке, и я начинаю нести всякую чушь насчет того, что, мол, надеюсь, мистер Хэссоп скоро выздоровеет и так далее, а она мне вместо ответа: «Все тут, в конверте».
– Как, как она сказала?
– Все тут, в конверте. Вот что она сказала в ответ на мой вопрос, как чувствует себя Хэссоп, и сунула мне в руки конверт.
– О господи!
– Но самое чудное произошло, когда я выходил из дому… Я открыл дверь, и только она увидела солнечный свет, как бросится ко мне да как закричит: «Закройте дверь! Закройте дверь!» Можно подумать, что она боялась рассыпаться и превратиться в прах, как, говорят, бывает с вампирами.
– Фу! – вздрагивает Ингрид. – У меня даже мурашки пошли по коже. Ну и что же было дальше?
– Я выскочил на улицу. И не успел я поставить ногу за порог, как дверь с грохотом захлопнулась. Задержись я на несколько секунд, и меня бы вышвырнули на улицу через окно.
– Ну, скажу я вам… – говорит Ингрид и хихикает. Она скрещивает руки на груди, словно прижимает к себе рассказанную мной историю, чтобы в целости донести ее до своих подружек. Завтра к обеденному перерыву она облетит уже всех наших сотрудников, но мне все равно. Я смотрю вдаль, в глубину парка.
– Дождь вроде не очень сильный. Так что побежали.
Делать нечего: приходится еще немного пообниматься, прежде чем она решится уйти. И пока она приводит себя в порядок, я шагаю по асфальту аллеи и чувствую, как во мне нарастает раздражение. Мне хочется остаться одному – немедленно, сию же минуту, чтобы подумать обо всем, что произошло, и решить, как вести себя дальше. Но я знаю, что мне надо проводить ее, и рад, что темно: странно, но я не хочу, чтобы нас видели. Очень будет плохо, если кто-нибудь, кто знает нас обоих, повстречает нас и сделает далеко идущие, но совсем не верные выводы.
Наконец она готова, и мы двигаемся к воротам.
– Ты уже отутюжил свой парадный костюм? – спрашивает она.
Раздражение еще не исчезло, а потому я переспрашиваю: «Парадный костюм?» – хотя прекрасно знаю, о чем идет речь.
– Ну да, для бала.
– Для того самого? Я надену фрак, разве я тебе не говорил?
Вот вам еще пример. Я с таким нетерпением дожидался нашего бала, потому что в этом году я мог бы прийти туда со своей девушкой. И я был так счастлив. Эх, почему нельзя полюбить девчонку и оставаться ей верным всю жизнь? Почему все так сложно? Сейчас я думаю о том, что лучше бы я не видел ее никогда. А первое свидание… Я не знал, куда себя девать – так мне не терпелось поскорее ее увидеть. А теперь… Никогда я не сумею объяснить этого ей. Я уж знаю, что никогда.








