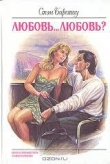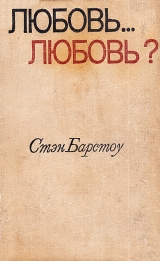
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Теперь уже получается, что мы вроде как сидим и судачим, перемываем косточки, и Миллер кладет этому конец.
– Ну, ребята, отправляйтесь по домам. Дайте старому человеку насладиться желанным ночным покоем.
– Ах, что вы, мистер Миллер, – говорит Паулина, – какой же вы старый!
– Подлиза! – говорит Миллер и, перегнувшись через сиденье, отворяет заднюю дверцу. Джимми и Паулина выходят из автомобиля и кричат нам всем «спокойной ночи».
– Ну, что ж, эта парочка, во всяком случае, даром времени не теряла, – говорит Миллер, а миссис Миллер справляется, давно ли они вместе.
– Я даже не замечал, чтобы они особенно интересовались друг другом, – говорит Миллер.
– По-моему, до сегодняшнего вечера они и двух слов друг другу не сказали, – вставляет Ингрид.
– Вот как, неужели? – говорит Миллер. – В таком случае не приходится отрицать, что эти вечера содействуют сближению персонала.
Мы проезжаем еще немного, и он спрашивает:
– Ну, а вас, молодежь, куда?
– Если вы свернете у следующего светофора, я сойду прямо у своего подъезда.
– А вы, Ингрид?
– Я покажу вам свой дом после того, как мы высадим Вика.
– Я никак не хотел, чтобы вы делали такой крюк, Джек, – говорю я Миллеру.
– Пустяки, – говорит он. – В пятницу произведем у вас небольшое удержание из жалования.
Когда машина сворачивает на нашу улицу, я снова притягиваю к себе Ингрид и целую ее.
– Значит, в пятницу?
– Хорошо.
Машина останавливается, я выхожу. Наклоняюсь к ним и говорю всем «доброй ночи».
– Спасибо, что подвезли, Джек. Очень мило с вашей стороны. Спокойной ночи, Ингрид. Спокойной ночи, миссис Миллер.
Я смотрю им вслед – дым из выхлопной трубы кажется розовым в свете задних фар, – затем, пошарив в кармане, нахожу ключ и направляюсь по дорожке к дому. При мысли, что в пятницу я снова увижу Ингрид, внутри у меня все дрожит, и я уже сам не свой от волнения. Я вспоминаю, что я чувствовал после нашего последнего свидания, но теперь все представляется мне почему-то совсем иным и не хочется об этом думать. Единственное, о чем я могу сейчас думать, – это о том, что я снова ее увижу, а что будет потом – наплевать.
III
Недели через две после того бала Конрой однажды утром не вышел на работу, а почему – никто не знал. На следующий день он появился, как всегда; примерно в половине одиннадцатого направился в кабинет к Хэссопу и торчал там добрых полчаса – толковал с ним о чем-то. Колин Лейстердайк, мальчишка-курьер, понес Хэссопу его утреннюю чашку кофе, возвратился и сообщил, что он слышал, как Хэссоп сказал Конрою: «Видно, вас не переубедишь, раз вы так решили». Тут уж не требовалось особого ума, чтобы сообразить: Конрой подал заявление об уходе.
С виду все остается по-старому. Конрой помалкивает. Однако в пятницу на следующей неделе Джефф Льюис обходит всех с коробкой и листом бумаги – собирает деньги для прощального подарка Конрою. Набирается довольно порядочная сумма, особенно если учесть, что у нас многие недолюбливают Конроя. Даже старик Хэссоп раскошеливается на полфунта. Мы все понимаем, что он не выложил бы, конечно, больше двух шиллингов, как каждый из нас, если бы хитрец Льюис не спрятал вовремя бумажку, на которой мы расписывались и ставили сумму – кто сколько дал.
Через неделю Конрой покидает нас. Почти все утро он разгуливает по бюро, прощается со всеми, а часов около пяти происходит маленькая церемония около кабинета Хэссопа, и Конрою вручается подарок: автоматическая ручка с шариковым карандашом. Хэссоп произносит небольшую речь о том, как нам будет не хватать Конроя, и всем становится неловко и хочется, чтобы уж он поскорее заткнулся, так как каждый понимает, что сам Хэссоп не верит ни единому своему слову. На ручке и карандашике золотыми буквами выгравирована фамилия Конроя, и, когда он принимает этот подарок, лицо у него делается растроганное. Глотнув раза два, он наконец выдавливает из себя:
– Спасибо вам большое, ребята. Здорово вы это, черт побери!
И на этом все кончается. Минут через пять он собирает свои книги и чертежные принадлежности и складывает их в небольшой портфель.
Он подходит ко мне, протягивает руку.
– Ну, до свидания, мой юный Браун.
– До свидания, Конрой. Желаю тебе удачи.
– Поосторожней с женщинами, друг. И не налегай на пиво.
– Постараюсь.
– Вот это правильно. И nil illegitimum.
– Что это такое?
– Nil illegitimum, – говорит Конрой. – Не позволяй никаким мерзавцам помыкать собой.
Я смеюсь.
– Ни в коем случае.
И он уходит. Что самое удивительное – в горле у меня комок величиной с куриное яйцо, когда я вижу, как за ним захлопывается дверь. Я ведь только теперь начал понимать Конроя, и это совсем другой Конрой, без обычного шутовства и бахвальства, и мне кажется, мы могли бы стать хорошими товарищами. Я сижу на своем табурете и гляжу на пустую чертежную доску. Потом на Льюиса, и Роули, и Уимпера, и всех прочих. Нет, без старика Конроя уже будет не то. Да и вообще последнее время все уже стало не то. Я верчу в руках масштабную линейку. Работа не ладится у меня сегодня. Как-то все порядком приелось, и я думаю о том, что, быть может, и мне было бы невредно, переменить работу.
IV
А тут еще эта волынка с Ингрид. После вечера я встречался с нею раза три-четыре и всякий раз, прощаясь, думал про себя, что это уже все и я нисколько не буду огорчен, если никогда ее больше не увижу. А потом в один прекрасный день она появлялась снова, и все прежнее поднималось во мне, и мы опять оказывались вместе. Это не любовь. Во всяком случае, я не чувствую к ней любви, и мне кажется, что я даже не особенно увлечен ею – не увлечен даже в те минуты, когда я сам не свой, когда шалею от желания остаться с ней наедине. И от этого у меня гнусно на душе. Особенно погано я чувствую себя тотчас после свиданий. Я все чаще думаю о том, что мне следует сказать ей все начистоту и что не годится встречаться с ней подобным образом. И однако я никогда ничего ей не говорю, потому что как раз в такие минуты мне не хочется копаться в этом и выяснять отношения. А когда меня начинает тянуть к ней, все кажется проще, и я говорю себе, что ей самой это нравится, и она, конечно, предпочтет встречаться со мной так, чем не встречаться вовсе. В общем, неразбериха.
Глава 2I
В субботу утром я прихожу к магазину и вижу, что Генри стоит на тротуаре перед запертой дверью, а мистера ван Гуйтена нигде не видно.
– Мне кажется, он неважно чувствовал себя вчера, – говорит Генри, когда я спрашиваю его, что произошло. – Попал под дождь и, как видно, простудился.
– А есть кому за ним поухаживать?
– Нет, придется ему позаботиться о себе самому, – говорит Генри. – Он ведь бобылем живет. А прислуга приходит два-три раза в неделю.
Бедный старикан! Я знаю, как это бывает, когда у тебя простуда: так хочется, чтобы кто-то с тобой понянчился!
– Послушай, он же может окочуриться, – говорю я, – и никто даже знать не будет.
Генри чиркает спичкой, закуривает.
– Да, так вот оно и бывает, когда ты стар и один на всем белом свете.
Я не знаю, что на это сказать. Я не помню, чтобы мистеру ван Гуйтену случалось когда-нибудь заболеть. Он хоть и стар, но как-то трудно представить его себе больным или умирающим.
– Ну, так что нам теперь делать? Не можем же мы стоять здесь все утро. Скоро начнут появляться покупатели.
Генри кивает.
– Да, а я должен доставить покупателям на дом радиоприемники. – С минуту Генри молчит, задумавшись, потом говорит: – Я, пожалуй, поеду проведаю его, погляжу что и как.
– Поехать мне с тобой?
– А зачем? Я скоро вернусь. Нужно хотя бы доставить эти приемники; если ничего больше нельзя сделать. – Он направляется к «пикапу», который поставил накануне у себя дома в гараж.
– Что же, значит, магазин так и будет закрыт весь день?
– Прошлый раз, когда старику нездоровилось, был закрыт, – говорит Генри. – Некому было заниматься с покупателями.
– А теперь есть кому, – говорю я. – Послушай, Генри, скажи ему, что я управлюсь сам. Нельзя закрываться в субботу – это же самый хороший день. Подумай, сколько он на этом потеряет. Тридцать-сорок фунтов на одних только пластинках, пожалуй. – Генри лезет в «пикап», я хватаю его за руку. – Скажи ему, что мы управимся, Генри. Ты будешь показывать приемники, а я стану за прилавок и за кассу. А проверку приемников и починку отложишь на денек.
Генри выплевывает окурок и усаживается за баранку.
– Посмотрим, что он скажет.
Проходит полчаса, а Генри нет, и я все время как на иголках. Хожу взад-вперед перед магазином и думаю о том, что, верно, Генри не сумел растолковать все как надо мистеру ван Гуйтену и мне бы следовало поехать самому. У меня просто сердце разрывается при мысли о том, что магазин останется закрытым и столько покупателей уйдет несолоно хлебавши.
Какой-то мужчина средних лет подходит к магазину и пробует отворить дверь.
– Разве магазин еще закрыт?
– Через полчаса откроется, – говорю я ему. – Мистер ван Гуйтен нездоров, но через полчаса мы откроем. Может быть, вы наведаетесь попозже?
Он стоит, размышляет.
– У меня, понимаете ли, дочка, – говорит он. – На будущей неделе день ее рождения, а она совсем помешалась на этих автоматических радиолах. Вот решил сделать ей подарок… Уж не знаю, наведаться к вам еще разок или пойти к Нортону. У них там в витрине полно этих радиол… И телевизоров, и всякой всячины.
– Мы можем предложить то, что вам требуется, – говорю я ему. – У нас очень большой выбор радиол: и «ХМВ», и «КБ», и «Буш»… – Мне хочется схватить его за руку и пригвоздить к месту, пока не вернется Генри.
Он кивает.
– Да, да, хорошо… Я, пожалуй, немножко прогуляюсь и зайду позднее.
Я уже вижу, как он торопливо сворачивает к магазину Нортона и как этот жуткий пижон, который у них там работает, старается заманить его к ним. И в эту минуту подкатывает Генри на своем «пикапе». Я кричу этому дяде:
– Стойте, обождите секунду!.. – И бросаюсь к «пикапу». Генри отворяет дверцу и спрыгивает на землю.
– Ну, что он сказал?
– Он сказал: ладно, мы можем открыть магазин и попробовать, что получится. Он сначала не слишком обрадовался нашему предложению.
Я ухмыляюсь во весь рот.
– У нас уже есть покупатель, давай сюда ключ.
Я отпираю дверь и затаскиваю в магазин этого дядю, пока он не переметнулся к кому-нибудь еще. Мы с Генри показываем ему уйму радиол – все, что есть на полках и в задней комнате. Я пихаю Генри локтем в бок, и он начинает сыпать ему свою тарабарщину насчет потребления энергии, чувствительности, избирательности, динамиков и чего-то там еще, в чем я ровным счетом ничего не смыслю, так же как и этот тип, кстати сказать, но трескотня Генри явно производит на него впечатление – он видит, что попал к людям, которые знают свое дело.
Минут через двадцать он останавливает свой выбор на здоровенной консольной штуковине, и я привычной скороговоркой отбарабаниваю ему условия рассрочки и все прочее и едва не попадаю впросак. Оказывается я опростоволосился – недооценил этого пижона. Он минуты две стоит молча и слушает, что я бормочу, а затем извлекает из кармана пачку грязных бумажек и говорит:
– Я заплачу наличными.
Вот так. У меня до того дрожат руки, что я едва могу считать его бумажки.
– Когда вы доставите мне покупку? – спрашивает он, получая от меня квитанцию.
– В любое время, – говорю.
– Отлично. – Он царапает что-то на листке бумаги и протягивает его мне. – Доставите по этому адресу в среду утром. Только не раньше среды, имейте в виду. Мне нужно, чтобы именно в этот день.
Я быстро заглядываю в бумажку.
– Все будет выполнено точно, мистер Уэйнрайт, не беспокойтесь. – Я выхожу из-за прилавка и провожаю его до двери. – Большое спасибо, сэр. До свидания.
Как только дверь за ним захлопывается, я бегу в заднюю комнату к Генри. Он уже облачился в свой комбинезон и ковыряется в телевизоре.
– Семьдесят четыре гинеи, Генри. Семьдесят четыре хорошенькие кругленькие гинеи, черт побери! Приятно будет сообщить об этом мистеру ван Гуйтену. Даже если теперь мы за весь день продадим только пачку иголок, все равно уже открываться стоило.
Генри сует отвертку в телевизор, в самые что ни на есть кишки, и кивает головой.
– Да, неплохо, – говорит он. – Жаль, конечно, что это случайная удача.
Махнув на него рукой, я возвращаюсь за прилавок. И конечно, наши покупатели не ограничиваются одними иголками. Очень скоро в магазине у нас уже толкучка, и все эти психи готовы влезть ко мне на прилавок, и я едва успеваю хватать с полок коробки с пластинками, и кассовый аппарат звякает у меня, не умолкая. Когда приходит время закрывать, я с ключом в кармане отбываю к мистеру ван Гуйтену, усталый, как собака, но счастливый.
II
Мистер ван Гуйтен, когда я появляюсь у него, слушает Брамса. Встретив меня, он шикает, чтобы я сидел тихо и ждал, пока кончится музыка. Мне кажется, что Брамс – любимый композитор мистера ван Гуйтена. По его словам, Брамс хотя и не самый великий композитор на свете, однако никто не писал музыки, которая звучала бы так похоже на то, как должна звучать великая музыка. Ну, для меня это чересчур замысловато. Ни ритма, ни мелодии, и все что-то наворачивается и наворачивается, и кажется, что это не кончится до второго пришествия.
Часа так через три эта волынка все же приходит к концу, и мистер ван Гуйтен снимает пластинку. Я все это время сидел молча, и теперь он хочет услышать мое сообщение. Сначала я спрашиваю его, как он себя чувствует, и он говорит, что, в общем, ничего, так себе, просто небольшая простуда, но тем не менее он почел за лучшее посидеть дома. После этого я рассказываю ему о продаже радиолы и показываю бумажку, на которой записал все, что мы продали за день.
– Очень хорошо, очень хорошо, – повторяет он несколько раз, покачивая головой, и я понимаю, что он доволен.
– Вот видите, мистер ван Гуйтен, – говорю я, – открывать стоило. Я чуть не лопнул от нетерпения, дожидаясь Генри: боялся, вы скажете ему, что не надо.
Он сидит в своем большом старом кресле возле камина и внимательно смотрит на меня.
– Так вы, значит, придавали этому значение, Виктор? Вам было небезразлично, откроемся мы сегодня или нет?
– Ну как же, посмотрите, какую выручку мы могли потерять! И не известно еще, сколько новых покупателей никогда не обратились бы к нам больше, попади они сегодня к Нортону.
– Совершенно справедливо, – говорит мистер ван Гуйтен. – Вы хорошо поработали. А ведь это первый раз вам пришлось управляться в магазине одному целый день. Но я, конечно, не сомневался, что вы справитесь, иначе я не дал бы Генри разрешения открыть…
Я приваливаюсь к спинке кресла. Правду сказать, я смертельно устал, и мистер ван Гуйтен замечает это.
– Вы не особенно огорчились, когда пришло время закрывать, не правда ли? – говорит он, и я ухмыляюсь.
– Нет, признаться, не огорчился. Я ведь не присел ни на минутку за целый день.
Он ничего больше не говорит и как будто думает о чем-то другом, глядя в огонь. Так мы сидим и молчим в этой большой комнате с высоким потолком, старинной мебелью и допотопным граммофоном с огромной трубой, торчащей прямо посреди комнаты. Все здесь какое-то обветшалое, и мне было бы жутко жить среди этих вещей. Странно как-то, почему мистер ван Гуйтен держится хотя бы за этот старый доисторический граммофон, в то время как у него в магазине стоят самые новомодные механические электрорадиолы. Какая-то все же есть на то причина. Он сидит в кресле, положив локти на подлокотники и соединив кончики пальцев. На нем просторный шерстяной халат, шея обмотана шарфом. У него больной вид. Кожа кажется прозрачной, лицо осунулось.
– Вы любите свою работу, Виктор? – внезапно спрашивает он, и я пожимаю плечами. Говорить правду мне неприятно, но я не могу врать мистеру ван Гуйтену.
– Так себе, не особенно.
Он смотрит на меня поверх очков.
– Так себе?
– Мне она очень нравилась первые два-три года, – говорю я, – но теперь, последнее время… мне вроде как чего-то не хватает.
– А может быть, вам просто захотелось переменить обстановку? В жизни каждого почти неизбежно наступает такой момент, когда ему хочется переменить обстановку.
– Нет, мне кажется, дело не в этом, мистер ван Гуйтен. Мне просто надоела эта работа. Хочется заняться чем-то совсем другим. И поработать с другими людьми…
– А здесь, по субботам, вам нравится работать?
– Очень. Тут мне интересно.
– А вы никогда не думали о том, чтобы перейти на такую работу на полный день?
Меня этот вопрос несколько ошарашивает.
– Видите ли, сказать по правде, мистер ван Гуйтен, тут ведь много не заработаешь. В моей специальности тысяча фунтов в год – это еще очень скромный заработок. А если, тебя назначат старшим чертежником, так будешь получать много больше. Ну, а продавцы, как мы на каждом шагу слышим, то и дело переходят на фабрику, чтобы побольше заработать.
Он кивает.
– Да, это верно. Обыкновенный продавец зарабатывает немного. Для материальной заинтересованности в этой работе нужно… нужно, так сказать, иметь еще известный процент в деле.
Он откидывается в кресле, за спиной у него высокий торшер, и лицо его уходит в тень от абажура. В пятна света и тени углубляются морщины на его лице, они особенно резко бросаются мне сейчас в глаза.
– Я старый человек, Виктор, – говорит он. – Старше, чем вы, быть может, думаете. Мое дело приносит неплохой доход и, по-видимому, будет приносить его и впредь, вопреки… – Легкая улыбка трогает его губы —…вопреки мрачным пророчествам Генри… Дело можно было бы даже расширить, но мой возраст не позволяет мне этим заняться… Я старый человек, – повторяет он снова, – и совершенно одинок. Судьба не одарила меня счастьем иметь детей. Есть у меня какие-то двоюродные и троюродные братья в Голландии, но я их совсем не знаю, и они не знают меня. – Он делает неопределенный жест рукой и некоторое время молчит. – Мне не хотелось бы говорить лишнего, Виктор, потому что вы еще слишком молоды, совсем еще мальчик… Но правду сказать, я очень привязался к вам, и мне кажется, что вы человек способный, с характером и сумеете кое-чего добиться.
Его слова здорово меня проняли. Я растроган, и мне вдруг становится неловко, когда я вспоминаю о моих встречах с Ингрид…
– Вы очень быстро освоились с работой, хотя бываете здесь всего раз в неделю…
Куда это он клонит? – думаю. Может, он вроде как намекает, что хочет оставить мне магазин? Эта мысль волнует и немного пугает. Он выпрямляется в кресле и оглушительно сморкается. Как всегда, от его носового платка на меня веет запахом эвкалиптового одеколона.
– Сейчас пока речь идет, Виктор, о том, что я вынужден взять в магазин постоянного помощника. Мне нужен человек, который был бы мне приятен и которому я мог бы доверять так, чтобы впоследствии, быть может, через несколько лет, когда я решу совсем отойти от дел и отдохнуть, я мог бы полностью передать дело в его руки.
Теперь я понимаю, что он думает сейчас о тех днях, когда его уже не будет с нами, и не знаю, что мне ему сказать. Вот это оно самое и есть – вот к чему приводит в конце концов одиночество: оно хватает человека за горло. Сначала кажется, что стоит вам только осуществить свою мечту, найти того человека, которого вы повсюду ищете, и вы никогда уже не будете одиноки. А потом наступает такой день, когда одиночество вцепляется в вас снова, и вот вы сидите в старом истертом кресле, в старом унылом доме, и никого с вами нет, вы сидите один как перст, и все, что вам остается делать, – это ждать конца. И быть может, ничего нет страшнее такого одиночества, потому что впереди уже одна пустота.
Мистер ван Гуйтен кашляет и спрашивает, стараясь быть как можно деликатнее:
– Скажите, Виктор, если это не секрет, сколько вы сейчас получаете?
Я говорю ему, что пока мне платят семь фунтов десять шиллингов в неделю.
– А если к тому времени, когда мне исполнится двадцать один год, пройдут предложенные профсоюзом ставки, я буду получать около десяти фунтов.
– А вы считаете, что они могут установить такие ставки?
– Я почти уверен в этом. У нас на заводе довольно крепкая профсоюзная организация, и все старые служащие получают профсоюзные ставки.
– Ну, а в дальнейшем? Будет еще прибавка?
– Пока не стукнет двадцать пять лет, нет. А тогда я буду получать четырнадцать фунтов десять шиллингов.
Мистер ван Гуйтен поднимает брови.
– Четырнадцать фунтов десять шиллингов. А дальше?
– Видите ли, по линии профсоюза на этом все кончается. Фирма может накинуть вам еще немного, если найдет, что вы этого заслуживаете. Как я уже говорил, кое-кто получает у нас до тысячи фунтов в год.
– Хм, – произносит мистер ван Гуйтен и кивает головой. – Я как-то не имел представления о том, насколько хорошо или плохо оплачивается чертежная работа. Я всегда полагал, что оплата должна, соответствовать ешь способностям и квалификации.
Он снова откашливается, лезет за носовым платком, и до меня снова доносится запах эвкалипта.
– Так вот, – говорит он, – вы, несомненно, следили за ходом моей мысли. Повторяю, сейчас еще преждевременно давать какие-либо обещания и пробуждать надежды. Пока что мне требуется, или, во всяком случае, может потребоваться очень скоро, помощник. Я хочу взять человека, который был бы мне симпатичен и которому я мог бы доверять.
– Вы хотите сказать, мистер ван Гуйтен, что вы были бы не против, если бы я мог перейти работать к вам на полную неделю?
Он снова кивает.
– Правильно, – говорит он и поднимает руку, прежде чем я успеваю что-нибудь добавить. – Вы, по-видимому, никогда еще всерьез над такой возможностью не задумывались, а я меньше всего хотел бы заставлять вас сойти с избранной вами стези. Вот почему я спросил, довольны ли вы вашей работой. Теперь предположим, что заработок у вас будет примерно такой же и кое-какие перспективы в дальнейшем. Это когда вы – не в будущем году, учтите, а лишь со временем – станете уже не просто продавцом в нашем предприятии. Если, конечно, оно не захиреет. Что бы вы мне ответили в таком случае?
– Не знаю, мистер ван Гуйтен. – Я молчу, размышляю. – Предложение ваше мне кажется заманчивым. Вы знаете, что мне всегда нравилось работать у вас… – Так как он, по-видимому, не ждет ответа тут же, на месте, я говорю: – Большое вам спасибо за ваше предложение, мистер ван Гуйтен, и, если позволите, мне бы хотелось еще хорошенько его обдумать.
– Прекрасно, – говорит он. – Вполне разумно. Ни в коем случае я бы не хотел, чтобы вы принимали решение очертя голову.
– И притом мне нужно обсудить все это дома, вы понимаете.
– Разумеется, разумеется, я только что хотел спросить, не поговорить ли мне с вашим отцом.
– Я скажу ему, и он, вероятно, заглянет к вам как-нибудь после работы.
Вскоре после этого я ухожу. Мистер ван Гуйтен снова благодарит меня за сегодняшний день и, давая мне деньги, добавляет еще десять шиллингов – вроде как бы премиальные. Я отказываюсь, но он не хочет отпустить меня, пока я не возьму.
В тот же вечер за ужином я сообщаю эту новость матери и отцу.
– Мистер ван Гуйтен предложил мне перейти к нему на работу на полную неделю, – говорю я и наблюдаю за выражением лица нашей Старушенции.
– Что же ты ему ответил? – спрашивает она.
– Я сказал, что подумаю и погляжу, как вы с отцом к этому отнесетесь.
– По-моему, от добра добра не ищут, – говорит Старушенция. – До чего ты там можешь дослужиться, в магазине-то?
– Обожди минутку, – говорит Старик. – Придержи язык. Это ведь не то, что работа в любом магазине. Мистер ван Гуйтен очень высокого мнения о нашем Викторе. Он смотрит на него почти как на родного сына… Что именно он тебе сказал, Виктор? Он ведь не просто так взял и предложил ни с того ни с сего.
– Ну нет. Он очень долго ходил вокруг да около, говорил о том, что он стар и у него нет родственников, что он не хочет, чтобы я необдуманно сошел с избранной мною стези. Ну, ты знаешь, как мистер ван Гуйтен изъясняется.
Старик кивает. Он вообще-то здорово соображает, наш Старик. Сразу смекает, что к чему, и на этот раз ему тоже быстрее, чем нашей Старушенции, удается ухватить суть дела.
– А как же! – говорит он. – Мистер ван Гуйтен по-настоящему образованный господин, без дураков.
– Но сколько там можно заработать, в этом магазине, Артур? – говорит наша Старушенция. – Виктору скоро исполнится двадцать один год, и он получит хорошую прибавку.
– Ну, насчет этого мы тоже говорили. Он сказал, что с заработком все будет в порядке.
– Ты, я вижу, как будто не прочь перейти к нему, а, Виктор? – говорит Старик. – А ведь тебе всегда хотелось стать чертежником. Помнишь, как ты плясал от радости, когда пришло извещение, что тебя принимают на работу к Уиттейкеру?
– Мне тогда было всего шестнадцать лет. А сейчас эта работа стала уже как-то не по нутру. И не потому, что мистер ван Гуйтен сделал мне это предложение… Это еще раньше началось… – Я чувствую, что начинаю ухмыляться во весь рот. – Да, по правде говоря, я бы не против перейти к нему. Мне нравится это место.
– Раз уж оно так получается, надо, мне думается, пойти перемолвиться с ним словечком, – говорит Старик.
– Ну да, он тоже сказал, что хотел бы потолковать с тобой. А я сказал, что ты заглянешь к нему как-нибудь по дороге с работы.
– Еще чего! – говорит Старик. – Так я и потащился к мистеру ван Гуйтену в тех же штанах, в которых лазаю в шахту. Как-нибудь вечерком вымоюсь, переоденусь и схожу к нему, и мы с ним потолкуем.
III
Через неделю все уже решено. Я перехожу на работу к мистеру ван Гуйтену, получать буду восемь фунтов в неделю, а когда мне исполнится двадцать один год – девять фунтов, и мистер ван Гуйтен говорит, что я могу положиться на него в отношении дальнейшего.
Джимми Слейд – первый, кому я рассказываю об этом у нас в чертежке. Сразу же после пасхальных каникул.
– Как это делается, когда хочешь заявить об уходе?
– Мне кажется, надо подать заявление заведующему отделом. Что-нибудь в таком духе: «разрешите поставить вас в известность, что с такого-то числа я прошу освободить меня от занимаемой мною должности».
– А за какой срок нужно уведомить?
– По-моему, ты обязан уведомить минимум за неделю, но приличнее будет, если уведомишь за две. И я бы на твоем месте заранее переговорил со стариком Хэссопом и предупредил его о своем намерении, чтобы он не оказался в дураках.
– Не больно-то мне охота с ним объясняться.
– Говорят, он даже Конроя пытался отговорить, – замечает Джимми. – А мне всегда казалось, что он его терпеть не может.
– Старина Конрой был чертежник, каких мало. Хэссоп знал, что он теряет хорошего работника. Я буду классом пониже.
Пока мы болтаем, раздается звонок на обед, и мы вместе со всеми выходим из бюро.
– Глупо как-то получилось у меня с Конроем, – говорю. – Только-только мы с ним сошлись немного, а он тут как раз и уволился.
– Альберт был неплохой малый, – говорит Джимми. – С ним вполне можно было ладить, если не обращать внимания на его манеру разговаривать. Мне он всегда был куда симпатичнее, чем Льюис.
– Да и мне тоже, во всех отношениях.
– Ну что же, – говорит Джимми, – раз уж ты решил, так решил. А мне будет не хватать тебя, собака ты.
– А, брось, – говорю. – Я же не собираюсь эмигрировать в Тимбукту. Мы еще не один вечерок проведем вместе после работы.
– Да, конечно.
Мы проходим по коридору, отворяем дверь и слышим пронзительный женский крик, а затем какой-то шум и суматоху внизу на лестнице. Когда мы сбегаем вниз, там уже целая куча девчонок и несколько парней, и все они толпятся вокруг чего-то, что лежит на полу.
Кто-то кричит:
– Нет, не трогайте ее! Бегите за медсестрой! – И один из ребят бросается к выходу.
Нам с Джимми ничего не видно, и протолкаться к выходу мы тоже не можем. Когда одна из девушек оборачивается, я спрашиваю ее:
– Что там случилось? Кто это?
– Это Ингрид Россуэл, – говорит она, и я вижу, что ее прямо-таки трясет от волнения. – Она упала с лестницы. Пересчитала все ступеньки. Не могла ни за что ухватиться. Только вскрикнула и покатилась вниз.
– Не можем ли мы чем-нибудь помочь?
– Да нет, едва ли. Побежали за медсестрой. Она потеряла сознание, и мы боимся ее трогать.
Сердце у меня стучит как барабан, и все мутится перед глазами. Джимми хватает меня за руку и тащит к двери.
– Пошли, мы только путаемся под ногами. Идем в столовую.
Мы возвращаемся с другого хода и понемногу узнаем обо всем, что произошло. Когда прибежала дежурная медсестра, Ингрид уже пришла в себя, медсестра велела двум парням отнести ее в приемную, а сама вызвала «Скорую помощь». На другой день становится известно, что в лечебнице Ингрид сделали рентген и оказалось, что у нее сломана левая рука. Я узнаю все это от Джимми, который узнал это от Паулины Лоуренс, которая узнала это от медсестры. Я рад, что с Ингрид не случилось ничего серьезного, но теперь, после того как первый испуг прошел, мало думаю о ней. Однако понимаю, что должен все же что-то сделать, выкладываю восемь фунтов и шесть пенсов за коробку шоколадных конфет и передаю ее вместе с небольшой записочкой Паулине, которая собирается навестить Ингрид. В записке я выражаю сожаление по поводу случившегося и надежду, что она скоро поправится.
О своем решении переменить работу я не сообщаю. Ингрид не может ничего написать мне, так как у нее сломана левая рука, а она левша, и просит Паулину поблагодарить меня за конфеты, что та и делает.
Когда я обо всем этом думаю, меня даже радует, что она не может мне писать, потому что это лишает ее возможности выудить у меня какие-либо обещания. Теперь она прикована к постели, а я ухожу от Уиттейкера, и нужно этим воспользоваться, чтобы покончить со всем раз и навсегда. Тогда, вероятно, мне сразу станет легче, и я не буду чувствовать себя так погано. Все будет в порядке, если я не буду видеть ее. Тогда я и думать о ней перестану.
Сегодня после обеда я сообщил мистеру Хэссопу, что собираюсь в конце недели подать заявление об уходе. Особых возражений это не вызывает. По-видимому, ему решительно все равно, останусь я или уйду. Тем не менее мы довольно долго переливаем из пустого в порожнее, и он расписывает мне, какие блестящие перспективы открываются перед чертежником, и разъясняет все отрицательные стороны работы продавца в магазине. Я говорю ему, что уже обдумал все это, что предполагаю стать со временем не просто продавцом, и на этом наша беседа заканчивается.
В пятницу утром приношу мое заявление мисс Пэджет, секретарше мистера Мэтью, и через две недели после этого покидаю бюро, совсем как Конрой, уложив свои чертежные принадлежности в портфель и засунув в карман красивый бумажник из свиной кожи с моими инициалами и вложенным в него фунтом стерлингов – прощальный презент от сослуживцев.
В последнюю минуту, когда они вручают мне этот бумажник и Хэссоп несет всякую чепуху, как в тот раз, когда провожали Конроя, чувствую, что к горлу опять вдруг подкатывает комок, бросаю взгляд на лица сослуживцев, и меня охватывает паника: а что, если я делаю неверный шаг? Потому что в эту минуту мне припоминается все только самое хорошее – те дни, когда все здесь так радостно волновало меня и я еще не испытывал ни скуки, ни томления. И я думаю о том, какие они все славные ребята, и где-то еще я встречу таких славных ребят, и о том, что мне будет здорово их не хватать.