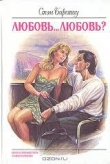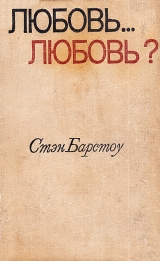
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
I
Снова святки. В тот день, когда мы закрываем магазин на праздники, у нас с мистером ван Гуйтеном происходит небольшая беседа, и он говорит мне, что чрезвычайно доволен тем, как у нас идут дела. Приятно сознавать, что и от тебя есть какой-то толк. Я получаю от мистера ван Гуйтена праздничные премиальные – пять фунтов – и тут же раскошеливаюсь на пудреницу для Ингрид: иду и выкладываю три фунта десять шиллингов.
На святках в День рассыльных Крис и Дэвид приглашают нас к себе на годовщину их свадьбы. Просто не верится, что уже пролетел год, с тех пор как они поженились, но как подумаешь обо всем, что за это время произошло со мной… Наш Старик, как всегда, отпускает свои заплесневелые шуточки насчет того, что только первые семь лет трудно, а им теперь осталось всего каких-нибудь шесть. Они отшучиваются и от него, и от нашей Старушенции, которая все съезжает на то, что у них скоро пойдут дети, в то время как у них никаких признаков детей нет еще и в помине. Может, у них по этой части не все в порядке, размышляю я, а потом прихожу к выводу, что ведь они женаты всего год и в конце-то концов какое кому дело, когда у них пойдут дети и сколько их будет. Но как же это похоже на нашу Старушенцию: сначала ей все не терпелось, чтобы Крис поскорее выскочила замуж, а теперь ей уже не терпится стать бабушкой. Интересно, за кого она теперь примется? За меня, по всей вероятности. Каждую минуту я жду, что она начнет делать намеки на мой счет. Конечно, в принципе я не против женитьбы. Но ведь надо, чтобы посчастливилось встретить хорошую девушку и знать, что это уже настоящее, а не мимолетное увлечение, как с Ингрид. Мне кажется, брак – это нечто совсем особое, если Крис и Дэвид после целого года совместной жизни выглядят такими счастливыми. Во всяком случае, глядя на них, я еще острее чувствую разницу в моем отношении к Ингрид тогда, год назад, и теперь.
Как-то утром в январе я спускаюсь вниз к завтраку и вижу возле моего прибора письмо. Адрес на конверте написан рукой Ингрид. Сажусь за стол, беру письмо и чувствую, что наша Старушенция следит за мной в оба, хотя и стоит ко мне спиной – это уж она так умеет, словно у нее еще одна пара глаз, на затылке.
– Письмо от твоей подружки?
– От какой подружки?
– От какой подружки? – Я слышу, как шипят яйца, которые она выливает на сковородку. – От той девчонки, которой ты хороводишься, – говорит она. Верно, думаю, видела меня где-то с Ингрид, но тут она говорит: – От девчонки, которая прислала тебе поздравительную открытку в твой день рождения и подарила тебе портсигар.
– О, эта… Так это было несколько месяцев назад.
– А теперь ты что же – больше с ней не встречаешься?
Кто ее знает, что она могла пронюхать. У нашей Старушенции не сразу-то разберешь, с ней легко попасть впросак.
– Да так, время от времени. Мы с ней, в общем-то, дружим.
– Так чего ты тогда виляешь? – говорит она. – Ты что, стыдишься ее или как?
Она оборачивается ко мне, и я опускаю глаза в тарелку с кукурузными хлопьями.
– Просто я не хочу, чтобы ты вообразила невесть что.
Она снова отворачивается и поливает яичницу растопленным салом.
– Что такое я могу вообразить?
– Ну, что это серьезно и прочую муру.
Она покачивает головой.
– Понять не могу, что такое творится с молодежью нынче! Сами не знают, чего им надо. Все хотят только позабавиться – сегодня с одной, завтра с другой. Когда я была молодая, у нас парни либо ухаживали за девушкой всерьез, либо оставляли ее в покое.
Она снимает сковороду с плиты и широким кухонным ножом раскладывает куски яичницы по тарелкам: одно яйцо Джимми, одно мне. Потом дает нам еще по куску бекона, ставит сковороду обратно на плиту и выключает газ. Берет свою чашку и принимается пить чай, поглядывая, как мы с Джимми уплетаем яичницу.
– Теперь все по-другому, – говорю я, – времена меняются. Знаешь, как теперь говорят: нужно перебеситься до брака, чтобы потом не потянуло.
– Бывает и иначе: парень только побаловаться хочет, а его хлоп – и окрутили, – говорит Старушенция.
Разговор этот был мне не по нутру с самого начала, а теперь он и вовсе принимает такой оборот, что нравится мне все меньше и меньше, поэтому я умолкаю и не произношу больше ни слова. Минуты бегут, мы продолжаем молча есть, и через некоторое время Старушенция говорит:
– Что же ты не распечатаешь письмо?
– Прочитай письмо, Вик, будь паинька, – говорит Джим. – А мы послушаем, что новенького.
– Придержи язык, пока не получил хорошего подзатыльника, – говорит Старушенция. – Это будет самая для тебя подходящая новость.
Джим сидит к ней спиной, он прячет голову в плечи, высовывает язык и страшно таращит глаза.
– Я прочту в автобусе, – говорю я, стараясь не улыбнуться, чтобы не выдать Джима. – Верно, какая-нибудь ерунда.
– Ну, едва ли! – говорит Старушенция крайне сухо. – Зачем бы тогда стала она писать?
Однако, как она ни старается, я не поддаюсь на удочку и, когда я спускаюсь с холма к автобусной остановке, письмо, все еще не распечатанное, лежит у меня в кармане. Я здорово зол на Ингрид за то, что она послала это письмо и растревожила нашу Старушенцию. Точно нельзя было позвонить по телефону, если ей хотелось мне что-то сообщить! На остановке я разрываю конверт.
«Дорогой Вик, – пишет Ингрид, – у меня что-то с желудком, и я не была сегодня на работе и не пойду и завтра (в четверг), а значит, не смогу с тобой встретиться. Но сегодня вечером мамы не будет дома, и ты, если хочешь, можешь прийти к нам. Ты знаешь, где я живу. Постучись с черного хода. Любящая тебя Ингрид.
P. S. Не приходи раньше половины восьмого, потому что мама уйдет только в семь».
Что ж, это действительно хорошая новость. Я еще никогда не был у Ингрид, но, уж наверное, у них там найдется кушетка или большое кресло, и это будет куда удобнее, чем в парке.
II
– Я никак не могла позвонить тебе, потому что мама целый день была дома, – говорит Ингрид. – Тогда я нацарапала эту писульку, сказала, что хочу немножко погулять, пошла и отправила.
– Ты ничего не рассказывала своей маме обо мне? – спрашиваю я.
– Нет, не рассказывала. Ведь мы с тобой… Понимаешь, если бы мы были помолвлены, тогда другое дело…
– Да… конечно.
– А твои родители тоже ничего не знают обо мне?
– Да вроде и знают, и не знают. Они видели твою открытку и догадываются, что какая-то девушка подарила мне портсигар, но, как часто мы встречаемся и что вообще у нас с тобой, этого они не знают.
Ингрид слегка краснеет.
– Надеюсь, что нет… В этом-то вся беда, верно? Мы ведь никому не можем сказать о том, что у нас с тобой, верно?
– Для тех, кому это интересно, ну, для тех, кто мог видеть нас вдвоем, мы с тобой просто приятели, которые проводят иногда вместе время, и все.
Она ничего не отвечает, смотрит на огонь в камине и оправляет – машинально, я полагаю, – юбку, стараясь прикрыть колени. Вообще-то ноги у нее открыты много выше колен, потому что она носит очень короткие юбки, а эти мягкие кресла так устроены, что в них совсем тонешь.
Мы сидим в столовой. У них в доме такой же, по-видимому, порядок, как и у нас: гостиной пользуются редко. Но столовая очень уютная: кожаные кресла, стулья и кушетка – все из одного гарнитура – и большой ковер во весь пол. По одну сторону камина консольный телевизор, по другую – радиола на маленьком столике. Мамаша Ингрид, должно быть, отъявленная монархистка, потому что над камином у них огромная цветная фотография королевы в коронационном наряде. В камине жарко пылает огонь, и я чувствую себя славно, совсем как дома, я даже снял пиджак и повесил его на спинку стула.
Ингрид, кажется мне, немного взволнована от того, что принимает меня здесь потихоньку от матери, – она как-то ненатурально весела и все время хихикает. Вернее, все время хихикала, пока мы не заговорили о наших с ней отношениях, а теперь она примолкла, словно этот разговор заставил ее задуматься, – сидит и смотрит в огонь. А я как раз думал о том, что сейчас подойду и поцелую ее. Нам здесь так хорошо и уютно, мы в первый раз так по-настоящему, совсем уединились, и мало ли что может случиться? Я вижу линии ее тела под бледно-розовой блузкой, и мне хочется поглядеть как следует. Хочется убедиться, что мои руки не обманывали меня и я не зря думал, что она чудо как хороша.
Я встаю, достаю сигарету. Вытаскивая из кармана портсигар, я заодно нечаянно выгребаю еще разные мелочи: расческу, бумажник и маленькую книжечку с фотографиями голых красоток, которая приглянулась мне, когда два дня назад я покупал сигареты в табачной лавчонке. Ингрид в этот момент встает, чтобы задернуть шторы, и мне не удается спрятать от нее эту книжонку – она так и остается валяться на полу. Ингрид видит ее – видит красотку на обложке, и тут уж никуда не денешься. В ту же секунду Ингрид наклоняется, хватает книжонку и отпрыгивает в сторону, когда я делаю попытку отнять ее.
– Перестань, дай сюда!
Она смеется.
– Нет. Я хочу посмотреть и убедиться, какой ты, однако, старый, грязный паскудник.
Она прячется за спинку кресла. Ну, ясно: чтобы пoлучить обратно книжонку, я должен гоняться за Ингрид по всей комнате и отнять ее силой. Чувствую, что краснею, но не собираюсь поднимать из-за этой книжонки целую бучу, сажусь в кресло и закуриваю. Ингрид видит, что меня все это не слишком трогает, подходит ближе, садится и начинает перелистывать страницы. Мне кажется, что она всерьез увлечена этим занятием: не хуже любого парня разглядывает подробно каждую фотографию и время от времени хихикает – должно быть, когда находит что-нибудь особенное, по ее мнению, пикантное. Я подхожу, сажусь на ручку ее кресла и заглядываю ей через плечо. Довольно-таки острое ощущение – разглядывать с ней вместе эти фотографии, руки у меня дрожат, и кровь стучит в висках.
– Не понимаю, как они могут все это проделывать, – говорит она. – Как это можно – стоять перед фотографом в таком виде.
– Мне кажется, они к этому по-другому относятся. Это профессия. Используют, так сказать, свои природные ресурсы.
– Я уверена, что этим дело не ограничивается.
– Так кто здесь старый паскудник? У кого грязные мысли?
– Ну хорошо, ну скажи, если бы ты целый день фотографировал подобным образом женщин, разве бы тебе тоже не полезло это в голову? Ну посмей сказать, что нет!
– Не знаю, не пробовал. Я, видишь ли, понятия не имею, где и кто этим делом занимается. Мой отец, конечно, поступил бы очень толково, если бы догадался отдать меня на выучку к одному из этих фотографов.
Она толкает меня локтем в ляжку.
– Пошел ты! – И снова переворачивает страницы. – Вот эта – прелесть, ничего не скажешь! Точно литая вся, верно?
– Ты не хуже ее, – говорю я и рад, что она не видит, как пылают у меня щеки.
– Ах, отстань, – говорит она. – Ты надо мной смеешься.
– Вовсе нет, я считаю, что ты сложена ничуть не хуже ее.
– Да ты погляди, какая у нее грудь! Ручаюсь, что она даже не носит бюстгальтера.
У меня пересохло в горле, и мне не сразу удается вымолвить.
– У тебя очень… красивая грудь. Я давно это заметил.
– Перестань, – говорит она. – Ты вгоняешь меня в краску.
Я вижу, как у нее розовеют шея и уши.
– Конечно, голову на отсечение не дам, поскольку я… Я хочу сказать…
– Знаю я, что ты хочешь сказать, – говорит она. – Можешь не вдаваться в подробности.
Я наклоняюсь к ней, поворачиваю к себе ее лицо. Я целую ее, но она почти не отвечает на мой поцелуй.
– А мне бы хотелось, чтобы мы это могли, – говорю я.
– Что могли?
– Вдаваться в подробности.
– А тебе не кажется, что ты слишком многого хочешь?
Наклонившись к ней, я тихонько шепчу ей кое-что на ухо, а она переворачивает страницы, делая вид, что хочет досмотреть до конца. Я встаю с кресла, подхожу к ней вплотную, беру ее за локти, заставляю подняться и снова целую. Но она по-прежнему почти не реагирует. Я чувствую, что она в каком-то капризном настроении, но я уже снова совсем без ума от нее, и она, конечно, слышит, как колотится мое сердце, когда я ее к себе прижимаю.
– Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, Ингрид, – говорю я.
– В том-то и беда, – говорит она, – что не знаю.
– Ни с кем у меня еще не было так, как с тобой, – говорю я, и говорю истинную правду.
– Но ты ведь не всегда это чувствуешь, верно? И тогда ты даже не вспоминаешь обо мне.
Я молчу в замешательстве. Что я могу сказать ей?
– Я сам не могу в себе разобраться иногда, – говорю я. – Со мной ведь ничего подобного никогда еще не бывало. Я знаю, что тебе иной раз кажется, что я подонок, но это выходит у меня против воли, и на самом, деле я не такой. Просто иногда у меня, возникает какое-то поганое чувство, и тогда мне начинает казаться, что продолжать все это как-то нечестно по отношению и к тебе, и ко мне…Я ведь хотел все покончить, ты же знаешь, когда увидел, что получается не так, как я думал…
– Но я стала бегать за тобой…
Все это мне совсем не нравится. Мы не плохо обходились без этих разговоров, и мне казалось, что мы оба уже понимаем, чего можем друг от друга ждать, и Ингрид решила примириться с тем, что есть, хотя бы это и было не то, о чем она мечтала. Но с другой стороны, этот разговор дает мне по крайней мере возможность несколько оправдаться в ее глазах, показать, что я понимаю, каково ей; ведь на первый взгляд может показаться, что я просто обыкновенный эгоист и стараюсь только добиться своего. К сожалению, в каждом человеке есть две стороны, и Ингрид пробуждает далеко не лучшее, что есть во мне.
– Может быть, ты хочешь покончить? – говорю я.
В таком состоянии, как у меня сейчас, нелегко произнести подобные слова, но я считаю, что обязан пойти ей навстречу, если это то, чего она хочет. – Я, конечно, не могу обижаться на тебя.
Несколько секунд она молчит и, по-видимому, размышляет, стоя совсем близко ко мне и глядя в пол. Потом говорит:
– Нет, я не хочу покончить.
И когда она поднимает голову и целует меня, в ее поцелуе я снова чувствую все то, что она только что старалась подавить в себе.
Я принимаюсь расстегивать на ней блузку, и она не противится, потому что мы и раньше проделывали это. Но когда я хочу, пойти дальше, она удерживает мою руку.
– В чем дело?
– Кто-нибудь может прийти.
– Разве ты кого-нибудь ждешь?
– Нет, но ведь никогда нельзя поручиться.
– Запри дверь.
– Я уже заперла.
– Ну, так если кто-нибудь придет, ты можешь сделать вид, будто принимала ванну, – говорю я первое, что приходит мне в голову,
– О, Вик…
– Прошу тебя, Ингрид, прошу тебя,
– Ну зачем, право же, не нужно…
– Это тебе не нужно. Ты девушка. А для меня это очень много значит. Я иногда не могу думать ни о чем другом. Лежу в постели и все время представляю себе…
– Но я же не могу раздеться, пока ты здесь. Ты должен выйти.
– Ну прошу тебя. Я бы сделал это для тебя.
– Нет, Вик, я не могу, честное слово. Ты должен выйти.
– Ну, хорошо, – говорю я. Нельзя же требовать сразу всего. – Я пойду в ванную.
– Поднимись по лестнице – ванная наверху, первая дверь направо. Только не приходи слишком скоро, ладно?
Я смотрю на часы.
– Сейчас половина. Я вернусь без двадцати.
Она зажигает лампочку возле телевизора и выключает верхний свет. Потом подходит к камину и, опершись рукой о каминную полку, стоит и смотрит в огонь.
Я выхожу из столовой, иду по коридору и поднимаюсь по лестнице. Чувствую под ногами толстый ковер. Дом невелик, но обстановка производит на меня большое впечатление. По-видимому, мистер Росуэлл тратит немало денег на то, чтобы Ингрид и ее мамаше уютно жилось в этом доме, пока сам он где-то там путешествует. Стены ванной выкрашены в розовый цвет и облицованы черным кафелем примерно на высоту человеческого роста. У нас дома ванна стоит на четырех чугунных ножках, похожих на лапы, а здесь она по-новомодному утоплена в пол и тоже облицована черным кафелем.
Я совершенно не знаю, куда себя девать эти десять минут, которые нужно выждать, но, бросив взгляд в зеркало над раковиной, вижу, что не мешает причесаться, и некоторое количество времени уходит у меня на то, чтобы пригладить вихры. Затем я мою руки голубым душистым мылом, подношу их, сложив лодочкой, к самым губам, дышу и стараюсь проверить, не пахнет ли у меня изо рта. Это не очень надежный способ, но у меня нет оснований особенно беспокоиться на этот счет. Потом я опускаю крышку унитаза и усаживаюсь. Смотрю на часы и вижу, что остается еще пять минут. Я сижу и думаю об Ингрид там, внизу, в столовой, думаю о том, что она сейчас делает. Совершенно неожиданно в памяти всплывают слова, которые изрекла как-то наша Старушенция, когда я вляпался в одну историю… Не помню уже, что такое со мной тогда было, помню только, как она сказала: «Никогда не делай того, в чем ты постыдился бы признаться матери». О господи – видела бы она меня сейчас! Послушать ее, да и Старика, если на то пошло, тоже, так и я теперь еще должен был бы верить, что детей находят под капустным листом и что вся разница между мужчиной и женщиной только в том, что у женщин волосы растут преимущественно на голове, а не на подбородке и им не надо бриться. И я думаю: какая все-таки странная штука это различие полов и то, как мужчины теряют из-за женщин голову и совершают всевозможные безумства. Так оно было с сотворения мира, а вот теперь случилось со мной, и никто не знает, когда и чем все это может кончиться.
Я нарочно задерживаюсь наверху лишние две минуты. Когда я спускаюсь по лестнице, ноги у меня как ватные.
III
Несколько дней спустя выпадает первый настоящий снег. Он идет всю ночь, а утром, когда все спешат на работу, снегоочистители уже стараются на улицах вовсю. Снег держится почти целых две недели, и даже, когда он начинает таять, в полях и в разных закоулках, где никто не ходит, еще долго лежат грязновато-белые комья. И по-прежнему холодно. Холоднее даже, чем в те дни, когда шел снег. Теперь все покрыто льдом, мороз здорово пощипывает, и просто не верится, что когда-нибудь опять будет тепло. Словом, наступает самое скверное время для любовных встреч под открытым небом, и мы с Ингрид чаще ходим в кино. Но все же время от времени мы не можем не пойти в парк, хотя бы просто для того, чтобы укрыться там в какой-нибудь беседке. В такие вечера, когда руки у меня словно две ледышки, мне вспоминается их уютная столовая, камин и кушетка. Но снова побыть там, как тогда, вдвоем, нам больше не посчастливилось ни разу.
Однако кое-что изменилось. Было время, когда даже помыслить о том, чтобы дойти с Ингрид до самого конца, было для меня так же невозможно, как задумать ограбление банка. Ведь это значило бы просто накликать на себя беду. Но с тех пор, как я увидел ее без одежды, узнал, какова она, убедился в том, что она и в самом деле ослепительно хороша, соблазн поселился во мне и словно какой-то чертенок сидит на плече и нашептывает в ухо: «Чего ты медлишь, познай то, что тебе хочется познать. Тебе уже двадцать один год, а ты еще никогда ни с кем этого не пробовал. Ты уже зашел так далеко, почему нет пойти чуть дальше? Ничего в этом нет дурного, все это делают, и она сама хочет».
И вот однажды вечером, когда мороз внезапно спал и в воздухе опять потеплело, мы направились к нашему старому местечку под деревьями. Чертенок на этот раз нашептывал особенно настойчиво, и, право, можно подумать, что он или какой-то его дружок нашептывал то же самое и Ингрид, потому что это произошло. Мне не пришлось принуждать ее, не пришлось, в сущности, даже уговаривать; она, казалось, так же была готова к этому, как и я, и мы опомнились лишь после того, как все уже случилось.
– Все будет в порядке, Вик? Как ты думаешь? – спрашивает она меня шепотом.
– Что именно? А, ну конечно! – Откуда мне знать, черт побери! – думаю я. Дай бог, чтобы было в порядке, вот и все, что я могу сказать.
– Но мы больше не будем так рисковать, хорошо?
– Нет, не будем. Я что-нибудь раздобуду. – Когда на меня снова это накатит и я захочу видеть ее, я постараюсь что-нибудь раздобыть. Я еще сам не знаю как. Нельзя же войти в аптеку и спросить это, как пачку сигарет! Надо будет посоветоваться с Уилли, он-то уж знает. А по мне, сейчас, так хоть бы этого никогда больше не повторилось. Теперь, когда все позади, мне странно, почему этому придают такое значение, и я жалею, что мы зашли так далеко, когда можно было получать удовольствие без всякого риска, как мы это делали прежде.
Но проходит дня два, и мне уже не терпится все это повторить, и я даже важничаю в душе, чувствую себя настоящим мужчиной. Этаким искушенным во всех делах пижоном с любовницей, которая влюблена в него по уши и всегда к его услугам. И я начинаю поглядывать по сторонам в надежде, что мне попадется где-нибудь Уилли, но именно теперь, когда он мне так нужен, Уилли словно сквозь землю провалился. И вот однажды вечером я отправляюсь к нему, хотя и не очень рассчитываю застать его дома. Я прежде был у Уилли всего раз, и мне у него очень не понравилось. Он живет на крутой грязной улочке, где дома лезут в гору и лепятся друг над другом. И все дворы кишмя кишат сопливыми мальчишками, у которых штаны мешком свисают с зада. Старшие братья Уилли – шайка отъявленных хулиганов, вечно под мухой, и мать у них довольно-таки гнусная с виду тетка. Наша мать грубовата на язык и всякое такое, но она никак не чета такой неряхе.
Когда я иду по улице, из какого-то дома с ревом выбегает малыш. Лет пяти-шести, замызганный как черт. Ревет так, что я останавливаюсь. Ребятишки вечно ревут по каждому пустяку, но этот уж так рыдает, так рыдает, что кажется, у него сейчас разорвется сердце. Я никогда не слыхал, чтобы ребенок мог рыдать с таким отчаянием, и у меня вся душа переворачивается.
Уилли нет дома, и я спрашиваю его мамашу, не знает ли она, где он обретается.
– Нет, – говорит она, стоя на крыльце и сложив руки под засаленным передником. – Откуда мне знать? Он никогда не говорит, куда идет. А ты бы поискал его в пивных, он больше там околачивается.
– Я его еще нигде не искал. Пришел прямо сюда.
– А ты знаешь, куда он ходит?
– Знаю одну-две пивные, где он любит пропустить кружку пива.
– Ну вот, поищи там. А может, он в кино пошел. Этот малый почитай что каждый вечер торчит в кино. Кончит тем, что ослепнет раньше времени. Я уж ему сто раз говорила.
– Пойду поищу, пожалуй.
– Ну да, пойди поищи. – Она оглядывает меня с головы до пят, рассматривает, что на мне надето. Я вижу, она меня не узнает. – А что, он тебе так больно нужен?
– Да нет. Просто мы с ним учились вместе. Давно его не видал, ну и решил заглянуть.
Она кивает.
– Понятно. Ну что ж, ступай поищи в пивных. Где-нибудь наскочишь на него.
Я иду по улице, а она смотрит мне вслед, стоя на крыльце. Потом окликает меня.
– Мне что-то помнится, – кричит она, – он вроде как поминал насчет бильярда! Ты знаешь, где здесь бильярдная-то?
Я говорю ей, что это мне известно, и что я попробую заглянуть сначала туда. И ухожу, думая о том, что ей ровным счетом наплевать, где шляется Уилли, лишь бы он не вертелся под ногами. Интересно, думаю, как бы я себя чувствовал, будь у меня такая мамаша. Да, уж моя в миллион раз лучше, хоть и любит совать нос в чужие дела.
Поднимаюсь по деревянной лестнице в бильярдную, которая помещается на Рыночной площади, на углу Кооперативной улицы. Отсюда в базарный день хорошо видны все парусиновые навесы палаток, вплоть до стеклянной крыши главного рыночного здания. Уилли, скинув пиджак, играет на одном из четырех бильярдов под яркой лампой с круглым абажуром.
– Привет, Уилли!
– А, Вик, старый хрыч! Как жизнь?
– Помаленьку.
Уилли натирает мелом кончик кия и наклоняется над бильярдом.
– Хочешь сыграть? – спрашивает он.
– Нет, я искал тебя. Заходил к тебе домой. Твоя мать сказала, что ты, верно, здесь.
– У тебя срочное дело?
– Нет, просто хотел тебя проведать. Давно не видались.
– Тоже правильно, – говорит Уилли.
В зале еще человек пять каких-то парней, и этот малый, с которым Уилли играет, тоже мне не знаком. Они играют в американку. Уилли посылает шар, и он с треском ударяется о борт.
– Я сейчас, только утру Фреду сопли, отправлю его домой к мамочке, и мы с тобой пойдем выпьем пива, ладно?
Парень, которого зовут Фредом, ухмыляется.
– Ну, такими ударами ты не скоро отправишь меня домой к мамочке, Уилли, – говорит он.
– А! – невозмутимо бросает Уилли. – Вся соль не в том, как играть, а в том, чтобы получать от этого удовольствие. Я вот получаю больше удовольствия, чем ты, потому что ты играешь, чтобы выиграть, а мне интересно и так.
Я расстегиваю плащ, закуриваю и сажусь – жду, когда они кончат. Этот малый, Фред, вчистую обыгрывает Уилли, и тот ставит кий на место, улыбается и подмигивает мне.
– Порядок. Теперь пойдем выпьем. Пойдешь с нами, Фред?
Фред отказывается – он хочет сыграть еще разок, и я очень этому рад, потому что мне надо поговорить с Уилли с глазу на глаз. Мы спускаемся по лестнице и заходим в «Корону», которая помещается рядом. В этот вечер здесь тихо и пусто – мы с Уилли чуть ли не одни во всем зале. Мы пьем пиво и болтаем о том о сем, прежде чем я решаюсь приступить к делу.
– Послушай, Уилли, когда у тебя дела с девушкой, ну, понимаешь, когда они идут уже на полный ход, где ты достаешь свои принадлежности?
– Ого! – говорит Уилли. – Так вот оно что! Тебе это понадобилось?
С Уилли надо говорить напрямик, и я выпаливаю:
– Ну да, у меня есть девушка, и у нас с ней все на мази, только я не хочу рисковать.
– А может, возьмешь меня в долю? – спрашивает Уилли. – Расходы пополам.
– Она не шлюха, Уилли. Просто она любит меня. Мы с ней уже давно встречаемся.
– А как ее зовут? Я ее знаю?
– Нет. Она не в нашем районе живет… Понимаешь, мне только бы достать эту штуку, и у меня будет полный порядок.
– Везет тебе, – говорит Уилли.
– А ты где это достаешь? Есть у тебя при себе?
– Признаться, я сам сейчас сижу на мели. Ну, да ты можешь купить. Пойди в аптеку и спроси.
– В какую аптеку?
– Да в любую. А разве твой парикмахер не держит их для своих клиентов?
– Я не знаю.
– Почти все они это делают.
– Наш-то парикмахер, видишь ли, друг-приятель моего Старика.
– Да мало ли где можно достать.
– А представь, зайдешь в аптеку, и продавец там – девушка?
– Ну и что? Она не хуже других знает, для чего это предназначается.
– Я не смогу спросить это у девушки, Уилли. Мне будет стыдно. – Я глотаю пиво. – Послушай, Уилли, может, купишь для меня? Денег я тебе дам.
– А сам-то ты почему не можешь? Придется же тебе когда-нибудь самому.
– Мне кажется, я не смогу, Уилли. Я буду бояться, что они станут спрашивать, сколько мне лет или еще что-нибудь.
– Ну и пусть, ты совершеннолетний.
– Ну да, но мне будет стыдно.
– А, чепуха все это!
Я вижу, что он увиливает, и у меня закрадывается подозрение, не заливал ли он всегда малость.
– Кто была эта девчонка – первая, с которой ты гулял, Уилли?
– Да так, одна чувиха.
– А когда последний раз это у тебя было?
– На прошлой неделе.
– Но только в твоем разгоряченном мозгу, верно, Уилли?
– А какое твое собачье дело? – говорит Уилли.
Я ухмыляюсь во весь рот и протягиваю руку к пустой Уиллиной кружке.
– Не сердись, давай выпьем еще.
IV
– Ты что-нибудь достал?.. Ну, ты понимаешь… – спрашивает она.
– Нет. В субботу я был в городе, но так и не решился зайти в аптеку и спросить.
– Тогда нам… Пожалуй, тогда нам не следует заходить слишком далеко, правда?
– Нет, мы не будем заходить слишком далеко.
Я подталкиваю ее на мой плащ, расстеленный на земле, целую ее, прижимаюсь к ней всем телом, и… Какой же я кретин несчастный! – думаю я. Вот здесь наконец-то все к моим услугам, а я из-за какой-то дурацкой застенчивости упускаю это.
А потом опять все, как всегда, как было прежде, и мне кажется, что на этот раз я уже покончил с этим навеки, даже ни на одну женщину больше не взгляну. Вот в такие минуты, только в такие минуты, когда все как-то проясняется у меня в голове, я чувствую себя так, словно меня выпустили на волю из тюрьмы, и впереди – простор и столько всяких замечательных вещей, и ничто уже не мешает этим пользоваться, не зудит тебя, как прежде, когда, что ты ни делаешь – читаешь ли книгу, слушаешь ли музыку, сидишь ли в кино, – мысль о какой-то девчонке ни на секунду не оставляет тебя в покое, и ты только и думаешь о ней и о том, что тебе хочется ее касаться и чтобы она касалась тебя. Однако для того, чтобы совсем, полностью освободиться от этого наваждения, я должен быть далеко от нее, потому что, пока я здесь, я не могу не чувствовать себя последним подонком из-за того, что так обхожусь с ней. Мне кажется, что люди порой ведут себя совсем как животные, как бродячие псы, которые занимаются своим делом прямо на улице и плевать хотят на то, что мимо них взад и вперед снует народ. Только животные куда разумнее: покончив с этим, они просто расходятся в разные стороны, а людям непременно нужно еще поговорить. А мне не хочется ни о чем говорить с Ингрид, мне хочется встать и уйти и чувствовать себя свободным. Я не хочу торчать здесь, и слушать ее глупую трескотню, и говорить «да» и «нет» и «я думаю так» да «я думаю этак», в то время как я не думаю ничего, кроме того, что мне хочется убраться куда-нибудь подальше, где бы я мог почувствовать себя свободным и от нее и от всех женщин на свете и никогда больше не пожелать ни одной из них. Только вот какая штука – я ведь вовсе не хочу совсем никогда не желать женщин, я только не хочу, чтобы это было вот так. Может же быть и по-другому, и с той, единственной, девушкой, о которой я всегда мечтал, это и будет по-другому, и мне захочется остаться возле нее, и разговаривать с ней, и шутить, и смеяться, и, быть может, даже касаться ее – только бережно, нежно. И когда я об этом думаю, у меня щемит сердце, и я со страхом спрашиваю себя, встречу ли я такую девушку когда-нибудь.
Я сажусь и оглядываюсь по сторонам. Смотрю на травянистый склон холма, и на белеющую внизу тропинку, и на край открытой эстрады, чуть проглядывающей в просвете между деревьями, и внезапно такое острое чувство одиночества охватывает меня, что я пугаюсь и говорю первое, что подворачивается на язык:
– Что-то прохладно становится. Как тебе кажется?
Она все еще лежит на плаще, и меня удивляет, почему она так молчалива, в то время как обычно у нее наготове целая куча новостей.
– Может, погуляем немного? – Мне хочется двигаться. Я просто не в силах больше торчать здесь.
Она не отвечает и лежит, полуотвернувшись от меня.
– Тебе не плохо? – спрашиваю я ее, напрасно прождав ответа.
Она бормочет что-то, и я с трудом разбираю:
– Нет!
– Пошли погуляем. Я продрог.
Она опять бормочет что-то, я не могу разобрать что и говорю:
– Что ты сказала?
– Мне кажется, у меня не все в порядке, Вик, – говорит она.