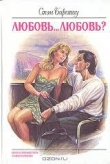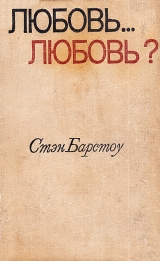
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Зато Ингрид теперь еще больше действует мне на нервы. Прошло уже три месяца, как она выписалась из больницы, а ее мамаша продолжает напоминать ей, что она еще очень слаба и не должна утомляться, и все твердит: не усердствуй, не усердствуй, и Ингрид совершенно распустилась и сидит целыми днями в кресле – можно подумать, что она уже при последнем издыхании. Мне теперь от нее ни тепло ни холодно: днем она возлежит в кресле, словно какой-нибудь инвалид на пляже в Скарборо, и только мозолит мне глаза, а ночью в постели держит меня на расстоянии. Это тянется так долго, что я посоветовал ей однажды повесить себе на спину плакат: «Не кантовать, легко бьющееся!»
– И долго так будет продолжаться? – спрашиваю я ее как-то вечером, когда она снова оказывает мне весьма холодный прием. – Тебе, знаешь, придется кончить эту бодягу рано или поздно.
– Что это значит «кончить бодягу»?
– То самое и значит. Ты же не можешь валять дурочку всю жизнь из-за того, что у тебя был когда-то выкидыш.
– Значит, ты считаешь, что я притворяюсь?
– Может быть, ты сама этого не понимаешь. Мне кажется, ты с помощью своей мамаши довела себя до такого состояния, что тебе мерещится, будто ты еле жива. И мне это, признаться, надоело.
– Как всегда, ты, конечно, думаешь только о себе, – говорит она. – Никогда ни малейшего сочувствия ко мне.
– Я, кажется, женился на тебе, когда с тобой случилась беда, не так ли? После твоего выкидыша прошло уже три месяца, и, по-моему, я бы уже мог приблизиться к тебе, не чувствуя себя при этом похабным старикашкой.
Она садится на постели отчужденная, с каменным выражением лица – совсем как у ее мамаши. Если бы она знала, как она сейчас похожа на мать и как ее мать мне ненавистна, она, пожалуй, поостереглась бы напускать на себя эту дурь.
– Если ты не в состоянии думать ни о чем другом, – говорит она, – тебе следует научиться владеть собой.
Она изрекает это таким тоном, что, право, кажется, будто эти слова произносит не она, а ее мать. Я гляжу на нее во все глаза: неужели это та горячая девчонка, с которой мы, бывало, такое вытворяли в парке? Я не могу понять, что с ней сталось.
– И до каких это пор? – спрашиваю. – Пока твоя мамаша не даст тебе разрешения? Ты же знаешь, чего хочется твоей матери, знаешь прекрасно. Или ты настолько тупа, что даже этого не понимаешь? Ей хочется добиться, чтобы я выкинул что-нибудь такое, после чего она могла бы заставить тебя потребовать развода. Ну что ж, она выбрала очень правильный способ, имей в виду. Я ведь мог бы в два счета смотаться отсюда, еще когда ты свалилась с лестницы. Думаешь, это было легко – вернуться сюда после того, как твоя мать так со мной обошлась?
– Почему же ты все-таки вернулся?
– Потому что ты моя жена, и тебе и так было тогда нелегко, и мне не хотелось причинять тебе еще новые страдания.
– Чрезвычайно великодушно и благородно с твоей стороны, – говорит она так ядовито, словно не верит ни единому моему слову.
– Может, ты лучше знаешь почему?
– По-твоему, значит, я должна кланяться тебе в ноги за то, что всякий порядочный муж сделал бы на твоём месте?
Честное слово, мне хочется ей врезать! С каждым днем это желание все чаще возникает у меня, а ведь я ни разу в жизни не поднял руки на женщину.
– Нет, не должна. Это я, по-видимому, должен ползать перед тобой на коленях, чтобы заставить тебя сделать то, что каждая нормальная жена делает для мужа. Так вот, я тебе прямо говорю: мне это надоело. Я старался, как мог, наладить нашу жизнь, но если мы муж и жена, значит, мы муж и жена, и я не намерен быть здесь просто нахлебником, которому в виде особой милости разрешается делить с тобой ложе при условии, что он будет держать руки при себе.
Ну и так далее и тому подобное, снова и снова. И конечно, это не приводит ни к чему, разве что нам еще больше хочется выцарапать друг другу глаза и плюнуть на все.
Нетрудно понять, что все эти мелкие стычки, накапливаясь, проторяют дорогу крупному скандалу. И теперь он уже близок.
Началось все как будто из-за новой шубки для Ингрид. В малом часто заключено большое, более значительное, чем может показаться с первого взгляда. У Ингрид гардероб битком набит всяким барахлом, это я нисколько не преувеличиваю. Вероятно, до замужества она весь свой заработок тратила на тряпки. Словом, еще одна шубка необходима ей не больше, чем мне еще одна теща, и к тому же мы с ней вроде как уже договорились воздерживаться пока от лишних трат и откладывать каждый пенни, чтобы со временем поселиться отдельно. И вдруг теперь мамаша Росуэлл начинает её подзуживать, добиваться, чтобы она выбросила мои пятнадцать фунтов на эту шубу, без которой она распрекрасно может обойтись. Примерно это я ей и выкладываю, после чего силы воюющих сторон мгновенно распределяются следующим образом: мамаша Росуэлл – по одну линию фронта, я – по другую, а Ингрид – посредине. В этот вечер я как раз собирался повести Ингрид в кино и теперь спрашиваю, хочет ли она пойти, все еще надеясь, что мы успеем смотаться туда, прежде чем начнется свара. В ту же секунду ее мать заявляет, что сегодня по телевизору будет та передача, которую Ингрид хотелось посмотреть.
Итак, перед нами дилемма: либо кино, либо телевизор. Во всяком случае, так это выглядит. Но я чувствую, что сейчас должно решиться кое-что другое: либо мамаша Росуэлл, либо я. Пора наконец Ингрид дать своей матери почувствовать, что у нее есть муж и она в первую очередь должна считаться с ним.
Но Ингрид жмется и не говорит ни да, ни нет, а я злюсь все больше и больше и наконец, не дождавшись, пока она на что-нибудь решится, принимаю решение сам – хватаю пальто и в ярости хлопаю дверью.
Меня еще трясет, когда я сажусь в автобус. Мне кажется, что я не успокоюсь, пока не разобью чего-нибудь, или не сломаю, или не смажу кому-нибудь по физиономии. С каким восторгом схватил бы я, кажется, мамашу Росуэлл за горло и душил бы, душил, пока ее безмозглые глазенки не вылезли бы из ее безмозглой головы. Не понимаю, что со мной творится. Никогда со мной этого не бывало. Я начинаю постигать, как человека можно довести до убийства.
III
Я уже поднимался по лестнице кинотеатра, нащупывая в заднем кармане мелочь, когда почувствовал вдруг, что меня сейчас вовсе не тянет смотреть картину. С ходу останавливаюсь, и какой-то тип налетает на меня сзади. Бормочу «извините!», поворачиваюсь и сбегаю вниз, стою на тротуаре и думаю: как же мне убить вечер? Перебираю в уме всех своих приятелей – интересно, что они сейчас делают? У меня всегда было много друзей, и мы неплохо проводили время вместе. Теперь я их почти всех растерял. Уже сколько месяцев ни с кем не встречался. Женитьба как бы изъяла меня из обращения. И притом, понимая, каким я должен им казаться кретином, я и не особенно рвался к встрече с ними. Начинает накрапывать дождь, и настроение у меня все падает и падает.
Бреду по улице, потом укрываюсь в проезде между двумя магазинами, который ведет в маленький, мощенный булыжником переулок. Минуты две-три пережидаю там дождь вместе с какой-то пижонкой в голубом плаще, которая явно поджидает своего хахаля. Он появляется почти тут же – высокий, широкоплечий блондин в коротком пальто – и уводит ее; взявшись за руки, они направляются в кино. Оглядываюсь, вижу вывеску, покачивающуюся над тротуаром в глубине переулка, прохожу под аркой и направляюсь к пивной.
За стойкой бара – платиновая блондинка в платье, похожем на кольчугу: оно все блестит и сверкает, отражаясь в осколочном зеркале, которое закрывает всю стену позади полок с пивными и винными бутылками и перевернутыми вверх дном кружками и стаканами. У блондинки нежная розовато-смуглая кожа и черная родинка на левой скуле. Не известно, конечно, какой у нее будет цвет лица в половине восьмого утра, когда в спальне адский холод и занавески на окне залубенели от мороза, но в таком виде, как сейчас, она мне нравится. Эта розовая смуглость окрашивает и ее шею и переходит дальше на грудь, туго обтянутую платьем, и я невольно думаю, что все, что ниже, что скрыто от глаз стойкой бара, тоже не хуже. Я сижу с полпинтой горького пива и наблюдаю за барменшей. Женщины такого сорта всегда волнуют мое воображение: прожженные, искушенные, умеющие постоять за себя. Такая, глазом не моргнув, поставит на место какого-нибудь сосунка вроде меня, но с настоящим парнем, который придется ей по вкусу, не станет ломаться и покажет, чего она стоит в постели. Она выходит из-за стойки, останавливается как раз возле меня, наклоняется и пытается достать что-то из-под стойки, и мой взгляд проникает за вырез ее платья, а мне сейчас в моем настроении это не слишком полезно. Вот, думаю, будь у меня много денег, я мог бы подцепить себе такую бабенку и все было бы в порядке. Получал бы свое без всяких осложнений, а любовь могла бы подождать, пока не появится настоящая девушка. А теперь все смешалось, запуталось к чертям собачьим, и не успеешь оглянуться, как ты уже увяз по уши в этой трясине, без всякой надежды на спасение. И снова – как часто теперь – у меня щемит сердце от тоски при мысли о том, что я женат, что я крепко пойман на крючок, и если бы даже та, настоящая девушка, которую я всегда искал, появилась сейчас вдруг передо мной и на лице у нее было бы написано: «Привет, Вик, я пришла!» – для меня было бы уже поздно. На мне чужое тавро.
И пока все это проносится у меня в голове, блондинка продолжает шарить под стойкой, а я не могу оторвать своих гляделок от выреза ее платья и при этом толком даже не вижу ничего. Что лишний раз показывает, в каком я нахожусь состоянии. Но тут она выпрямляется, и сверкание ее кольчуги отрезвляет меня. Я понимаю, что она перехватила мой взгляд и поймала меня с поличным. Но не могу же я сделать вид, будто вовсе и не глядел никуда, хотя, в сущности, даже ничего и не видел – так, мелькнуло что-то в первое мгновение. Поэтому я стараюсь твердо выдержать ее взгляд, будто какой-нибудь заправский пижон, и с минуту она смотрит на меня, смотрит холодно и жестоко – ну точно герцогиня на своего мальчишку-конюха, который забылся и позволил себе лишнее. Потом отворачивается, берется за ручку пивного насоса, и я вижу обручальное кольцо у нее на пальце.
– Зря ты заглядываешься на Мод, – произносит кто-то у меня за спиной. – Она обручена.
Оборачиваюсь и вижу Перси Уолшоу, который взбирается на соседний табурет.
– Не похоже, чтобы это могло ее остановить, Перси.
– Э, нет, – говорит он. – Не всегда можно судить по внешности. Мод добродетельна, как жена викария.
– А который же из вас викарий? – спрашиваю я, и Перси смеется, а блондинка в это время заходит за стойку и здоровается с ним. Перси, здороваясь, называет ее по имени.
– Как обычно? – спрашивает она.
И Перси кивает:
– Пожалуйста.
Она снимает с крючка высокую кружку и нацеживает полпинты крепкого. Я гляжу на Перси, который одним глотком убирает добрую половину.
– Почему это тебе налили в такую кружку?
– Я здесь постоянный клиент, друг мой. Они уважают постоянных клиентов.
Все тот же старина Перси, ничуть не изменился, думаю я. Мы с ним примерно одного возраста и некоторое время учились вместе в школе, а потом он уехал (был какой-то скандал, говорили, будто его выгнали за то, что он на переменке слишком активно приставал к одной девчонке, но я до сих пор не знаю, правда это или вранье). Так или иначе, он перевелся в какой-то пансион в одном из центральных графств. В школе мы крепко с ним дружили, со стариком Перси, а последнее время виделись не часто, но все равно оставались добрыми приятелями. Мне всегда нравилось в нем то, что он никогда не кичился своими деньгами, хотя и любил покутить. Я случайно узнал, что у них, дома семь спален, экономка и горничная, и после этого полюбил его еще больше за то, что он никогда этим не бахвалился и не задавался перед другими ребятами. Он нравился мне даже тогда, когда на него находила дурь, а он иной раз делался совсем как полоумный, это уж точно. Верно, потому, что у него слишком рано завелись деньги в кармане, а его старик мало его порол. И сейчас достаточно на него взглянуть, чтобы каждому стало ясно, что он набит монетой. Такой уж у него вид в этой клетчатой кепке и коротком полупальто с меховым воротником, за которое он явно отвалил никак не меньше тридцати фунтов. И насколько я понимаю, он, конечно, не пешком приперся сюда и не на автобусе приехал.
– Ну, как твоя трудовая жизнь, старина? – говорит он. – Давненько я тебя не видел.
По чести, следовало бы ответить: «Довольно погано», но я отвечаю банально:
– Да ничего, помаленьку.
– Все по-прежнему – с карандашом и линейкой?
– Нет, я теперь работаю в магазине. А ты как?
Перси допивает свою кружку и делает знак блондинке. Достает из кармана пригоршню серебра.
– Повторим?
– Не откажусь.
– Я теперь при деле, старина, – говорит он, заказав пива. – Пришлось в конце концов сдаться. Мои пытаются сделать из меня коммивояжера, и похоже, это им удастся. Мне, знаешь, нравится таскаться по стране и уговаривать народ делать заказы. Это как раз по мне. В каждом городе новая пивная. Деньги текут как вода. – Он пощипывает светлый пушок над верхней губой. – Вот почему я отращиваю эту пакость. Клиенты не любят иметь дело с юнцами.
Блондинка ставит перед нами кружки с пивом, и Перси расплачивается.
– Ну, за твое здоровье.
– За тебя, Перси.
Перси достает портсигар, и мы закуриваем.
– Что думаешь делать сегодня вечером? – спрашивает он. – Просто так заглянул сюда на часок?
– Да, просто так.
– Ты что такой хмурый, Вик? Какие-нибудь неприятности?
Я признаюсь, что чувствую себя довольно погано.
– Ну, знаешь, как это бывает, иной раз.
– Хм, – произносит он так, словно никогда в жизни не чувствовал себя погано, но не возражает из вежливости. – Волочишься за кем-нибудь понемножку?
Дальше увиливать нет смысла.
– Мне теперь уже поздно волочиться, Перси, дружище.
– Что значит «поздно»?
– Поздно, я женат.
Перси глядит на меня разинув рот.
– Быть того не может! Ах ты хитрец! И давно?
– Да примерно с полгода назад.
– И ты уже сидишь в пивной повесив нос? – Он покачивает головой. – Это поразительно, что женитьба может сделать с хорошим человеком.
– Ладно, Перси, кончай!
– Даже чувство юмора убивает.
– У меня есть чувство юмора, черт подери, когда есть настроение шутить, – говорю. – А сегодня у меня его нет.
– Все осточертело, так, что ли?
– Да, сыт по горло.
– Ну и ну… – Перси отхлебывает пиво и пытается сдуть пену со своих воображаемых усиков. – Я полагаю, что священный долг дружбы, повелевает мне спасти моего старого школьного товарища от такой хандры. Я сам немного не в своей тарелке сегодня. Назначил было свидание, и в последнюю минуту сорвалось. Может, закатимся куда-нибудь, а?
По-моему, это неплохая идея. Я только что сидел и думал: где-то сейчас все мои дружки, и вот судьба посылает мне Перси, а уж если кто и может заставить меня немножко забыться, так это он. Вынимаю бумажник, проверяю, сколько там. Вижу: остался еще целый фунт.
– Идет, Перси, двигай, я за тобой.
– Пошли, – говорит Перси. Он опрокидывает остатки пива и ждет, пока я прикончу свое. – Сюда идем, – говорит он, хлопая меня по плечу. – Экипаж подан.
Перед входом в пивную на булыжной мостовой стоит двухместная спортивная машина – какой марки, я не могу разобрать в темноте.
– Славная машина, – говорю я, опускаясь на низкое, похожее на люльку сиденье.
– Нравится? – не без гордости спрашивает Перси. – «Триумф ТРЗ». Я выклянчил, ее у моего старика, когда отправился в первую поездку. Он хотел купить «хумбер» или «остин». Считал, что это будет солиднее, но мне удалось его переупрямить.
Ну, конечно, так же, как это тебе удавалось всегда, всю жизнь, сукин ты сын, думаю. Но машина и в самом деле недурна…
Он нажимает на стартер и мотор рычит, словно в него забрался тигр. Меня пробирает дрожь восторга от этой мощи. Мне даже немножко завидно, что за баранкой не я, а Перси.
– Был когда-нибудь в «Отдыхе монаха»? – спрашивает он, и я говорю, что не был. – Это новый кабак на Бредфордском шоссе… Сила! С него и начнем. – Он жмет на газ, мотор ревет – того и гляди, лопнут стекла. – Смотри, чтобы шляпа не слетела.
Теперь, когда я это вспоминаю, мне кажется, что за три часа мы перепробовали пиво почти во всех кабаках Уэст Райдинга – две кружки там, еще две здесь, – и всякий раз рука Перси ложилась мне на плечо и я слышал: «Кончай, двигаем дальше», пока я не потерял счет стойкам, к которым мы приваливались, людям, с которыми мы трепали языком, пивным кружкам, которые мы опоражнивали, и ватер-клозетам, в которых мы от этого пива освобождались. В одном баре в Лидсе Перси совсем было столковался с двумя довольно потасканными девицами, хлеставшими джин, – им, пришлись по вкусу его похабные анекдоты и манера сорить деньгами, – но все же вовремя сообразил, что машина у него двухместная, да и я как-никак женат и себе не хозяин.
– А ведь, пожалуй, действительно надо было взять «хумбера», – говорит он, когда мы выходим и усаживаемся в машину, чтобы отчалить от этого кабака и взять курс на другой.
Последние часы перед закрытием застают нас где-то на Xeppoгeйтском шоссе, в залитом огнями придорожном ресторане, где вся обстановка сделана из какого-то желтого дерева с металлическими украшениями, а люстры – из нержавеющей стали. Мы выходим оттуда, спускаемся по ступенькам и прокладываем довольно извилистый путь между стоящими на подъездной аллее машинами. Оба мы не особенно твердо держимся на ногах, и Перси, плюхнувшись на сиденье и захлопнув дверцу, внезапно разражается хохотом. И не хохотом даже, а тихим безудержным смехом, как бывает, когда сам не знаешь, чему смеешься, а остановиться нет сил.
– Как ты себя чувствуешь, Вик? – спрашивает он.
– Окосел, Перси, дружище, – говорю я. – Пьян в дымину.
И вдруг меня тоже начинает разбирать, и теперь уже мы оба покатываемся на сиденьях, давясь от смеха, и в горле у нас булькает словно вода в водопроводе, и у меня даже начинает болеть под ложечкой.
Когда нам наконец удается с этим справиться, Перси говорит:
– Ну что ж, похоже, надо поворачивать к дому. Где это мы находимся?
– Где-то неподалёку от Хэррогейта, должно быть.
– В первый раз слышу, – говорит Перси, и мне становится немного не по себе, когда он трогает машину и мы начинаем приближаться к шоссе.
– Ты хорошо себя чувствуешь, Перси? – спрашиваю я его. Как-никак мы сидим в быстроходной машине, а Перси, даже когда он трезв как стеклышко, парень шалый.
– Как нельзя лучше! – говорит Перси. Он так наклоняется над баранкой, что макушка его кепки касается ветрового стекла. – В какую сторону нам ехать?
– Не знаю.
– А с какой стороны мы приехали?
– Кажется, с той. Слева.
– Ладно, тогда поедем направо. По мне, все дороги хороши! Он сворачивает на шоссе, включает прямую передачу и дает газу. Словно чья-то гигантская рука прижимает меня к спинке сиденья, и мы с бешеной скоростью мчимся вперед. От испуга я начинаю немного трезветь. Я никогда не испытывал страха в автомобиле, но сейчас мне страшно. Некоторое время я креплюсь, стиснув зубы, упершись ногами в переднюю стенку кузова, но наконец больше молчать не в силах.
– Полегче, Перси.
– Чего? – спрашивает Перси.
– Я говорю – полегче. Сейчас езда не то, что днем. Темно, ты же понимаешь.
Перси смеется и, обогнав тяжелый грузовик-контейнер – экспресс с прицепом, подрезает ему нос. На мгновение я уже вижу нас обоих под колесами грузовика. Мы мчимся по узкому шоссе, по обеим сторонам – каменные ограды.
– Имеешь какое-нибудь представление, где мы находимся? – спрашивает Перси.
– Черта с два! – отвечаю я обалдело. – А ты разве не знаешь?
– Уже минут десять, как ни беса ни пойму! – орет он, страшно довольный собой. – Где-то свернул не туда!
– Если мы будем мчаться так, как угорелые, то перемахнем шотландскую границу раньше, чем сообразим, куда нас занесло. У меня, знаешь, сегодня было довольно паршиво на душе, но я все-таки пока еще не хочу дать дуба.
Я начинаю думать об Ингрид – как она будет ждать меня, а я так и не появлюсь. Придет полиция и сообщит ей. Интересно, заплачет она или нет? А мать, отец, Крис…
– Дать дуба? – повторяет Перси. – Что это вдруг? Или ты боишься?
– Да, боюсь. Темно же, черт дери, и дороги, ты не знаешь, старик.
– У нас сильные фары, – преспокойно говорит он, и мы мчимся дальше в черный мрак.
Да, конечно, фары сильные, спору, нет, но такая тьма – вещь коварная. Какие-то тени прикидываются реальными предметами, а реальные предметы возникают там, где только что ничего не было…
Свет фар на мгновение выхватывает из мрака дорожный знак.
– Осторожнее, Перси, ради бога, сейчас будет поворот, крутой поворот… – Больше я ничего не успеваю сказать, зажмуриваюсь, стискиваю зубы и готовлюсь к страшному удару, когда высокая каменная стена вырастает прямо передо мной в луче фары. Перси круто поворачивает баранку, и меня отбрасывает в сторону. Я слышу скрежет металла о камень где-то сбоку, и машина останавливается.
Несколько секунд сижу не двигаясь, опустив голову. Сердце у меня тарахтит как электрический движок, а руки дрожат, словно былинки на ветру. Мы никоим образом не должны были уцелеть, и мне все еще не верится.
Перси выскочил из машины, как только она остановилась, и обежал ее кругом. Теперь он возвращается, садится за баранку.
– Всего бы на фут, – говорит он. – На какой-то паршивый фут правее, и все было бы в порядке.
Я молчу. Он запускает мотор, включает заднюю скорость и отводит машину от стены. Затем снова выскакивает из машины, снова обходит ее, наклоняется к моему окну, и я опускаю стекло.
– Левое крыло в лепешку, – сообщает он.
Его крыло мало меня беспокоит, я думаю о собственной целости.
– Но, конечно, могло бы быть и хуже. Колеса вертятся, и то ладно. – Он залезает в машину. – Надо поскорей смываться, пока дорожная инспекция не наделала нам хлопот.
Я хватаю его за руку, прежде чем он успевает включить зажигание.
– Постой! С меня на сегодня хватит. – Я пытаюсь засмеяться, получается довольно фальшиво. – Когда здесь может быть автобус?
Перси негромко деликатно фыркает и начинает барабанить пальцами по баранке.
– Какой-то паршивый, несчастный фут, – говорит он, помолчав. – На фут бы правее, и мы бы проскочили. Надо же, чтоб так не повезло!
– А по-моему, нам зверски повезло, – говорю. – На фут левее, и тебе утром пришлось бы соскребать меня со стены.
Перси поворачивается, смотрит на меня.
– Ты в самом деле крепко напугался?
– Я думал, что всему конец, Перси. Надеюсь, мне не скоро доведется еще раз испытать нечто подобное.
Перси шарит рукой в карманчике чехла на правой дверце.
– Обожди-ка. У меня, кажется, есть то, что тебе нужно… Где же это? Ага! – Он достает металлическую фляжку, отвинчивает пробку и протягивает фляжку мне. – На-ка, глотни.
– Что это?
– Коньяк.
– Пожалуй, с меня уже довольно…
– Давай, давай. Сейчас это тебе полезно.
Отхлебываю немного из фляжки, и в эту минуту Перси подталкивает дно фляжки вверх, и коньяк льется мне прямо в глотку. Я, поперхнувшись, кашляю.
– Ну как?
– Жжет, как огнем.
– Сейчас это пройдет, и почувствуешь приятную теплоту в животе. И море будет по колено.
Он обтирает горлышко фляжки ладонью, отхлебывает и произносит: «У-ух!» Завинчивает фляжку и сует ее обратно в карман чехла. Рука его снова тянется к зажиганию…
– Ну как, поехали?
– Обожди секунду. – Я отворяю дверцу.
– Ну, что еще?
– Помочиться надо.
– Валяй. А я подам назад и погляжу на этот знак. Правильно, – говорит он, когда я снова залезаю в машину. – Теперь я знаю, где мы находимся. В два счета будем дома.
– Можешь не торопиться, Перси, старина, – говорю я ему. – По мне, будем кататься хоть до утра.
Перси смеется.
Он все еще продолжает смеяться, когда высаживает меня из машины перед домом Росуэллов, и, крикнув что-то на прощание, уносится прочь, словно огромная летучая мышь, вырвавшаяся из преисподней.
IV
Я не очень-то твердо стою на ногах. Коньяк снова привел в действие весь проглоченный ранее алкоголь, и я опять пьян, пьян основательно. Только теперь на другой манер: меня больше не разбирает пьяный смех, я гадко, злобно, зловредно пьян и готов лезть в драку – было б только с кем. Сквозь шторы в гостиной пробивается свет – значит, меня ждут. Кто-то должен ждать, так как у меня нет ключа. У меня никогда не было ключа от этого дома. Ну, мамаша-то Росуэлл в такой час, должно быть, благополучно почивает и не будет путаться под ногами, а если Ингрид вздумает читать мне мораль по поводу того, что я являюсь домой в полночь и под мухой, что пусть только попробует, посмотрим, что получится. Да, сегодня мы посмотрим.
Но когда я останавливаюсь на пороге, щурясь от яркого света, – передо мной эта, старая сука собственной персоной.
– А Ингрид уже легла? – несколько опешив, спрашиваю я.
– Она легла час назад. И я бы давно легла тоже, если бы не была вынуждена дожидаться вас. Вам известно, сколько сейчас времени?
Мне это известно, но я бросаю взгляд на небольшие часы из поддельного мрамора, стоящие на каминной полке.
– Без десяти двенадцать.
– Вот именно, без десяти двенадцать, а люди не могут лечь спать – вынуждены ждать, когда вы соизволите вернуться домой.
По некоторым признакам – как она опустила глаза и поджала свои пухлые губки – я вижу, что эта тирада была подготовлена заранее. Ну что ж, ладно, думаю, видно, тебе этого хочется. Я ведь тысячу раз мысленно повторял про себя все, что выскажу ей когда-нибудь напрямик, и могу произнести это даже во сне. Я же давно мечтал о том, чтобы сцепиться с ней как следует и свести счеты. И если ей сейчас этого хочется, она свое получит.
Пуская снежный ком катиться под гору, я чувствую странное облегчение, словно огромная тяжесть спала с моих плеч.
– Домой? – говорю я. – Вы это всерьез? Неужто вы воображаете, что для меня здесь дом? Да у меня даже нет от этого дома ключа. Будь у меня ключ, вам бы не пригнулось меня ждать. Но я здесь просто нахлебник, и уж вы никогда не дадите мне об этом забыть.
Я наблюдаю, как она вскидывает голову. Это делается столь величественно, что на нее просто неловко смотреть. Интересно, как далеко придется мне зайти, прежде чем она бросит выламываться и покажет, какая она обыкновенная вульгарная мещанка.
– Обзаведитесь сначала собственным домом и вы получите возможность поступать, как вам заблагорассудится, – говорит она. – А тот, кто живет в моем доме, доложен, я надеюсь, считаться с моим укладом. Даже если он был воспитан в иных условиях. – И она поднимается, вбирает вязанье и оправляет юбку на своих жирных ягодицах.
– Обзаведешься тут собственным домом, как же! Ни купить, ни снять дом я не могу. По моим подсчетам, году этак в шестьдесят восьмом мы, может, и выберемся отсюда.
– Вы, по-видимому, не испытываете ни малейшего чувства признательности за то, что я позволила вам поселиться здесь, – говорит она.
– У вас все шиворот-навыворот, – говорю я ей. – Это мы сделали вам одолжение, поселившись здесь, потому что вы никак не хотели расстаться со своей драгоценной дочуркой. Ладно, успокойтесь. Мне все это осточертело не меньше, чем вам. Постараюсь освободить вас от своего присутствия при первой же возможности.
– А эта возможность, как я поняла из ваших слов, представится еще очень не скоро?
Я в это время пытаюсь отделаться от своего плаща – у меня что-то не ладится с пуговицами. Замечаю, что она весьма пристально наблюдает за мной исподтишка.
– Как только Ингрид оправится и вернется на работу, мы сможем откладывать больше. Тогда и подыщем себе что-нибудь.
– Не думаю, чтобы Ингрид захотела вернуться на работу. Она, так же как и я, считает, что муж должен содержать жену, если он хоть на что-нибудь годен.
Для меня это новость. В том-то и беда, что я никогда не знаю, где правда: то, что Ингрид говорит мне, или то, что она, по словам матери, говорит ей. И это меня бесит.
– Ну, так ей придется отказаться от таких фантазий. Если она хочет иметь собственный дом, должна помочь оплатить его. У меня нет папаши-миллионера. Может, вам такого хотелось для нее заполучить, а? С туго набитым карманом, чтобы она всю жизнь купалась в роскоши?
– Вы, во всяком случае, отнюдь не то, о чем я для нее мечтала.
– А женился на ней я. И будь я трижды проклят, если она не была до черта рада заполучить меня.
– А вы не можете обойтись без подобных выражений?
Я начинаю замечать, что мне как-то не удается одержать над ней верх, и это бесит меня еще больше. Вот я наконец выложил ей все напрямик, а она почему-то не реагирует. Ей и тут удается меня принизить и как-то обернуть все в свою пользу.
– Без каких это «подобных»? – спрашиваю.
– Без бранных выражений.
– А если мне это нравится? Если мне еще с сегодняшнего чаепития хочется браниться на чем свет стоит?
– Бранитесь где-нибудь в другом месте. Приберегите весь этот запас для ваших приятелей. Мне почему-то сдается, что они как раз того сорта, кому эта брань может прийтись по вкусу.
– Для моих приятелей? – повторяю я и слышу, как мой голос срывается на фальцет. – Можно подумать, что ваши приятели больно хороши! Шайка вонючих пижонов, карьеристов! А я вот, если хотите знать, только что был с парнем, у которого столько денег, что ни вам, ни вашим приятелям и во сне не снилось.
И тут я внезапно ощущаю легкий приступ тошноты. Верно, действует пирог со свининой, выхлопные газы и коньяк, выпитый после многих кружек пива. Устремляюсь к стулу и чуть не падаю, зацепившись за треклятый ковер.
– По-видимому, некоторую часть этих денег он употребил сегодня на выпивку?
– Да, я немного хлебнул. Не отрицаю.
– Немного? Ручаюсь, что не меньше дюжины пива.
– Ладно, я выпил дюжину. И с превеликим удовольствием. Может быть, это запрещено законом?
– Самое элементарное чувство порядочности должно было подсказать вам, что нельзя являться в таком состоянии домой, к жене.
– Так! Теперь, значит, у меня уже нет элементарного чувства порядочности, вот как? У меня его хватило, чтобы жениться на вашей Ингрид, когда она забеременела. Да-да, знаю, я виноват, но, между прочим, в этом деле, знаете ли, должны как-никак участвовать двое. И уж будьте уверены, она получила то, чего добивалась, когда я женился на ней. С ребенком или без ребенка, она выскочила бы за меня замуж в любую секунду.
– Она бы прислушалась к мнению других, если бы не была уже обесчещена.
– Вот это здорово! Вы, может, думаете, что я ее принуждал? Не беспокойтесь, не подвернись я, подвернулся бы кто-нибудь другой.
Сам знаю, что это не совсем так, но сейчас мне не до тонкостей. Моя задача – вывести мамашу Росуэлл из себя, и, кажется, я уже близок к цели.