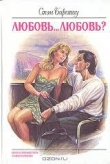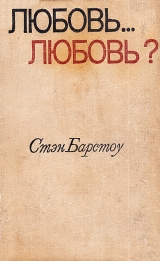
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Они продолжали сидеть у огня – два человека, таких близких и таких чужих, – и молчали, потому что им нечего было друг другу сказать; часов около шести Скерридж поднялся с кресла, умылся и кое-как побрился возле умывальника в углу. Она тупо смотрела на его приготовления к уходу.
– Собачьи бега? – спросила она.
– Сегодня ведь суббота, не так ли? – вопросом на вопрос ответил Скерридж, надевая пиджак.
Чувство предстоящего одиночества вдруг навалилось на нее, и она сказала с плаксивой ноткой в голосе:
– Почему ты как-нибудь в субботу меня с собой не возьмешь?
– Тебя? – сказал он. – Взять с собой тебя? Да неужели ты считаешь, что с тобой можно куда-нибудь пойти? Ты только посмотри на себя! А ведь какая ты была раньше!
Она отвела глаза. Теперь она и обижаться перестала. Но ведь и она могла вспомнить, каким он был раньше, – правда, она теперь редко этим занималась: подобные воспоминания пробуждали в ней отчаяние, пересиливавшее даже апатию, которая стала с годами единственным ее прибежищем.
– Когда же ты вернешься?
– Когда переступлю порог, тогда и вернусь, – сказал он уже в дверях. – И наверняка ужинать захочу.
А порог он переступит, когда нетвердые ноги приведут его домой, подумала она. Если он проиграет, то напьется, чтобы утешиться. Если выиграет, то напьется, чтоб отпраздновать выигрыш. А на ее долю в любом случае останется лишь злость да новые оскорбления.
Через несколько минут после того, как он ушел, она поднялась и подошла к задней двери, чтобы посмотреть, что происходит на дворе. Снова шел снег, и его легкий чистый пушок смягчал резкие, уродливые очертания разваливающихся построек на участке за домом и засыпал следы Скерриджа, шедшие от двери вниз по склону, в направлении леса, который пересекала тропка, выходившая на шоссе в миле от них. Женщина вздрогнула, почувствовав дыхание холодного воздуха, и вернулась в дом, захваченная помимо воли воспоминаниями. Было время, когда сараи стояли крепкие, прочные и служили пристанищем для домашней птицы. Сад и огород тоже выглядели иначе и снабжали их овощами и фруктами, которые не только удовлетворяли их собственные нужды, но еще и, шли на рынок. Сейчас огород зарос сорняками и щавелем: Ну, а дом – они купили его задаром, потому что он был старый и слишком большой для одной хозяйки, но и он в свое время был крепким и прочным и неплохо выглядел, если его исправно красить, подправлять стены и следить за рамами. В первое время, видя, как все начинает расползаться, она пыталась сама что-то делать. Но это была неблагодарная безнадежная борьба без всякой поддержки со стороны Скерриджа, – борьба, в которой она под конец потерпела поражение и которая привела к тому, что сначала она впала в отчаяние, а потом в апатию. Теперь все гнило и разваливалось, и это постепенное умирание было как бы символом ее собственного превращения из полной надежд молодой жены и матери в уставшую от жизни старуху.
Раздумывая обо всем этом, она вымыла чашки и поставила их сохнуть. Потом взяла ведро для угля и пошла вниз в большой погреб, где было темно как в склепе и капало с потолка. Там она наполнила ведро и потащила его наверх. Заправив огонь, навалив в очаг целую гору сырого блестящего угля, она почувствовала некоторое удовлетворение от того, что хоть в этом благодаря шахтерскому пайку, положенному Скеррижду, они никогда не терпят недостатка. Затем она включила приемник на батареях и протянула ноги в рваных парусиновых туфлях к огню.
По радио передавали программу старинной танцевальной музыки – «Сельский вальс», «Велета», «Мы, уланы», «Ты моя медовая кашка, а я пчела…» Оба они – и она и Скерридж – в те далекие, далекие дни любили старинные танцы и, презирая современные фокстроты, в первые годы замужества часто кружились в вальсе, пока какая-нибудь добрая соседка смотрела за малюткой Евой. Ах, какие это были чудесные дни – короткая эра блаженной свободы, когда строгие ограничения родительского дома остались позади, а безумие Скерриджа еще было сокрыто во мраке будущего. Ах, какое это было время… Сегодня словно все сговорилось тревожить ее память: она сидела перед приемником, и знакомые мелодии поднимали со дна души давно затонувшие картинки и прибивали их к берегам ее сознания; тогда она взяла свечу и поднялась в холодную, похожую на сарай спальню, взобралась на стул и долго рылась в ящике над встроенным в стену гардеробом, пока не извлекла оттуда альбом с фотографиями. Вытерев заплесневелую крышку о свою рабочую блузу, она спустилась с альбомом вниз, к огню. Она многие годы не заглядывала в этот альбом и сейчас медленно переворачивала страницы, возвращаясь к дням своей юности.
Она заснула и проснулась от неожиданного стука в заднюю дверь, – газовая лампа потухла, и комнату освещали лишь отблески огня, догоравшего в очаге. Она подумала было, что стук ей послышался, но он повторился, на этот раз более настойчивый, тогда она встала и, подняв и положив на стол альбом с фотографиями, который соскользнул с ее колен на пол, пока она спала, вышла в сени.
Остановившись в нескольких шагах от двери, она крикнула: «Кто это? Кто там?» Дом-то ведь стоял в стороне от жилья, и, хотя нервы у нее были крепкие, на этот раз, внезапно пробудившись от сна, она почувствовала легкую тревогу.
– Это я, – ответил женский голос. – Ева.
– Ох! – выдохнула миссис Скерридж и, подойдя к двери, отодвинула засов и распахнула ее. – Входи, моя радость, входи. Я тебя не ждала сегодня. Ты, наверно, совсем застыла.
– Подожди минутку, – сказала дочь, – я только крикну Эрику. – Она дошла до угла дома и крикнула в темноту. Мужской голос ответил ей, потом с дороги, пролегавшей мимо фасада, раздался захлебывающийся кашель мотоцикла.
– Я уж думала, что тебя нет дома, когда увидела, что темно, – сказала Ева, вернувшись. Она отряхнула снег с сапог и только тогда вошла в сени. – Что ты делаешь в темноте? Только, пожалуйста, не говори, что у тебя нет денег на газ.
– Он погас, пока я дремала.
Они прошли по выложенному каменными плитами коридору на кухню, освещенную огнем из очага.
– Я сейчас найду кошелек – может, у меня там есть медяки.
– Подожди, – сказала Ева и достала свой кошелек. – У меня есть шиллинг – дольше гореть будет.
– Да у меня тоже есть медяки… – начала было мать, но Ева уже вышла из комнаты, и каблуки ее застучали по ступенькам, ведущим в погреб. Миссис Скерридж поднесла свернутую бумажку к огню и, услышав звон шиллинга, упавшего в счетчик, зажгла газ.
– А Эрик что, не зайдет? – спросила она у Евы, когда та вернулась.
– У него заседание футбольного клуба в Крессли, – сказала Ева. – Он заедет за мной на обратном пути. Тогда, может, и заглянет на минутку.
Мать смотрела на дочь – та сняла с головы платок и подправила пальцами каштановую шевелюру со свежим перманентом.
– Занятой молодой человек, этот твой Эрик.
– О, за ним не угонишься – его так и рвут на части.
Ева сняла толстое твидовое пальто. Под ним оказалось темно-зеленое шерстяное платье. Вокруг высокого ворота вилось ожерелье из поддельного золота, запястье Евы украшал такой же браслет. Дух преуспеяния и благоденствия вошел вместе с ней в жалкую комнату.
– На прошлой неделе его сделали мастером, – сказала она с легкой гордостью в голосе.
– Повысили, значит, да?
Ева приподняла на бедрах юбку, чтоб не вытягивалась сзади, и села в кресло отца. Она сняла меховые зимние сапоги и положила на решетку очага ноги в нейлоновых чулках.
– Рано или поздно он станет управляющим, – сказала она. – Все говорят, что уж очень он толковый.
– Приятно слышать, когда молодой человек в гору идет, – сказала ее мать, – а особенно если этот молодой человек имеет к тебе отношение.
Ева провела ладонями по икрам и приподняла подол платья, чтобы погреть колени. Она была худенькая, тоненькая, зябкая – она вечно мерзла зимой в этом доме. Протянув руки, она пригнулась ближе к огню.
– Бр-р-р! Ну и погодка… Можно живьем замерзнуть.
– Надеюсь, с твоим Эриком ничего не случится на мотоцикле.
– О, за него можно не беспокоиться. Он ездит осторожно. И потом он сегодня с коляской – в такую погоду оно лучше… Ты что, порезалась? – спросила она, только сейчас заметив повязку на руке матери.
Миссис Скерридж рассказала, что случилось, и Ева промолвила:
– Смотри, это не шутка. Еще заражение начнется.
Миссис Скерридж передернула плечами: подумаешь.
– Это всего лишь царапина. Я ее смазала мазью. Через день-два пройдет…
– Мне нравится твое платье, – сказала она немного погодя. – Новое?
– Ну, как тебе сказать? Я надевала его раза два или три. Я купила его в Лидсе, когда мы ездили искать мебель. Увидела в витрине у Крестона – ну, знаешь, в районе Бриггейт, – и уже глаз оторвать не могла. Эрик заметил, что я на него загляделась, и купил. Я понимала, что мы не можем позволить себе такую трату, когда у нас такие расходы с переездом и прочее, но он меня уговорил. – И она рассмеялась от удовольствия, какое доставляет каждой женщине щедрость мужа.
– Вы что же, уже переехали, значит?
– Да, слава богу. Правда, пройдет еще немало времени, прежде чем мы устроимся: ведь все такое новое. Но мы точно в раю после нашего прежнего жилья.
– Да, уж наверно. Но ты ведь, кажется, ладила со своими хозяевами? У тебя никогда не было с ними неприятностей?
– Что ты! Конечно, никогда. Ну, бывало, скажешь там слово-другое, но миссис Уолшоу – женщина сдержанная, настоящая леди, так что лаяться она ни с кем не станет. У нее, правда, такая манера смотреть на всех свысока – мне это не по душе. Но уж очень ей Эрик нравился – у нее с мистером Уолшоу никогда не было детей – и она, видно, считала, что нет такой девушки, которая была бы под стать ему. Нет, с миссис Уолшоу невозможно поссориться. Она настоящая леди. По ней никогда не скажешь, что разбогатела она, торгуя рыбой с картошкой и сдавая комнаты постояльцам.
– Да, люди бывают всякие… Значит, у тебя было много дел сейчас, да?
– Ой, ты и представить себе не можешь сколько. Надо было все вымыть, и покрасить, и купить мебель, и сшить занавески – целый месяц на это ухлопала. Зато у нас такой чудесный дом, мама. Когда Эрик уходит на работу, я частенько хожу по комнатам и все говорю себе: это в самом деле наш дом. И никак поверить не могу. Все мне кажется: вот проснусь утром, открою глаза и увижу, что я снова лежу в комнате миссис Уолшоу…
Они немного помолчали; Ева потирала ноги, протянутые к огню. Потом миссис Скерридж заботливо спросила:
– А тебе не… А ты не боишься, что вы немного зарвались, а? Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать: не слишком ли большие вы взяли на себя обязательства.
– Ну, что ты! – сказала Ева. – За нас можешь не беспокоиться. Мы все время откладывали с тех пор, как поженились. И мы оба работаем. И Эрик, пока жил холостяком, приучился к аккуратности. Он не разбрасывается деньгами, как многие другие. Нет, за нас можешь не беспокоиться. Теперь нам, конечно, придется поужаться, но мы вылезем, можешь не сомневаться.
– Ну, тогда ладно, – сказала, сразу успокоившись, мать. – Ты свои дела знаешь лучше меня. А я только рада, что ты наконец устроилась в собственном доме.
– И ты теперь сможешь навещать нас, когда захочешь, – сказала Ева. – Это недалеко – всего каких-нибудь полчаса на автобусе из Крессли.
– Да, надо будет как-нибудь выбраться. Вот выдастся погожий денек – непременно к вам загляну. Только бы погода установилась хорошая.
Ева подставила огню колени.
– Ну, – сказала она, – а ты как живешь?
Миссис Скерридж слегка пожала плечами.
– Да так, живу. Вот поясницу иной раз схватит. А в общем, ничего, не жалуюсь. Конечно, я бы лучше себя чувствовала, если б погода была посуше. А то, когда снег на земле лежит, кажется, будто ты здесь от всего мира отрезан. Ведь до ближайшего дома добрых полмили будет. А вечером по дороге почти никто и не ездит.
– Надо бы тебе почаще выбираться из дому, – заметила Ева, – а не сидеть взаперти из вечера в вечер.
– Да, наверное. Только вот отвыкаешь. Да и потом погода…
– Ну, про папашу я могу не спрашивать, – сказала Ева. – Его, видно, погода дома не удерживает. Куда это он сегодня умотался? В город?
Мать кивнула, глядя в огонь.
– На собачьи бега, должно быть.
– А тебя, как всегда, оставил одну.
– Ну, какое же удовольствие тащиться куда-то в такой вечер.
Ева кивнула:
– Я эту песенку знаю. – Она глубоко вобрала в себя воздух. – Но не понимаю, как ты можешь терпеть. Честное слово, не понимаю. – Она обвела глазами комнату, и зрелище, представшее ее взору, было настолько жалким, что она еле сдержала дрожь отвращения. – Слава богу, что хоть я выбралась отсюда, как только случай представился.
– Ну, ты – это другое дело, – сказала мать. – Ты в любом случае ушла бы со временем.
– Да нет, не ушла бы, если б он сумел настоять на своем. Его бы вполне устроило, чтоб две женщины ухаживали за ним. Да и деньги мои его бы устроили: он тогда мог бы больше себе оставлять. – Она помолчала и, не сдержавшись, разразилась потоком злых, возмущенных слов: – Не понимаю я этого. Просто не понимаю. Муж должен быть – ну, вот как Эрик. Должен относиться с вниманием к жене, должен холить ее. А когда он перестает быть таким, то и жена может махнуть на него рукой. Ты же моему отцу ничем не обязана. Ты можешь уйти отсюда сегодня, сейчас, и никто тебя за это не осудит. И ты знаешь, есть такое место, где тебя в любую минуту примут. Теперь такое место у тебя есть.
Миссис Скерридж проницательно посмотрела на дочь, сидевшую к ней в профиль, разрумянившуюся от жара, который исходил от очага, и от бурлившего в ней возмущения.
– А Эрик тоже так думает? – спросила она. – Что он-то думает по этому поводу?
– Ну… Он думает так же, как я. Он тоже не понимает, почему ты здесь торчишь.
– Но это еще не значит, что он будет счастлив поселить тещу в своем новом доме. Особенно такую, как я.
– А что же в тебе такого особенного?
– Ну, мне кажется, он не считает, что я самая приятная женщина на свете.
– Но ты можешь быть приятной! – воскликнула Ева. – И станешь приятной, если уйдешь отсюда. Конечно, какой тебе смысл следить за собой здесь, когда ты неделями никуда не выходишь, а вокруг на многие мили нет никого, и муж твой тратит все деньги на пари да на вино? Интересно, у кого бы хватило духу гордиться такой жизнью?
– Видишь ли, мое место рядом с твоим отцом, Ева, и тут уж ничего не поделаешь.
– Но не собираешься же ты…
– Хватит, – промолвила мать тихо.
Ева сказала: «О!» и нетерпеливым движением опустила ноги на пол. Из приемника по-прежнему гремела какая-то музыка.
– Ты непременно хочешь это слушать?
– Можешь выключить, если тебе мешает. Я слушала старинную танцевальную музыку, но она уже кончилась.
Ева обогнула кресло и выключила приемник. Наступила тишина; она продолжала стоять спиной к матери, держа руку на крышке приемника.
– Мама, – сказала она вдруг и повернулась к ней лицом, – я незаконнорожденная?
Мать вздрогнула.
– Нет, что ты.
– Но вы с отцом вынуждены были пожениться из-за меня, правда?
– Нет, нет. Все было немножко не так. Поженились мы, правда, когда поняли, что ты должна появиться на свет, но мы и без того поженились бы. Никто нас к этому не принуждал. – Она спокойно выдержала взгляд дочери. – А как ты об этом узнала?
– О, я уже давно об этом раздумываю, – сказала Ева, продолжая стоять за креслом. – Достаточно было сравнить несколько дат, чтоб убедиться.
– Ты сказала об этом Эрику?
– Нет.
– А собираешься сказать?
– Не вижу в этом надобности.
– Я тоже, – сказала миссис Скерридж. – Но ведь не думаешь же ты, что это может иметь какое-то значение?
– Не знаю, – откровенно призналась Ева. – Он… Видишь ли, он в некоторых вопросах держится очень строгих правил, наш Эрик. И мне не хотелось бы портить…
– Но никто не может назвать тебя незаконнорожденной, Ева, – сказала миссис Скерридж. – Мы же поженились за много месяцев до того, как ты… – Она посмотрела в огонь. – Извини меня, девонька, я никогда не считала нужным говорить тебе об этом.
– Тебе, во всяком случае, не за что извиняться. – Ева поджала губы. – Не ты виновата в этом, а он.
– Нельзя так ненавидеть своего отца, Ева.
– Да как я могу относиться к нему иначе, когда все, что с ним связано, сплошная мерзость? Он испортил тебе жизнь и испортил бы мне, если б я не воспротивилась. Он даже жениться по-человечески не мог, и тебя к себе привязал только потому, что ты в беду попала.
– Ничего подобного, совсем все было не так, – с силой сказала мать. – Он в те дни был другой. Ты бы не поверила, насколько другой.
– Это ты говоришь. А я его таким не помню. Мой отец всегда был человеком с крепким кулаком и подлой душой, этакая старая дрянь, да он понятия не имеет, что такое приличная жизнь, все готов просадить на свои пари.
– Ах, Ева, Ева…
– Извини, – сказала она, – но у меня просто все кипит при одной мысли о нем.
– Взгляни-ка сюда, – сказала мать. – Полистай этот альбом на столе: ты увидишь тут отца, каким он был раньше.
Ева подошла к столу и приподняла крышку альбома.
– Что-то я не помню этого альбома.
– Может, я тебе и показывала его, да только ты, наверно, тогда была маленькая. Я сама много лет не держала его в руках. А вспомнила я о нем, когда услышала эту старинную музыку по радио. И все прошлое всколыхнулось во мне.
Ева придвинула стул и села к столу.
– А он совсем недурно выглядел в молодости…
– Живой, стройный, щеголеватый – вот какой он был, – сказала миссис Скерридж. – А какой веселый, честный, работящий. Мне было двадцать два года, когда мы встретились. Я до него ни с одним мужчиной не разговаривала – разве что здоровалась. Я ведь нигде не работала, потому что твой дедушка хотел, чтобы я вела его хозяйство. А в доме у твоего дедушки было очень тяжко – невесело было, мертво. Все разговоры только о боге. Господь, господь, господь с утра до вечера. И господь этот был не веселый и любящий, а такой, каким представлял его себе твой дед. Господь десяти заповедей. Не смей, не дерзай. У твоего дедушки бог был на языке, а лед в сердце. Я однажды услышала, как кто-то сказал это про него, и навсегда запомнила. На каждый случай жизни у него была своя присказка. «Игроки никогда не выигрывают» – это я все время вспоминаю. «Иной раз может показаться, – говорил, бывало, он, – что вот пришла удача, ан нет: за грехи всегда взыщется». Жесткий был человек, несгибаемый. Никогда в жизни я не видела, чтоб он смягчился.
Твой отец всего только раз и зашел ко мне, но дед даже на порог его не пустил: сказал, что он мне не подходит. Он ведь был из бедной семьи, да к тому же отец его сидел в тюрьме за избиение хозяина. А твой дедушка и представить себе не мог, чтоб рабочий мог на хозяина руку поднять. У него у самого было с полдюжины рабочих, и он правил ими железной рукой. Работу в ту пору не так-то просто было найти, и они не смели жаловаться. Вот и пришлось мне встречаться с твоим отцом потихоньку, когда удавалось сбежать из дому. Это было самое счастливое время в моей жизни. Он принес в мою жизнь радость и тепло, и я готова была идти за ним на край света…
Расписались мы у мэра, когда узнали, что ты должна правиться на свет. Твой дед к тому времени отступился от меня. Он не считал нас женатыми – мы, на его взгляд, жили во грехе, потому что во грехе зачали тебя. Но нам было все равно. Мы тогда были очень счастливы…
– Отчего же он так изменился? – спросила Ева. – Что сделало его таким, как сейчас?
– Многое меняет человека. Невезение, слабость характера. Когда с твоим дедушкой случился удар, от которого он и умер, отец твой сидел без работы. Мы еле-еле сводили концы с концами. А все деньги твоего дедушки пошли попам и на всякие благие нужды. Мы не получили ни пенни. Он сошел в могилу, не простив нас, и твой отец не мог ему этого простить. Он озлобился. Годы это были тяжелые для многих людей. И вся жизнь впереди представлялась твоему отцу безрадостной – гни спину в шахте, а в награду – испорченное здоровье или мгновенная смерть под землей. И вот он начал мечтать о легком заработке. Ему захотелось разбогатеть быстро, чтобы не тратить лишнего пота и сил. В него точно бес вселился и стал направлять его жизнь. Все остальное потеряло для него значение. Все могло пойти прахом. Ну, а сейчас уже поздно. Он теперь никогда не изменится. Но я дала обет, Ева. Я сказала, что буду делить с ним жизнь и в радости и в горе, а ведь нельзя выполнять свое слово, если это легко, и не выполнять, если трудно. Я сама выбрала себе такую жизнь, и никуда мне от этого не сбежать…
Под влиянием внезапного порыва Ева упала на колени подле кресла матери, схватила ее заскорузлую от работы руку и в приливе чувств прижалась к ней лицом.
– Ах, мама, мама, уйдем отсюда со мной. Уйдем сегодня же. Брось все это и поставь на этом крест. Я улажу все с Эриком. Он хороший, он поймет.
Миссис Скерридж тихонько высвободила руку и погладила дочь по голове.
– Нет, доченька. Спасибо тебе за то, что ты сказала, но мое место – рядом с твоим отцом до тех пор, пока я нужна ему.
Толпа, растекавшаяся со стадиона, где происходили собачьи бега, уносила с собой Скерриджа, разбогатевшего сегодня на шесть фунтов. Но его это мало радовало. Он знал, что на будущей неделе или через неделю он все снова потеряет, а может быть, потеряет и куда больше. Конечная цель у него была другая; эти мелкие выигрыши приносили ему лишь минутное удовлетворение, и лишь под влиянием беса, ни на минуту не оставлявшего его в покое, он из недели в неделю являлся сюда. В конце переулка он повернул направо и пошел по тротуару, нахохлившись, упрятав подбородок в воротник пальто, глубоко засунув руки в карманы, не выпуская потухшей сигареты изо рта. Щеки его запали, тонкий нос заострился, а светлые глаза слезились от колючего ветра, гулявшего по улицам, поднимая мусор на тротуарах и покрывая лужи льдинками. Одет он был так же, как одевался в скудные 30-е годы: потертое пальто, засаленная клетчатая кепка, на шее, скрывая отсутствие воротничка и галстука, – шелковый шарф. Эра благоденствия не оставила на Скерридже никакого следа.
Шел он в привокзальную таверну, где обычно проводил по субботам вечера, и, когда уже подходил к двери, услышал свое имя, произнесенное веселыми и слегка охрипшими от пива голосами.
– Фред! Эй, Фред! – окликнули его двое, приближавшиеся к таверне с противоположной стороны.
Он остановился, узнал их. И когда они подошли ближе, поздоровался с ними кивком головы.
– Привет, Чарли! Привет, Уилли!
Одеты они были лучше Скерриджа, хотя, как и он, принадлежали к углекопам – к тем, кто рубил уголь и зашибал большую деньгу, к элите шахты. Тот, которого звали, Чарли, повыше ростом, остановился, обхватив за плечи своего спутника.
– Это старина Фред, Уилли, – сказал он. – Ты ведь знаешь Фреда, правда, Уилли?
Уилли сказал, что да, он знает Фреда.
– Еще бы, черт побери, ты его не знал, – сказал Чарли. – Все знают Фреда. Душа общества у нас Фред. Каждую субботу бывает здесь, а все остальные вечера на неделе – в каком-нибудь другом кабаке. Если, конечно, не на бегах. Когда он не в кабаке, то на собачьих бегах, а когда не на собачьих бегах, то в кабаке. А если его нет ни там, ни тут, где, по-твоему, Уилли, он находится?
Уилли сказал, что он не знает.
– Тогда он на этой чертовой шахте, как и все мы! – сказал Чарли.
И расхохотался, согнувшись пополам, а под тяжестью его руки согнулся и Уилли. Но он тут же высвободился из объятий дружка и старательно поправил шляпу. Воспользовавшись минутой, Скерридж попытался было войти в таверну, но Чарли тотчас протянул руку и схватил его за рукав.
– Знаешь, в чем беда Фреда, Уилли? – сказал он, снова обхватив рукою Уилли за плечи. – Ну, так я тебе скажу. Есть у Фреда тайная болячка. Тайная болячка – вот что у него есть. А знаешь, что это за тайная болячка, Уилли?
Уилли сказал, что не знает.
– Нет, конечно, не знаешь, – торжествующе подтвердил Чарли. – И никто этого не знает. Он это про себя держит. Все держит про себя.
Чувствуя, что ему не отвязаться, и не очень радуясь этой компании, Скерридж попытался высвободить свой рукав, но Чарли вцепился в него с упорством веселого пьянчуги.
– Ну, что ты, Фред, не надо быть таким. Я ведь шучу! Я всегда, считал, что у тебя есть чувство юмора. Люблю людей с чувством юмора.
– Давай, зайдем внутрь, – предложил Скерридж. – Зайдем, выпьем по кружке.
– Вот это разговор, Фред, – сказал Чарли. – Вот это ты сказал дело!
Они поднялись вслед за Скерриджем по каменным ступеням и вошли в коридор, а там Скерридж, конечно, повернул бы в распивочную, если бы не рука Чарли, легшая ему на спину.
– Не туда, здесь лучше, – сказал Чарли. – Пойдем, где хоть есть жизнь. – И он распахнул дверь, которая вела в помещение, где шел дивертисмент. Сквозь облака табачного дыма они увидели низкую сцену и на ней комика, довольно полного молодого человека, в узком коричневом костюме и красном галстуке. Он рассказывал о том, как повез однажды свою девушку в Лондон, и, когда он дошел в своем рассказе до рискованного места, раздался хохот.
– Пошли туда, – сказал Чарли, подталкивая Скерриджа и Уилли к пустому столику. Не успели они сесть, как официант, обслуживавший компанию по соседству, повернулся к ним, и Чарли выжидательно посмотрел на Скерриджа.
– Что пить будете? – спросил Скерридж.
– Горькое, – сказал Чарли.
– Горькое, – сказал Уилли.
Скерридж кивнул:
– Горького.
– По пинте? – спросил официант.
– По пинте, – сказал Чарли.
Официант ушел, и Чарли спросил.
– Что, повезло тебе сегодня, Фред?
– Не могу пожаловаться, – сказал Скерридж.
Чарли подтолкнул Уилли.
– Слыхал, Уилли? Он, может, монет пятьдесят сегодня выиграл, да только нам не признается. Этот Фред слова лишнего в жизни не скажет – нипочем.
– Ну, и правильно делает, – сказал Уилли.
– Конечно, правильно, Уилли. Я и не виню его. Мы, шахтеры, всегда языком много треплем, направо и налево про свои дела рассказываем. Всякий знает, сколько мы зарабатываем. И все знают, сколько у нас в кармане. А вот сколько, у Фреда в кармане, никто не знает. Он держит рот на замке. Он из тех, кто крестиком отмечает свои футбольные ставки – поди разберись, когда он выиграл. Может, он уже миллионер, Уилли, а мы и знать не знаем.
– Ну, чего ты треплешься, – сказал Скерридж. – Думаешь, я стал бы гнуть спину изо дня в день, если б у меня монет хватало?
– Не знаю, Фред. Говорят, есть люди, которые работают так, для удовольствия.
– Черта с два – для удовольствия.
Официант поставил пиво на столик, и Скерридж заплатил. Чарли поднял свою кружку и, сказав: «Будь здоров подольше, дружище Фред!», надолго припал к ней.
Скерридж и Уилли молча выпили.
– Та-ак, – крякнул Чарли, ставя на столик наполовину опустевшую кружку и вытирая губы тыльной стороной ладони. – Вот теперь у меня будет что рассказать моим дружкам.
– Что же ты собираешься им рассказывать? – спросил Скерридж.
– А то, что я пил пиво с Фредом Скерриджем. Они, черти, в жизни мне не поверят.
Эти намеки на его предполагаемую скаредность обозлили наконец Скерриджа, и он вспылил.
– Ты ведь получил свое чёртово пиво, так? – сказал он. – Ну, так пей и будь доволен, потому что больше ты от меня не получишь.
– Я это знаю, Фред, – сказал Чарли с величайшим благодушием, – и поэтому с удовольствием пью. Просто припомнить не могу, когда еще я пил пиво с таким удовольствием.
Скерридж отвернулся от него и оглядел исподлобья комнату. Актер на сцене отбарабанил свой скетч и теперь под аккомпанемент пианино, за которым сидел пожилой человек, затянул балладу резким, немузыкальным тенором с псевдоирландским акцентом. Скерриджу все это было не по душе, и он еще больше насупился. Шум раздражал его. Он ненавидел музыку в кабаках, предпочитая пить в атмосфере мужского разговора и какой-нибудь тихой игры. Он поднял кружку и посмотрел поверх ее на Чарли, который, привалившись к Уилли, рассказывал ему какую-то смешную историю, приключившуюся утром на работе. Скерридж опустошил свою кружку и с грохотом отодвинул стул. Этот резкий звук заставил Чарли поднять на него глаза.
– Неужто уже уходишь, Фред? Не хочешь со мной еще выпить?
– Пойду в соседний зал, там потише, – сказал Скерридж.
– Как хочешь, Фред. Привет, старина. До скорого!
Обрадованный тем, что ему удалось так легко от них отделаться, Скерридж вышел и, пройдя по коридору, вошел в распивочную. За стойкой был сам хозяин и, увидев Скерриджа, проследовавшего к дальнему концу бара, он, не спрашивая, налил пинту горького и поставил перед ним. «Холодно на дворе?» Скерридж кивнул: – «Гиблая погода».
Скерридж забрался на табуретку, не обращая внимания на людей, толпившихся вокруг, и на шум, слабо доносившийся из зала, где шел дивертисмент. Позади него за столиком сидели четверо мужчин, которых он знал, – такие же шахтеры, как и он: они беседовали, постукивая костяшками домино, толковали, как толкуют все шахтеры, о работе…
– Подошел, значит, он ко мне, а я ему и говорю, прямо в лицо говорю: «Нам, ясное дело, приплатят на этой неделе за то, что мы в воде работаем?» А он и говорит: «В воде?! Какая же это вода – ты, видно, в воде еще не работал!» – «А что же это такое капает у меня со шлема тогда, – говорю я, – светлое пиво, что ли?»
Скерридж не стал слушать их разговор. Выйдя из шахты, он напрочь забывал о ней и никогда без надобности не вспоминал. Он ненавидел каждую минуту жизни, проведенную там внизу, в темноте, где он корпел, как скот. Именно, как скот, разгребая внутренности земли, чтобы добыть себе средства к существованию. Начинало сказываться бремя лет. Он подходил к тому возрасту, когда большинство людей оставляют работу по контракту и берутся за более легкий труд. Но он и подумать не мог о том, чтобы дать денежкам проплыть мимо носа. Коль скоро можно прилично заработать, надо зарабатывать. И он будет гнуть спину, пока не настанет день, когда он сможет сказать всему этому «прощай»….
Он пил жадно, большими глотками, и уровень жидкости в его кружке быстро уменьшался. Как только он поставил пустую кружку на стойку, хозяин подошел и молча наполнил ее, опять-таки не спрашивая. Вот теперь, когда перед ним снова стояла полная кружка, Скерридж решил проверить свои ставки на футболе. Он надел очки, вынул спортивный листок и, положив его на стойку, раскрыл на результатах матчей за день. Подле газеты он положил купон с записанными на нем номерами своих ставок и огрызком карандаша принялся отмечать результаты. Это была длинная и сложная процедура, ибо Скерридж делал ставки сообразно системе, разработанной им в течение многих лет. Он производил выкладки прямо на купоне, в несколько рядов и сверял результаты с основными данными, которые были выписаны у него на двух клочках бумаги, лежавших в грязном конверте в кармане пиджака. Поэтому кружка его дважды наполнялась, прежде чем он добрался в своей сверке до конца, – по мере того как шло время, ему приходилось все больше напрягаться, и волнение его росло. Но вот карандаш замер, а с ним замер и Скерридж. Шум, стоявший в распивочной, куда-то отдалился; Скерриджу казалось, что он сидит один и вокруг все так тихо, что он слышит удары своего сердца.