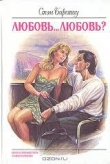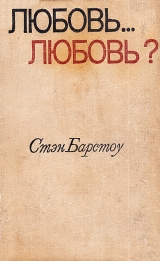
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
На этот раз я слышу, что она сказала, отлично слышу. Сердце у меня проваливается куда-то, и от страха все начинает как-то противно дрожать внутри – словно там большая летучая мышь хлопает крыльями.
– Что это значит «не все в порядке»? – Я прекрасно понимаю, что это значит, и все-таки еще надеюсь, что, быть может, я ошибся.
Она говорит очень спокойно и тихо, и я вижу – она не шутит:
– Кое-что должно было случиться, а ничего нет.
– Как это понять «ничего нет»? – Голос у меня звучит довольно резко, но я не могу иначе – боюсь, что она заметит, как я испуган.
– Ты знаешь, о чем я.
– Ну и… Сколько уже времени прошло?
– Десять дней.
– Десять дней… Но ведь это же пустяки?
– Для меня не пустяки. У меня обычно как по часам.
– Ну, а на этот раз не так. – Меня самого удивляет, как звучит теперь мой голос. Внутри я просто весь съежился от ужаса, а послушать меня – так мне сто раз на все это наплевать. – Пошли, – говорю я, – давай пройдемся.
– У меня так никогда не было, Вик, – говорит она, все еще не двигаясь с места.
– Ну, послушай, как могло что-нибудь случиться? Ну как?
– Ты прекрасно знаешь, что могло.
– Однако же другие годами это делают, и ничего не случается. Моя сестра замужем уже несколько месяцев, и никаких признаков пока. Я даже не уверен, что у нас все было как надо… Не могу же я вдаваться в подробности, ты, надеюсь, понимаешь.
Теперь она села наконец, но голова у нее опущена, и она теребит пальцами свой носовой платок.
– Я понимаю только одно: прошло уже десять дней, а со мной этого никогда не бывало… И мне страшно, Вик!
И мне тоже. Ох, друзья мой, если бы вы. знали, как мне страшно! Хочется вскочить и опрометью помчаться прочь, бегом, через весь парк, убежать от нее, убежать как можно дальше! Словно это может чему-то помочь. Но все же я должен уйти, должен остаться один, чтобы можно было обдумать то, что случилось, и не притворяться при этом и ничего из себя не разыгрывать для ее успокоения. О господи, в какую историю я влип!
– Ты пугаешься по пустякам. Вставай, пошли погуляем.
– Хотела бы я иметь твою уверенность.
Не захотела бы, если бы могла заглянуть ко мне в душу, бедняжка, думаю я.
– Тебе нужно только одно перестать тревожиться. У тебя, может быть, потому и задержалось все, что ты стала тревожиться. Получился заколдованный круг… Ну, вставай, пошли. – Если мне придется повторить это еще раз, я не выдержу и заору.
Она встает, оправляет платье. Я поднимаю с земли плащ, встряхиваю его и думаю о том, сколько раз встряхивал я его на этом самом месте. Я никогда не могу вовремя остановиться, вот в чем беда. Жил себе свободный как птица, счастливый, так нет, надо же было влипнуть в такую историю. И ведь я по-настоящему даже радости особой от этого не получил. Ну, ладно. Никогда больше. Если на этот раз все обойдется благополучно – конец. Решено. Точка. Конец.
У ворот парка я говорю ей:
– А теперь брось об этом думать. В следующий раз, когда мы с тобой увидимся, у тебя уже все будет в порядке.
– Я надеюсь, – говорит она тусклым голосом. – А что мы будем делать, если все-таки не обойдется?
О господи, я даже подумать об этом не могу!
– Говорю тебе, все будет в порядке, так что перестань беспокоиться.
Я чувствую, что ей хочется побыть со мной еще немного – ей трудно идти домой с этой тяжестью на душе. А может, она боится выдать себя. Да, она не то, что я. Мне бы надо, верно, попробовать свои силы хоть на любительской сцене, что ли! Вот уж никогда не думал, что я такой великий актер.
В последующие дни я получаю полную возможность упражнять эти свои способности. Не могу припомнить, чтобы в моей жизни были еще когда-нибудь такие ужасные дни, как эти пять дней, когда я все хожу и притворяюсь, веду себя как самый беззаботный человек на свете, а на сердце у меня кошки скребут. Теперь я знаю, как, оказывается, люди могут прятать от чужих глаз свои беды и тревоги, когда им это необходимо, ведь никто, даже наша Старушенция, ни на секунду не догадывается, что у меня что-то неладно. Мне все время до смерти хочется позвонить Ингрид и услышать, что все в порядке, но я не решаюсь – боюсь узнать обратное. К тому же, мне кажется, она сама позвонит, если это действительно произойдет. А потом я говорю себе, что Ингрид не станет звонить, потому что я ведь изображал такую уверенность, и она может подумать: зачем сообщать мне о том, в чем я никогда ни минуты не сомневался.
Быть может, мне придется жениться на ней. Никуда от этого не денешься. Если то, чего я жду, не произойдет, я должен буду жениться на ней. При одной мысли об этом меня бросает в холодный пот. Я знаю, что есть такие места на земле, где можно жениться на девушке, если она ждет ребенка, а потом развестись. Но только не здесь, не там, где я живу. И у нас, конечно, бывает, что люди разводятся и разъезжаются в разные стороны, но только не в нашей среде. У нас, если какой-нибудь парень вроде меня женится, так уж это в девяноста случаях из ста на всю жизнь. Приговорен пожизненно, и старайся не вешать носа. И притом, что же это за женитьба, если уже с самого начала думаешь о разводе! Кому такая женитьба нужна! Разве это брак? Брак должен быть таким, как у Дэвида с Крис. И у меня могло бы быть так с той девушкой… С той, о которой я мечтаю… Но чтобы жениться вот так, совсем не на той… Нет, больше никогда, говорю я себе. Если только сейчас все сойдет с рук, я увижусь с Ингрид еще один-единственный раз, чтобы объяснить ей все, и потом конец. Крышка. Капут. Как бы сильно ни захотелось мне начать все сначала.
На пятый день (или на пятый год!) вечером в магазине раздается телефонный звонок, и мистер ван Гуйтен говорит:
– Это вас, Виктор. Какая-то молодая особа.
Сердце бухает у меня в груди, как паровой молот, когда я беру трубку и, оглянувшись по сторонам, судорожно глотаю воздух, прежде чем мне удается выдавить из себя:
– Слушаю.
– Хэлло, Вик? Это Ингрид.
– Здравствуй, Ингрид. Как дела?
– Я все ждала, что ты мне позвонишь, Вик. Потом решила, что, может, что-нибудь случилось и ты не ходишь на работу.
– Нет, нет, ничего не случилось… Просто замотался с разными делами. – Я сую руку за борт куртки и стараюсь унять бешеный галоп моего сердца.
– Вик… Ничего не произошло. Вот уже две недели теперь.
– Ты меня не разыгрываешь? – Черта с два, станет она разыгрывать!
– Такими вещами не шутят, ты знаешь.
– Но ведь еще не так много времени прошло…
– Все, конечно бывает… Послушай, Вик, я должна тебя повидать. Нам надо поговорить. Я не могу об этом по телефону. Можем мы встретиться сегодня вечером?
– Сегодня вечером? Не знаю, у меня сегодня что-то… – Ни черта у меня сегодня нет, но мое первое инстинктивное стремление – отодвинуть нашу встречу подальше.
– Прошу тебя, Вик, встретимся сегодня. Не откладывай, пожалуйста. Мне необходимо тебя увидеть. Я чувствую, что ей нужно поделиться с кем-то своей тревогой, иначе она может слететь с катушек, и, уж конечно, лучше, чтобы она поделилась со мной, чем с кем-нибудь еще. За этих девчонок никак нельзя поручиться. Некоторые из них решительно все выбалтывают своим подружкам.
– Ладно, значит, сегодня вечером. Где всегда, в обычное время.
Я вешаю трубку и тяжело опираюсь обеими руками о прилавок. Для меня уже ясно, ясно как апельсин, что ждать большего нечего – она беременна.
V
– Давай обсудим все по порядку. У тебя задержка на две недели.
– На пятнадцать дней, – говорит она.
– Хорошо, на пятнадцать дней, разве это так много? Я не очень во всем этом разбираюсь, но разве у женщин не бывает так иногда?
– У некоторых бывает, они и не беспокоятся. Но у меня не бывает. Я уже говорила тебе, Вик, что со мной этого ни разу не случалось. У меня как часы.
– Ну, может, ты просто переутомилась и тебе нужно попить чего-нибудь укрепляющего. Может, надо сходить к врачу.
– Я чувствую, что мне давно надо бы пойти к врачу, – говорит она, – но только не за укрепляющим.
– Делай что знаешь, но не впадай в панику. Еще не все потеряно. Может, еще все обойдется.
Мы в парке, в беседке, вечер теплый, тихий, небо чистое. Но мы сидим в стороне друг от друга, и ни один из нас не испытывает особого желания выйти из беседки и полежать на траве.
– И еще есть одна вещь, – говорит Ингрид. – Я не могла сказать тебе этого по телефону… Мама все знает. Мне пришлось признаться ей.
У меня перехватывает дыхание. Словно кто-то отвесил мне хороший удар ногой прямо в солнечное сплетение.
– Час от часу не легче! Ингрид! Как, черт побери, могла ты это сделать? Нельзя разве было помолчать еще немножко? – О господи, теперь мы пропали!
– Я должна была сказать маме, Вик. Она не хуже меня знает, что у меня всегда день в день. Она стала приставать ко мне с вопросами. Ты не знаешь мою маму, не знаешь, как она умеет выудить из тебя все, что ей нужно. Я просто не выдержала, разревелась и все ей рассказала.
Лишь бы она не разревелась сейчас, думаю я. Лишь бы она не начала рыдать во весь голос в довершение всего!
– И что же, ты ей все, все рассказала?
– Да… в общем…
А какое теперь это имеет значение, что она ей рассказала? Существует в конце концов только один способ сделать девушке ребенка. Я думаю о том, сколько парней попадало в такой вот переплет, как я, и перед глазами у меня возникает бесконечная вереница, уходящая куда-то в доисторические времена. Все они теперь небось подталкивают друг друга локтем, хихикают и перешептываются: «Глядите, вон еще один бедняга попался, прищемили ему хвост!»
– О господи… И что она сказала?
– Что она могла сказать, как ты думаешь? Она была вне себя. Я еще никогда не видела ее такой разъяренной. Я даже не решусь тебе передать, что она говорила.
– Про меня?
– Ее ведь можно понять, верно?
Итак, в самом лучшем случае, если даже ничего страшного не произойдет, эта женщина всегда будет считать меня грязной скотиной, считать, что я едва не погубил ее дочь. Хорошо еще, если она не доложит обо всем нашей Старушенции. В любой день может прийти письмо…
– Она заставила меня принять горячую ванну и выпить джина. Мне кажется, теперь она уже жалеет об этом, но тогда она была просто вне себя от ужаса.
– И все-таки не помогло?
– Нет. Я не могла выдержать такой горячей ванны, а когда я выпила стакан джина, меня стошнило.
– Все же это… Это в какой-то мере убийство, то, что вы…
– Да, вероятно, в какой-то мере… Но сотни женщин это делают, и ты бы ничего не сказал, если бы только это помогло, не так ли?
– А что теперь она собирается предпринять?
– Говорит, что подождет еще неделю, а потом сведет меня к врачу.
– Вероятно, потом она захочет поговорить со мной?
– Она сказала, что напишет отцу, вызовет его домой. Она говорит, что ты должен иметь дело с мужчиной, когда придешь к нам.
– О господи, ну и история!
– Вероятно, нам следовало подумать об этом раньше.
– Но ведь надо же, чтобы так не повезло – налетели в первый же раз, а другие годами стараются иметь детей, и хоть бы хны!
– Ты бы попробовал написать об этом в газету, – говорит она. Кажется, это самая остроумная шутка, которую я когда-либо от нее слышал, но мне не до смеха. Я не в силах даже выдавить улыбки.
Встаю, начинаю шагать взад и вперед. Да, выхода нет. Мне не отвертеться, это ясно как божий день. Придется через это пройти. Я вынимаю портсигар.
– Покурить-то мы, во всяком случае, можем. Это нам еще, слава богу, не возбраняется. Возьми сигарету… – Она берет сигарету, и мы закуриваем.
– Вик, – говорит она. – Что делать? Что теперь можно сделать?
Она расстроена, очень расстроена. Я вижу это. Не одному мне было тяжко эти последние пять дней. Да и до этого она ведь таила все про себя и мучилась одна уже много дней, прежде чем сказала мне. И в некотором отношении ей даже хуже, чем мне, – ведь это у нее будет большой живот и это на нее все будут показывать пальцем и судачить. Ей будет хуже, чем мне, во всем, за исключением одного: в конце концов она получит то, чего хотела, – она получит меня. Тоже ценная добыча, черт побери! Но быть может, именно это и угнетает ее сейчас – быть может, она сомневается, женюсь ли я на ней, если самое скверное произойдет. Быть может, именно это так ее и тревожит…
Я знаю, что она беременна. Ни секунды в этом не сомневаюсь. И ни секунды не сомневаюсь, что мне из этой истории не выпутаться. Я попался, и никуда от этого не уйдешь. Ни-ку-да. Вот и пришел конец твоим мечтаниям, Вик Браун. Можешь больше не искать свой идеал. Ты его уже нашел – единственный, который тебе дозволено иметь. Ты в ловушке, и спасения тебе нет. Ох, идиот! Проклятый, жалкий идиот!
Итак, все ясно. Остается только произнести это вслух, и я прислоняюсь лбом к столбу беседки, гляжу в глубину парка и говорю:
– Не волнуйся. Мы поженимся. Вот что мы сделаем.
Ингрид молчит, но вскоре я слышу какие-то звуки у себя за спиной, оборачиваюсь и вижу, что она плачет.
– Перестань расстраиваться, я тебе сказал, что мы поженимся. Ты же не думаешь, что я тебя брошу? Ты не думаешь, что я улизну и оставлю тебя одну расхлебывать всю эту кашу? Я, черт подери, конечно, не святой, но все же и не такой сукин сын.
Теперь она уже ревет белугой. Носовой платок пошел в ход, и водопровод открыт на полную катушку.
– Я всегда мечтала выйти за тебя замуж, Вик, – говорит она. – Часто мечтала о том, что ты сделаешь мне предложение. А теперь вот как все обернулось. Теперь получается, что ты вынужден. Не случись этого, ты ведь никогда бы не женился на мне? Знаю, что ты бы не женился. Знаю, что ты не любишь меня так, как я тебя люблю.
Ну хорошо, либо одно, либо другое, чего же она хочет? Вот женщины – всегда так.
– Но ведь теперь я женюсь на тебе? Женюсь? Я ведь сделал тебе предложение? Сделал?
– Нет, ты можешь не жениться на мне, если не хочешь, – неожиданно говорит она. – Я не стану принуждать тебя к этому.
Смешно! Даже если она не будет принуждать меня, а все остальные? Могу себе представить, что поднимется, если я хоть на секунду дам им понять, что не хочу идти на это. Я уже сейчас вижу, как они навалятся на меня всем скопом. Нет, чтобы такое выдержать, нужен парень покрепче, я на это не гожусь.
– Но ты же не укажешь мне на дверь, ты сама прекрасно это знаешь, черт подери, – говорю я, и, если это звучит нахально, ей-богу, я не виноват. Не такое уж это счастье знать, что она меня любит. Если бы она меня не любила, мы, может, никогда не влипли бы в эту историю. Мои слова вызывают новый поток слез.
– Нет, конечно, – говорит она, – конечно нет. Я же всегда мечтала о тебе. Ты сам знаешь.
Я отворачиваюсь и снова смотрю в парк.
– Ну вот, – говорю я спокойно, – теперь ты меня получила.
Я стою, смотрю в парк и жалею – жалею так, как никогда и ни о чем на свете не жалел, – что она попалась мне однажды на глаза.
Глава 5I
Я наблюдаю, как вода уходит в сток раковины. Против часовой стрелки. Это зависит от притяжения Земли к Солнцу или чего-то в этом роде. В южном полушарии она течет по часовой стрелке. Интересно, что она делает на экваторе? Течет не крутясь, прямо вниз, должно быть. Мне приходит в голову, что было бы шикарно провести отпуск, разгуливая по Африке и наблюдая везде, где только сделаешь остановку, как уходит в землю вода. Сразу можно будет определить, когда ты пересек экватор: вода потечет в обратную сторону. Может, посчастливится попасть в такой город, который плюхнулся как раз на самый экватор, и в одном конце какой-нибудь улицы вода будет течь по часовой стрелке, в другом – против часовой стрелки, а посредине – прямо вниз. Пока ты будешь так разгуливать по Африке, тебе не грозит опасность попасть в беду – времени не хватит. На такую прогулочку уйдет, пожалуй, не один год…
– Виктор, чай на столе.
– Иду.
Сегодня понедельник, и на кухне тепло и уютно, оттого что наша Старушенция гладит белье. Возле моего стакана с чаем кусок горячей пикши, и обычно, когда она такая золотистая и хрустящая лежит на тарелке, а большие шарики хорошего сливочного масла тают на ней и она почти плавает в этом растопленном жире, у меня от одного вида ее слюнки текут. Но сегодня я жую ее и жую, точно какую-то картонку, и никак не могу проглотить. Наша Старушенция наблюдает, как я единоборствую с пикшей, которую всегда убираю единым духом, и говорит:
– Ты что не пьешь чаю, Виктор?
– Да не хочется.
– Ты вроде как любил раньше пикшу?
– Да я и люблю. Просто я не голоден, вот и все.
Половина седьмого. А в четверть восьмого я должен встретиться с Ингрид, и она ждет, что я ей что-нибудь сообщу. И подумать только, что было время, когда я, наевшись пикши и напившись чаю, разваливался на стуле, и единственный вопрос, который меня занимал, – куда бы лучше смотаться в кино, на какую картину.
Старик расчистил противоположный конец стола и разложил свои лотерейные билеты. Он любит заполнять их заранее, чтобы потом не позабыть.
– Ты что, напичкался сегодня всякой дряни? – спрашивает наша Старушенция.
– У меня ни крошки во рту не было.
Сегодня я пойду с Ингрид к ней домой, но сначала должен поговорить со Стариком и с матерью – я Ингрид это пообещал… Гладильная доска поскрипывает, когда наша Старушенция с силой налегает на утюг. Сейчас, в любую минуту, этот утюг может полететь мне в физиономию…
– Я к тебе обращаюсь, Вик, – доносится до меня голос Старика.
– Да? Что?
– Как ты полагаешь, говорю, может Шеффилдская сборная выиграть на этой неделе?
– А почем я знаю? – восклицаю я, давая некоторую разрядку своему напряжению. – Что я, пророк, что ли?
– Потише, потише! – говорит Старик. – Я вас, кажется, вежливо спросил, молодой человек.
– Но я же ни шута не смыслю в футболе. Пора бы уж тебе научиться разбираться самому, вместо того чтобы вечно спрашивать меня.
Брови Старика лезут вверх над оправой очков, и он вопросительно смотрит на мать.
– Чего это ты, белены объелся? – спрашивает она. – У тебя неприятности на работе или еще что?
– У меня все в порядке.
Я встаю из-за стола, беру вечернюю газету и сажусь в сторонке. Я собирался немного умаслить их, прежде чем оглоушить своей новостью, а сам взял и сделал как раз обратное. Мне сейчас позарез нужен какой-нибудь предлог, к которому можно прицепиться, чтобы преподнести все это как бы невзначай. Я просматриваю газету от первой до последней строчки, не понимая ни единого слова, и вижу что уже без десяти семь. Больше тянуть нельзя. Это должно произойти сейчас, сию минуту. Старик тяжело дышит и бормочет что-то себе под нос, увековечивая шариковой ручкой свои футбольные прогнозы из лотерейных билетов. Гладильная доска поскрипывает, наша Старушенция все гладит и гладит.
Минуты две-три протекают в полном молчании, и я слышу голос, который произносит – словно кто-то просунул голову в дверь и сообщает новость:
– Я собираюсь жениться.
На мгновение все звуки замирают, воцаряется мертвая тишина, и я понимаю, что это произнес я.
Наша Старушенция застыла с поднятым утюгом в руке, и даже Старик позабыл про свои билеты. Наконец наша Старушенция с громким стуком ставит утюг на подставку: она так ошарашена, что еще не может произнести ни слова.
– На ком же это ты собираешься жениться? – спрашивает она, когда к ней возвращается дар речи.
– На одной девушке, ее зовут Ингрид Росуэлл. Она живет на Парковом проспекте.
– Как же мы до сих пор ничего об этом не знали?
– Я и сам не знал раньше. Я только сейчас это надумал.
Наша Старушенция иной раз неплохо ворочает мозгами, она уже, по-видимому, сразу раскумекала что к чему.
– Похоже, тебе пришлось это надумать, так, что ли?
Я ерзаю на стуле. Не могу взглянуть ей в глаза. Она следит за мной, и Старик тоже, но он пока еще не сказал ни слова.
– Ты хочешь не хочешь, а должен жениться, так, что ли, Виктор? – спрашивает она напрямик.
Я открываю рот, пытаюсь что-то сказать, но не могу вымолвить ни слова. Вижу, что она ступает на коврик перед камином и направляется ко мне, съеживаюсь в комочек и прижимаюсь к спинке стула. Одна рука у нее приподнята, и я уверен, что сейчас получу затрещину. Но она опускает руку и вместо этого дает волю языку.
– Срамник ты, – говорит она. – Срамник и дурак набитый. Когда у тебя все впереди, связался с какой-то потаскушкой, с гулящей девчонкой, которая рада лечь под первого встречного…
– Она не такая. Не такая вовсе. Вот ты обзываешь ее черт знает как, а сама ведь даже и не знаешь ее совсем.
– Я знаю достаточно – знаю, что она ловко тебя заарканила. Подумать только, что ты мог бы жениться на любой хорошей, порядочной девушке! А вместо этого он, видите ли, хочет жениться на какой-то шлюхе, которая сумела подцепить его на крючок…
Я вскочил со стула и ору. И сам удивлен, с каким жаром бросаюсь я на защиту Ингрид.
– Она не такая, говорю тебе! Ты же ее не знаешь!
– Ну-ка, помолчите вы оба, – говорит Старик. Он встает и становится между нами, так что мы вынуждены немного попятиться. – Я всегда считал, что в таких вопросах следует выслушать обе стороны.
– Ты всегда считал? – восклицает наша Старушенция. – Да ты-то что в этом смыслишь?
– Ну, мне как-никак шестьдесят второй год пошел, – говорит Старик, – и я когда-то, помнится, ухаживал за тобой, и женился на тебе, и помог тебе произвести на свет троих ребятишек, так что, вероятно, и я кое-что в этом смыслю… И что правильно, то правильно – мне тоже не нравится, что ты так разошлась и обзываешь по всякому эту девушку, а сама и в глаза ее не видала. Я не возьмусь судить, кто из них тут больше виноват, знаю только, что, ясное дело, виноваты оба, иначе быть не может. Наш Виктор тоже не ангел бесплотный, такой же парень, как все парни, и, если эта девушка мягкая да привязчивая, всякое, конечно, могло случиться. Не они первые, не они последние. И если наш Виктор позабавился с девушкой, он, ясное дело, должен за это расплачиваться, как всякий другой, и это правильно.
– Сколько ей лет? – спрашивает наша Старушенция все еще угрюмо, но уже поспокойнее теперь, после того как Старик сказал свое слово.
– Девятнадцать.
– Совсем еще девчонка, – замечает Старик.
– В наше время некоторые девчонки в девятнадцать лет знают больше, чем мы, старухи, – сварливо говорит наша Старушенция и, кажется, готова развести свою бодягу снова.
– Всякие есть, да, может, она не из таких. Если б они оба были поопытней, так не попали бы в беду. Вот мы на нее поглядим, тогда нам легче будет судить. Когда ты ее приведешь сюда, Виктор?
– Могу в любой день.
– Я еще не сказала, что хочу видеть ее в своем доме, – говорит наша Старушенция.
– Ты же не выставишь за дверь свою сноху, Люси.
– Она мне еще не сноха.
– А я так думаю – чем скорее она станет снохой, тем лучше.
– А что скажут соседи, да и вообще все? – говорит наша Старушенция. – У Кристины была такая чудесная свадьба…
– Соседи пускай занимаются своими делами и не лезут в наши.
Ну и ну! Я еще никогда не видал, чтобы Старик так твердо стоял на своем. Жаль только, что это произошло по такому поводу.
– Видел ты ее родителей? – спрашивает наша Старушенция.
– Я сегодня иду к ним. Хотел сначала сообщить вам.
– Очень любезно с твоей стороны, – говорит она. – Все же ты там следи за своими манерами. Пускай не думают, что ты вырос под забором. И смотри, чтобы наш Джим не пронюхал про то, чего ему знать не положено. Рано ему слышать о таких вещах, успеет еще.
Я перехватываю взгляд Старика. Выражение лица у него какое-то странное – ничего не поймешь. Я отворачиваюсь и иду к вешалке взять пальто.
II
– Ты сказал им? – спрашивает Ингрид.
– Да. Сказал.
– А они что сказали?
– Да примерно то, что и следовало ожидать. Мать раскипятилась. Мне даже показалось, что она хочет запустить мне в голову утюгом. Ну, а Старик рассуждал довольно здраво.
– Не знаю, как я посмотрю им в глаза.
– Ну, у тебя все сойдет прекрасно. С отцом тебе будет совсем просто, а с матерью, конечно, немножко потруднее. Она хорошая, только надо ее поближе узнать. А что ты порядочная девушка, это она сразу поймет.
– Ты именно это им и сказал?
– Что – это?
– Что я порядочная девушка.
– Ну да, а что? Что же ты, не порядочная разве? Ты ведь знаешь, что я никогда иначе не думал.
Она с видом собственницы взяла меня под руку, словно боясь, что я убегу, – раньше она никогда так не делала, – и прижала к себе мой локоть. Я поглядываю на нее сбоку и замечаю, что в глазах у нее стоят слезы.
– Ну чего ты еще?
Она качает головой.
– Ничего. Просто меня всегда трогает, когда ты добр ко мне.
Господи! Какой же сволочью я, вероятно, был по отношению к ней иногда!
От перекрестка до их дома ходьбы всего несколько минут, и мы уже поднимаемся по ступенькам на крыльцо. Собираясь отворить дверь, она говорит:
– Смотри, не забудь – веди себя так, словно ты никогда у нас не был.
– Ты им, значит, об этом не рассказывала?
– Что ты, нет! Они и понятия не имеют о том, что ты здесь был.
– Ладно. Запомню.
Папаша у Ингрид небольшого роста, плотненький, чистенький, лет сорока пяти. У него чёрные, гладко прилизанные волосы, с пробором посредине. Глаза тоже почти совсем черные, но смотрят они на меня довольно дружелюбно, когда Ингрид представляет нас друг другу и мы пожимаем руки. На ногах у него замшевые шлепанцы на меху, серые фланелевые, отлично отутюженные брюки, серая сорочка, красный шерстяной джемпер и довольно пестрый галстук.
– А морозец сегодня пощипывает, – замечает он, стоя спиной к камину. – Я так и знал, что будут заморозки. Опять холодает… Ну что ж, присаживайтесь, э-э… Виктор. Ингрид, что же ты стоишь, возьми у него пальто. Ингрид берет у меня плащ, перекидывает его через руку и спрашивает, где мать.
– Наверху. Приводит себя в порядок, должно быть. Сейчас спустится.
Ингрид уходит и не возвращается. Мистер Росуэлл жестом предлагает мне кресло, и мы оба садимся. Он сидит в том самом кресле, в котором Ингрид сидела в тот вечер. Я смотрю на кушетку и вспоминаю, как она лежала на ней совершенно нагая, и думаю о том, что сказал бы ее отец, если бы он об этом узнал. И у меня мелькает мысль, что я мог бы, если на то пошло, проделать с ней все здесь, где нам было уютно и тепло и где мы были надежно укрыты от всех глаз, а не там в парке, где было холодно и никто из нас, в сущности, не испытал удовольствия.
Мистер Росуэлл тянется к телевизору и берет пачку сигарет «Плейерс».
– Вы курите?
– Да… Спасибо. – Я беру сигарету, и мы закуриваем.
Теперь он сидит и смотрит на меня. Скорей бы уж возвращалась Ингрид!
– Вы, насколько я понимаю, никак не ожидали, что все это так обернется?
– Да, сказать по правде, не ожидал. Однако я готов принять на себя ответственность.
– Это правильно. Я рад, что вы не собираетесь увиливать от ответственности. Ингрид сообщила мне, что вы сделали ей предложение.
– Ну да… То есть я сделал это тотчас, как только я… Как только она…
– Это явилось для вас большой неожиданностью?
– Да, признаться.
– Но вы должны были предполагать, что это может случиться…
Я чувствую, что лицо у меня пылает.
– Да, конечно… но мы ведь не… Мы ведь не…
– У вас это еще не вошло в привычку?
– Да, вот именно. Это было всего один раз, вы понимаете…
Он смотрит на меня своими темными глазами. Я не знаю, о чем он думает, верит он мне или нет. Но сам-то я, по совести, считаю, что при других встречах мы с Ингрид проделывали, по существу, то же самое, и это ничуть не менее скверно, хотя и менее опасно, чем доходить до конца.
– Вы, конечно, знаете, что Ингрид еще несовершеннолетняя? А вы, вероятно, уже вышли из юношеского возраста?
– Да, полгода назад мне исполнился двадцать один год.
– Вы уже рассказали об этой истории вашим родителям?
Я киваю:
– Да, они об этом знают.
– И как они к этому относятся?
– Ну как они могут относиться! Они очень расстроены. Отец воспринял это гораздо спокойнее, чем мать,
– Конечно, как и следовало ожидать. Женщины ближе принимают к сердцу такие вещи. Такова уж их натура, должно быть, вы увидите, что то же самое происходит и с матерью Ингрид. У мужчин остается меньше времени для эмоций. Они должны думать реально о том, что практически можно предпринять.
Непонятно, куда провалилась Ингрид вместе со своей мамашей. Миссис Росуэлл явно испытывает мое терпение.
– Как я понимаю, вы прежде работали чертежником в конструкторском бюро на заводе Уиттейкера, а потом поступили в магазин?
– Да.
– И какое вы сейчас получаете жалованье? Я говорю ему, и он кивает:
– Вполне сносно.
Отворяется дверь, и входит Ингрид со своей матерью.
Я вовремя вспоминаю, что, когда женщина входит в комнату, полагается из вежливости встать, и встаю. Одного взгляда на миссис Росуэлл для меня достаточно. Она мне не нравится.
Она маленькая, кругленькая и, пожалуй, немного моложе своего мужа; у нее светлые, коротко подстриженные волосы, все в мелких, аккуратно уложенных, точно приклеенных к черепу завитушках. На ней трикотажное платье бирюзового цвета, очень плотно облегающее фигуру или, вернее, то, что еще сохранилось от ее фигуры, потому что когда-то миссис Росуэлл была, по-видимому, недурно сложена, но теперь это главным образом внушительный бюст и внушительный зад. При этом она основательно затянута в корсет, и под мышками у нее из корсета выпирают мощные пласты жира. Я не сразу отдаю себе отчет в том, что именно производит на меня такое отталкивающее впечатление, а потом вижу, что это ее глаза: они светло-голубые, и что-то такое тупое и хитрое поблескивает в них, что я понимаю – тут мне несдобровать, даже если все сойдет гладко. И с ужасом думаю, что теперь, хочу я или не хочу, а мне придется весьма много общаться с ней и с мистером Росуэллом. Я чувствую, как все это обволакивает меня, словно какая-то гигантская сеть. Какой же я был болван! Если бы только я мог выбраться отсюда! Даже сейчас я в глубине души еще никак не могу поверить тому, что все это правда и спасения для меня нет.
– Мама, познакомься, это Вик.
– Добрый вечер, – говорю я и собираюсь протянуть руку.
Она отвечает мне чрезвычайно сухим кивком и тоже говорит «добрый вечер». Я чувствую, что должен сказать еще что-нибудь.
– Я… Мне очень жаль, что наше знакомство происходит при подобных обстоятельствах. – Говорю я это только потому, что нервничаю как черт и тут же понимаю, что получилось совсем не то: я взял неверный тон, и голос мой звучит фальшиво, словно в глубине души меня все это только потешает.
– Вам не кажется, что ваши сожаления несколько запоздали? – говорит она без обиняков.
Ингрид опускает глаза, и я чувствую, как улыбка, которая, кстати сказать, была совсем неуместна, сползает с моего лица.
Они обе подходят к кушетке и садятся. На миссис Росуэлл довольно короткая юбка, и, когда она усаживается на кушетку, юбка задирается выше, чем положено. Я гляжу на ее ноги и все прочее. Ноги миссис Росуэлл интересуют меня меньше всего на свете, на черта они мне сдались, но это уже получается невольно. Ну, короче говоря, я смотрю на ее ноги – ноги как ноги, ничего особенного, – а она смотрит на меня, смотрит и смотрит не отрываясь, и я чувствую, что начинаю краснеть. Могу себе представить, что она будет говорить мистеру Росуэллу, когда я уйду! Ты разве не заметил, как он пялил глаза на мои ноги? Этот мальчишка – обыкновенный эротоман. Если мы впустим его в наш дом, увидишь, он постарается залезть в постель ко мне! Что-нибудь в таком духе.