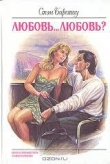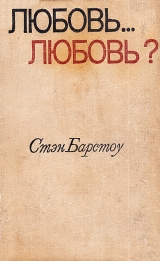
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
I
Праздники кончились, и повседневная жизнь снова вошла в свою колею, и снова те же люди едут утром на работу на верхнем этаже автобуса. Большинство сидит, уткнувшись в газету, так что одного не отличишь от другого, но есть тут человека два или три, которых ни с кем не спутаешь. Один тип – он обычно сходит на второй остановке вниз по склону – очень похож на эсквайра. На нем обычно толстое, ворсистое твидовое пальто, темная, отливающая сединой шляпа с опущенными вниз полями, и, держи он под мышкой охотничье ружье вместо «Дейли телеграф», картина была бы вполне законченная. Лицо у этого малого красное, все в крошечных прожилках и всегда напоминает мне апельсин «королек», а глядя на его большой, торчащий, словно руль, нос, кажется, что он каждое утро отвинчивает его, а побрившись, снова привинчивает. Малый этот помешан на свежем воздухе, и все сидящие наверху начинают ежиться, заслышав на лестнице стук его башмаков. Садится он всегда на одно и то же место в середине автобуса (а если кто-нибудь другой уже занял его, этот нарушитель традиции, кто бы он ни был, награждается уничтожающим взглядом) и первым делом открывает все окна, до которых только может дотянуться, так что по автобусу начинает гулять ветер и шляпы слетают с голов. Ветер, дождь, пороша, снег или туман – ему все едино: при любой погоде он распахивает окна. Тот день, когда отменили открытые автобусы, был, наверно, самым печальным днем в его жизни.
Я прозвал этого малого кислородным алкоголиком – есть такой персонаж в одном эстрадном представлении. Я лично считаю, что это не такое уж большое зло, его можно вытерпеть, если как следует одеться. А вот любители поговорить – это гораздо хуже, их надо избегать всеми силами, как, например, того маленького старикашку, который садится на следующей остановке после кислородного алкоголика и, точно мы с ним старые приятели, неизменно устраивается рядом со мной. У него, у этого старикана, обо всем свое мнение, и он необыкновенно веселый, за что все так нежно и любят его.
– Вот она – жизнь, – говорит он в это утро, пристроившись, как обычно, рядом со мной, – месяцами ждешь-не дождешься этих праздников, а потом день-другой – и конец. – Голос его разносится по всему автобусу, будто через микрофон, и глаза у всех постоянных пассажиров тотчас стекленеют.
– Да уж, – изрекаю я. Главное: всегда с ним соглашаться, таково мое правило. И ни в коем случае не вызывать на разговор, иначе погибнешь.
Он возится некоторое время с трубкой, потом раскуривает ее и окружает нас дымовой завесой. Он сам выращивает табак – это он всегда всем говорит и в подтверждение своих слов протягивает руку, показывая на ладони сухие желтые волокна, похожие на конский навоз, пролежавший весь день на солнце. Никто не оспаривает его утверждений, потому что трудно себе представить, какой сорт табака может так омерзительно пахнуть. Вот когда старикашка закуривает, мы начинаем с благодарностью думать о кислородном алкоголике и его открытых окнах.
– Не успеешь полчаса пробыть на работе, как уже кажется, будто и не отдыхал, – говорит он, посасывая трубку. Должно быть, он купил ее еще в юности, потому что чубук весь обгорел с одной стороны, а мундштук в месте полома скреплен изоляционной лентой. Я так думаю, что либо он очень привык к ней, либо такой скряга, что не хочет покупать новую. И решаю, что, скорей всего, он скряга, потому что люди, которые рассуждают так, обычно нелегко расстаются с деньгой.
– И мне тоже, – говорю я.
– Просто не пойму: и чего это люди так носятся с рождеством! – во всю мочь орет он. – Веры ни у кого ни на грош, настоящего чувства тоже. Одно богохульство. Вот лавочникам – тем рождество на руку. Они распродают все, что у них есть и чего даже не было. А все прочие напиваются, обжираются и потом сидят, осоловелые, и смотрят телевизор… Богохульство, да и только.
Он вытаскивает из кармана платок, громко сморкается и вытирает седые усики. Потом разглядывает содержимое, чтобы удостовериться, какой клад он там оставил, и сует платок обратно в карман.
– Правда, я и сам не большой любитель в церковь ходить, – говорит он. – Нынешняя церковь – сплошное лицемерие и обман. А священники… мелкота, вруны и паразиты, которые живут себе припеваючи, знают, что никто их не уволит, если они не будут в своих проповедях по-честному обрушивать громы и молнии на головы кого следует…
– Совершенно верно.
– А телевидение… Ни в жизни не куплю себе телевизор. Жена все время канючит. Но я ей сказал: «Если у тебя есть деньги, так и покупай. Но в тот день, когда телевизор появится в доме, я из дома уйду…». И куда только мы катимся… Вся страна точно помешалась на этих телевизорах. Они ее прямо заполонили. Заполонили всю как есть.
И мелет, и мелет, и мелет…
Но сегодня утром мне его болтовня не страшна: я могу замкнуться в себе и думать об Ингрид. Сегодня я непременно с ней заговорю. Как это произойдет, не знаю, но твердо знаю, что заговорю. Мы уже года два здороваемся, но только за месяц до рождества я вдруг понял, какая она необыкновенная. А ведь все это время она, можно сказать, была у меня под носом… И теперь я уже дошел до того, что больше выжидать не могу. Не могу – и все. К несчастью, я понятия не имею о том, каковы мои шансы. Я не знаю, заметила ли она меня или же я для нее просто один из голоштанных чертежников, которые получают по тридцать монет. Зато я знаю, что никогда этого не выясню, если не соберусь с духом и не начну действовать. И прежде всего надо хотя бы заговорить с ней.
Покупаю утреннюю газету на автобусной станции и перехожу через улицу на остановку другого автобуса. Где-то на полпути замечаю в очереди ее, и на секунду все люди вокруг меня куда-то исчезают, и я стою один, и вся очередь на другой стороне улицы смотрит на меня, а я думаю о ней, и мне кажется, что мои мысли написаны на моем лице и все их читают. Я как будто даже краснею и, почувствовав это, спешу присоединиться к очереди. Мне, конечно, хотелось думать, что она смотрела на меня. На самом же деле она лишь случайно взглянула в мою сторону, а потом продолжала болтать с мисс Прайс из машинного бюро. Да и с чего бы это она обратила на меня внимание? Кто я такой? Просто парень, который работает в конструкторском бюро и притом на одной из самых маленьких должностей. Наверняка я не занимаю надолго ее внимания. И если я на этой неделе уйду от Уиттейкера, она едва ли это заметит. Ух, до чего же противное состояние: то возносишься на крыльях надежды, то погружаешься в самую черную меланхолию и сам не понимаешь, в конце концов, на каком же ты свете.
Выхожу на шаг из очереди и, развернув «Миррор», украдкой наблюдаю за Ингрид. Да, ничего не скажешь – хороша! Такая всегда аккуратная, чистенькая! Терпеть не могу девчонок с обломанными ногтями, растрепанных, от которых разит, как от протухшей бараньей ножки, разогреваемой на сковороде. Я с трудом подавляю тошноту, когда мне попадается такая. А вот Ингрид – та наверняка принимает ванну каждое утро, и волосы у нее такие пушистые, чисто вымытые и блестящие, тоже каштановые, как у меня, но посветлее, а в лучах солнца так и вовсе светлые. И юбки с блузками и джемперами, которые она носит, всегда чистенькие, отутюженные и так ладно сидят на ее стройной фигурке, прямо загляденье. Но лучше всего у нее, по-моему, ноги, они такие красивые, недаром она всегда ходит на высоких каблучках и носит нейлоновые чулки без единой дырочки или дорожки. За всю свою жизнь я еще ни разу не встречал такой девчонки, и, конечно, нечего мне вздыхать по ней, потому что шансов на успех у меня нет ни малейших. Ну просто никаких.
Тут я поспешно ныряю за газету, потому что она, будто зная, что кто-то наблюдает за ней, вдруг поворачивает голову и смотрит прямо на меня.
С грохотом подкатывает автобус и останавливается. Кондуктор спрыгивает с площадки, обходит автобус и, прислонившись к радиатору, перебрасывается несколькими фразами с шофером. Пока я дохожу до двери, верхний этаж уже оказывается заполнен и люди спускаются обратно, чтобы занять стоячие места внизу. Как всегда в таких случаях, тут подходит второй автобус, и большая часть тех, кто стоит в очереди, отступает в сторонку, чтобы сесть в него. В другое время я бы тоже так поступил, но сегодня я сажусь в первый автобус, хотя мне и придется стоять. Так по крайней мере я буду ближе к Ингрид. Она сидит впереди, у прохода, рядом с какой-то незнакомой женщиной. Пробираюсь вперед и останавливаюсь у следующего ряда позади нее. Автобус рывком трогается с места, и я хватаюсь за верхнюю перекладину, а сам все смотрю и смотрю на Ингрид, пока голос кондуктора не заставляет меня очнуться. Этот парень, кстати сказать, известен на линии как остряк-самоучка. Говорят, он был в армии сержантом и слывет человеком, которому все нипочем. Появись в автобусе сам архиепископ Кентерберийский в полном облачении, ему досталось бы не меньше, чем любому другому, – разве что остроты были бы злее. И голосина у этого парня посильнее, чем у многих актеров из кресслийского театра «Альгамбра», а это уже кое-что. Итак, он входит в автобус.
– Ну-с, труженички, приготовьте плату за проезд, будьте любезны! Да встряхнитесь – нечего носом клевать. Вспомните тех, кто выехал в полвосьмого, когда вы еще в кроватках почивать изволили… Что вам угодно, мисс? Первого сорта – на три пенни? Извольте… А вам чем могу услужить, сударыня? На четыре пенни товару? Как раз столько дает старик своей старухе, а? Слушаю вас, сэр.
Так он продвигается по автобусу, мелет языком и отпускает свои дурацкие допотопные шуточки, а я принимаюсь шарить по карманам в поисках мелочи. В кармане пальто я обнаруживаю полпенни – то, что осталось от шестипенсовика после поездки в город и покупки газеты. Расстегиваю пальто, сую руку в карман брюк и – не обнаруживаю ничего. Не обнаруживаю я ничего и в других карманах – все осталось дома, на столике. Иными словами: платить за проезд мне нечем… Такого со мной еще не бывало, хотя я слышал, что это случается. Если в автобусе нет никого, кто бы заплатил за тебя, даешь кондуктору свою фамилию и адрес и платишь потом. Но все, кто меня знает, сидят наверху, и я уже представляю себе, что я буду говорить этому типу и как он это обыграет. Да к тому же при Ингрид! Потом над такими вещами смеешься, но не в тот момент, когда они происходят. Кондуктор все ближе подходит ко мне, и я поспешно оглядываю окружающие меня лица. Ну конечно же, все наверху. Здесь я на чужой территории.
Значит, есть только два выхода из положения. Либо стать посмешищем и поострить вместе с шутником-кондуктором, либо… либо занять денег у Ингрид. Нет, у нее я занять не могу. Я ведь, можно сказать, и не знаком с ней. А будет ли у меня лучший случай с ней познакомиться? Разве я не искал такой возможности, разве все праздники не ломал себе голову над этим?
Не тратя времени на размышления, я наклоняюсь и дотрагиваюсь до ее плеча, она поворачивает голову, и до меня доносится запах ее волос. Лицо ее оказывается на расстоянии какого-нибудь фута от меня, и она смотрит прямо мне в глаза; колени у меня подгибаются, а из головы вылетает все, что я хотел сказать.
– Послушайте, я попал в дурацкое положение. Я забыл дома деньги и подумал, не могли бы вы… понимаете, я что-то не вижу никого из знакомых. – До нее наконец доходит, о чем я прошу, и она открывает сумочку: я вижу, как краснеет у нее шея. – Нет, нет, – говорю я. – Возьмите просто два билета. – Я выпрямляюсь и вижу, как краска ползет по обращенной ко мне щеке и заливает ее всю. В эту минуту я люблю ее так, что дух захватывает, и я чувствую, как у меня тает все внутри.
На нашей остановке я пропускаю ее вперед. Делаю попытку улыбнуться, но, кажется, улыбка получается весьма жалкая.
– Благодарю за спасение утопающего.
– Какие пустяки.
Мы идем по дорожке к заводу.
– Я сейчас же раздобуду денег и вам верну.
– Пожалуйста, не беспокойтесь.
– Забыл кошелек на туалетном столике. А в кармане пальто у меня был шестипенсовик, так что, понимаете, я спохватился, только когда пересел на другой автобус. Ничего, кто-нибудь из ребят выручит.
– Да я могу подождать, – говорит она. – Ведь это всего три пенса.
– Но все-таки деньги, и они вам нужны.
– В другой раз вы заплатите за меня.
– С радостью.
Представился бы только случай! И это лишь зацепка. А там пойдет – кино, танцы, театры! Не говоря уже о шоколадах, нейлоновых чулках, духах и прочем. Да я готов потратить на нее все, что у меня есть, – до последнего гроша. Пусть только слово скажет.
Мы теперь оба молчим, и я думаю: «Вот и свершилось то, чего ты так долго ждал. Ты разговариваешь с ней». Что же мне ей сказать? «Дорогая Ингрид, я сохну по вас уже много месяцев (ну если и не много, то, во всяком случае, месяц). А как вы ко мне относитесь? Хотите сделать меня самым счастливым парнем в Крессли? Пойдемте сегодня в кино!»
– Хорошее утро, правда? – говорю я.
– Да, пожалуй, неплохое.
Что же еще сказать? Может, что-нибудь насчет зимы?
– Интересно, будет у нас еще снег в этом году?
– Не удивлюсь, если будет. Погода стоит довольно холодная.
А не все ли равно, какая она, погода! Солнце, снег, ветер, – я люблю ее и буду любить. Если бы только знать, что она думает обо мне. Держится она по-дружески, но ведь это, может, просто из вежливости и ровно ничего не значит. Я сам каждый день любезно беседую с людьми, которые мне вовсе не нравятся. Эх, хорошо бы как-нибудь намекнуть ей…
– Занятно, правда?
– М-м-м?.. Что?
Ну, конечно, она была за тысячу миль отсюда и думала о чем-то своем. А может, о ком-то. Так что же тогда? Что, если у нее уже есть парень? О господи, ведь мне это даже в голову не приходило! Во всяком случае, я никогда над этим не задумывался. Старался не думать. А ведь не известно, как оно на самом деле. Если поразмыслить, так скорей всего кто-то у нее есть… ведь она такая обаяшка и вообще…
– Я вот думаю, что работаем мы вместе уже два или три года, а впервые разговорились.
– Да, – соглашается она. – Занятно, верно?
Значит, так – занятно. Этот вопрос мы выяснили. Снова наступает молчание, и снова я отчаянно ворочаю мозгами. Ну, почему она ничего не скажет? Слышу сзади чьи-то шаги, оборачиваюсь и вижу мисс Прайс, которая размашистой, мужской походкой быстро догоняет нас.
– Доброе утро, мистер Браун. Хорошо отдохнули на праздниках?
– Да, вполне.
Ну, вот и конец. От этой напасти я уже не избавлюсь.
Мисс Прайс кивает и, выставив вперед крупный подбородок, пристраивается к нам. Она закидывает за спину конец своего длинного шарфа и вышагивает в ногу со мной. Мисс Прайс смущает меня. Слишком она хорошая – такая хорошая, что не верится. Ей бы следовало подписать контракт с Артуром Рэнком: когда я смотрю на нее, мне все кажется, что она сбежала из какого-то английского комедийного фильма. А голос! Кто-то пустил у нас шутку, что, когда мисс Прайс расговаривает, ее слышно на другом конце завода, если ветер дует в нужном направлении, и мне приходит сейчас в голову, что неплохо бы поместить ее и этого шутника-самоучку вместе в железнодорожный туннель – пусть бы там перекликались.
– Вы весело провели рождество, Вик? – спрашивает Ингрид.
То, что она назвала меня по имени, приводит меня в такой неописуемый восторг, что на секунду я теряю всякую способность соображать. Подумать только – ведь она назвала меня не мистер Браун, как мисс Прайс, и даже не Виктор, а просто Вик – как зовут меня друзья.
– Да так себе, – бормочу я наконец. – Правда, святки у нас получились весьма бурные. У сестры была свадьба.
– Прелестная девушка! – изрекает мисс Прайс, оповещая об этом не только Ингрид и меня, но и всех на пятьсот ярдов вокруг. – И жених, по словам моей сестры, очаровательный, интеллигентный молодой человек.
Тут я вспоминаю, что у нее есть сестра, тоже мисс Прайс, которая преподает домоводство в школе. Преподавать она стала уже после того, как я окончил школу.
– Это была свадьба по всем правилам, Вик? – спрашивает Ингрид, и я чувствую, что теперь у нее явно пробудился интерес. Чудно, как девчонки интересуются свадьбами даже каких-то совершенно неизвестных им людей. – А как была одета ваша сестра? – спрашивает она, горя желанием узнать все подробности.
Я не большой специалист по этим вопросам и бормочу что-то невнятное, пока мисс Прайс не приходит мне на выручку.
– Мы с сестрой были в церкви. – (Странное дело, но я их там почему-то не видел.) – Ей очень хотелось посмотреть, как мистер Лестер будет венчать, а я вообще люблю свадьбы.
Вот те на – свадьбы, оказывается, любят даже те, кто уже давно вышел из брачного возраста!
Так или иначе, она выкладывает все сведения, какие интересуют Ингрид, и та говорит:
– Мне бы очень хотелось, Вик, посмотреть фотографии, когда вы их получите.
Тут мы входим в двери нашего здания, и мисс Прайс, бросив нам: «Всего наилучшего!» – удаляется по длинному коридору.
Ингрид смеется:
– Ну и кикимора!
Я мычу что-то нечленораздельное и смотрю вслед мисс Прайс. Не знаю, но мне почему-то всегда жаль таких людей.
Мы все еще стоим, когда раздается звонок, и Ингрид говорит, что ей пора.
– Да, конечно. Я прихвачу с собой эти фотографии, когда они будут готовы.
– Пожалуйста. Мне бы очень хотелось их посмотреть.
Она уходит в том же направлении, что и мисс Прайс, а я поднимаюсь наверх. Фотографии дадут мне возможность снова поговорить с ней, если я до тех пор не придумаю ничего другого. Мне очень хочется перегнуться через перила и посмотреть ей вслед, но вокруг слишком много народу, а по лестнице к тому же поднимается Джимми Слейд, мой коллега; шея у него замотана шарфом, брюки зашпилены, а в руке – велосипедный насос, который он никогда не оставляет в гараже: боится, как бы не стянули.
– Привет, Петушок.
– Привет, Джимми.
– Снова впрягаемся, а?
– Впрягаемся.
И мы вместе поднимаемся по лестнице.
II
Завод Уиттейкера – самое крупное промышленное предприятие в Крессли и во всей округе. На наружной стене монтажного цеха белыми кирпичами выложено: «ДОУСОН УИТТЕЙКЕР И СЫНОВЬЯ. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Таким способом пассажиры, прибывающие поездом, оповещаются о том, что представляет собой это смрадное место на подступах к Крессли.
Очутившись в конторском здании, вы сразу чувствуете, что строители сооружали его на века. Повсюду – прочные дубовые двери, которые достаточно покрывать лаком раз в десять лет, чтобы они блестели как новенькие. Верхняя часть перегородок почти всюду стеклянная, и, если стать где-нибудь в конце нижнего этажа, видишь весь этаж, кабинет за кабинетом, видишь людей, сидящих за столами или стоящих и беседующих друг с другом, размахивая руками, но не слышишь ни слова – точно смотришь телевизор с выключенным звуком. Помещение, где работают чертежники, самое большое: оно тянется во всю длину верхнего этажа. Здесь стекла еще больше. Перегородка, отделяющая его от коридора, сделана наполовину из стекла, а противоположная стена прорезана большими окнами, выходящими во двор. Крыша тоже наполовину застеклена, и в стене, замыкающей зал, проделано огромное окно – вроде тех, что бывают в церкви, только без витражей. Света для работы хватает, это верно, зато летом здесь как в оранжерее, а зимой как в холодильнике. Чертежные доски стоят в три ряда, и за ними можно разместить тридцать пять чертежников и конструкторов. У каждой доски стоит пресс, на котором можно разгладить чертеж, и шкафчик для хранения старых чертежей, накопившихся с той поры, когда открылась фирма – в тысяча восемьсот семьдесят каком-то году. Есть там и ящик для ваших личных вещей, куда можно положить сандвичи, «Манчестер гардиан», «Дейли миррор», «Наготу в фотографиях», «Спорт», а также справочники и чертежный инструмент, – словом, содержимое этого ящика зависит от того, что ты за человек, и что тебя интересует. Из этого большого зала двери ведут в три помещения поменьше: одно – для калькуляторов, другое – для девочек, которые готовят кальку, и третье – где снимают копии с чертежей. Копировальная машина работает на угольной дуге и очень напоминает механическое пианино времен бурской войны – опустишь монету, и оно сыграет песенку. На этой машине работает парень по фамилии Лейстердайк и девушка, которую зовут Фёбе Джонсон. И наконец, в глубине верхнего этажа расположены два стеклянных куба; в одном сидит заместитель начальника бюро Миллер, которого все любят, в другом – сам начальник, Хэссоп, которого, в общем-то, все недолюбливают.
А подлинным хозяином здесь является мистер Олторп, главный инженер-конструктор, и у него свой отдельный кабинет (без всякого стекла), на двери которого дощечка с его фамилией. Он дает задания, а Хэссоп с Миллером передают их для выполнения начальникам групп. Каждый такой начальник имеет в своем распоряжении от двух до двенадцати человек – в зависимости от характера работы. Казалось бы, на таком предприятии сколько угодно возможностей, для приобретения опыта и повышения квалификации, однако у каждой группы – свой очень узкий участок, каждый осваивает что-то одно, и его держат на этом многие годы. Так, во всяком случае, построена работа конструкторского бюро на заводе Уиттейкера.
Меня вовсе не огорчает то, что праздники кончились, потому что я люблю свое бюро и свою работу. Правда, я уже не люблю их так, как в первые два или три года, но не дошел я еще и до того состояния, когда все тебе обрыдло. Поэтому вкалываю потихоньку. Да к тому же теперь у меня появился здесь особый интерес.
До обеденного перерыва мне не удается ее увидеть, да и потом я вижу ее только в столовой, где вокруг трех столиков толпится человек тридцать. Она сидит лицом ко мне и не смотрит на меня, а я не могу оторвать от нее глаз. У нее такая манера: говорит, говорит, вдруг откинет голову и рассмеется (и смех у нее, надо сказать, на редкость заразительный); а я смотрю, как выгибается ее шея, и мне хочется провести по ней рукой, потом – по подбородку… На шее под левым ухом у нее шрам, и его мне тоже хочется погладить – самая мысль о том, что в ее тело вонзался нож, причиняет мне боль.
Рядом со мной сидит Кен Роулинсон; из нагрудного кармана у него торчит такое множество самописок и автоматических карандашей, что их хватило бы на половину конструкторского бюро. Он просит передать ему воду, и это на миг отвлекает мои мысли от Ингрид. Опять он нацепил этот зажим для галстука. Есть у Роулинсона вещи, которые действуют мне на нервы, как, например, этот зажим. Он сделан в виде клипса, с этакой красивой цепочкой. Клипс пристегиваешь к рубашке, а галстук пропускаешь под цепочку, но Роули пристегивает клипсом галстук к рубашке, а цепочка болтается просто так, для шику. Мне не раз хотелось подсказать ему, что так не носят, но тут мне приходила в голову мысль: «Собственно, чего ради?» Он из тех парней, которым ничего не стоит выбросить на ветер десяток монет. Ну и пусть себе выглядит клоуном – мне-то что?
Он наливает воды в стакан и говорит:
– Я вчера видел хороший французский фильм.
– «Жервеза», – говорит Роули. – По роману Золя. – Он усиленно ковыряется в тарелке, словно боится обнаружить там какую-нибудь мерзость. – Ты вообще-то знаешь его романы?
– Кажется, нет. Золя? Похож на название игры – вроде бинго, или людо, или канаста.
– Отличный писатель. И удивительно современный, хоть и писал лет шестьдесят или семьдесят назад.
– Да?
– И притом очень откровенно для своего времени. Он был у нас запрещен. Не по вкусу пришелся.
– Что, слишком сексуален? – Скорей всего, так оно и есть.
– Да нет, пожалуй, прямолинеен! – говорит Роули.
Ну, не все ли равно, как его окрестить, – впрочем, пусть себе изощряется, если хочет. Я же решаю поиграть немного в циника.
– Фильм, значит, был с перчиком?
– Все в полной, норме, цензурой пропущено, – говорит он. – Никакой порнографии. Но в общем, картина для взрослых.
– Идет, наверно, на французском?
– О, да. Ну, конечно, есть субтитры – для тех, кто не знает языка.
По тому, как это говорится, я понимаю, что он не принадлежит к числу таких невежд.
– Вообще-то я не против заграничных фильмов, особенно когда в них стоящих девчонок показывают, – говорю я, а сам краешком глаза наблюдаю за ним. Он морщит нос, точно ему дали понюхать что-то гадкое, и слегка краснеет. – Но меня раздражает, что надо читать перевод внизу экрана. Мне подавайте все на добром английском языке.
– Кому что нравится, – бросает Роули и, отвернувшись от меня, говорит что-то парню, сидящему по другую руку от него.
Мне немного жаль, что я перестарался и дал ему повод считать меня полным тупицей. Но в конце-то концов, не все ли равно, что будет думать обо мне какой-то там Роули?!
Официантка ставит передо мной кусок бисквита, облитого заварным кремом, и только я принимаюсь за него, как слышу скрежет отодвигаемых стульев и, подняв глаза, вижу, что Ингрид и ее подружки встали из-за стола. Она проходит так близко, что задевает рукавом мое плечо, но и виду не подает, что заметила меня. Так мне и надо. И чего я убиваюсь, сам не знаю. Только мне от этих рассуждений ничуть не легче.
Перед самыми праздниками я напутал в расчетах – вместо девяти футов семи десятых поставил восемь футов две десятых, и Боб Лейси, начальник моей группы, дружески указал мне на ошибку и велел быть внимательнее. Хорошо еще, что Боб заметил, а то срезали бы лишнее и в цехе получился бы брак. Я теперь до того боюсь чего-нибудь напутать, что почти всегда тщательно проверяю чертежи, прежде чем передать их Бобу. Но рано или поздно я наверняка еще что-нибудь навру, никто этого не заметит, и не успею я и глазом моргнуть, как меня вызовут на завод и покажут груду железного лома стоимостью, может, в несколько сот фунтов. Вот уж тут мне не поздоровится.
Я почти уверен, что Хэссоп тоже взял меня на заметку. Обернешься, а он тихонечко подкрался и стоит у тебя за спиной – маленький, рыжий, – смотрит сквозь свои простые круглые очки и дышит смрадом, ну прямо хоть беги. Волос на голове у него почти не осталось, зато они в избытке торчат из носа. Ходит он всегда в голубовато-серых костюмах, не новых, но и не старых – должно быть, влезает в костюм, носит, пока он не залоснится, а потом покупает другой, точно такой же. Хэссоп никогда не повышает голоса, иной раз прямо хочется, чтобы он взбесился и отлаял тебя как следует, но этого не бывает. Если он уж очень рассердится, то лишь побелеет – и все, но язык никогда не распускает, разве что прикрикнет на какого-нибудь ученика. Духу у него, не хватает – вот в чем дело, и все за это презирают его. Но виду не подают, потому что за спиной Хэссопа стоит мистер Олторп, а это птица совсем другого сорта. Вот уж кто умеет поддать жару – пошлет ко всем чертям и не постесняется. По-этому все уважают его, хоть, может, и не любят так, как, например, Миллера.
Вот я и думаю, что, если дело у меня и дальше так пойдет, придется мне рано или поздно предстать пред светлые очи Олторпа. И видно, мне этого не миновать, потому что не могу я не думать об Ингрид. А все из-за неизвестности. Вот если бы я знал, как я котируюсь…
III
Сначала берется старый нож (я обычно пользуюсь сломанным ножом, которым наша Старушенция чистит картошку) и соскабливается вся грязь или отбивается, если она наросла комом под каблуком. Затем в ход пускается жесткая щетка – поработал ею как следует, и можно накладывать крем. (Вообще-то при этом полагается вытаскивать шнурки, но мне, как правило, бывает лень, даже сегодня, хотя сегодня я стараюсь, как никогда. Я люблю чистить ботинки, особенно если какая-то мысль не дает мне покоя, потому что, когда руки заняты, легче думается, а бывает и наоборот, работа отвлекает от мыслей. Мне нравится брать крем на тряпочку, смазывать ботинок и потом наяривать его щеткой, наяривать до исступления, пока он не приобретет глянец и не начнет блестеть, а потом пройтись по нему бархоткой, чтобы носок стал как черное зеркало. Сегодня я начищаю ботинки, потому что иду развлекаться, но и подумать мне есть о чем; время от времени я прерываю работу и все твержу себе, что это не сон и что я – это я.
Произошло это в тот день, когда я одолжил у Ингрид денег на проезд. После обеда мне сильнее, чем когда-либо, стало казаться, что старик Хэссоп нацелился на меня, а когда он без десяти пять возник у моей доски и заявил, что чертеж, над которым я начал трудиться еще за неделю до рождества, должен быть готов к утру, у меня уже не осталось сомнений, что он решил меня поприжать. Значит, придется торчать тут допоздна, и все шансы увидеть Ингрид по пути домой летят к черту. Но делать нечего – чертеж надо кончать независимо от того, в самом ли деле он нужен Хэссопу или ему просто взбрело в голову меня задержать, и я принимаюсь за дело, надеясь, что это не займет у меня много времени. В бюро полно работы, и обычно две-три группы задерживаются по вечерам. Но сегодня – первый рабочий день после праздников, и никому неохота торчать тут, а потому все сматываются ровно в половине шестого. Только слышно, как щелкают кнопки настольных лампочек – это мои коллеги по одному, по двое покидают помещение. Мимо проходят копировщицы – зал наполняется запахом пудры и щебетом девичьих голосов, произносящих по пятьдесят слов в минуту. Без двадцати шесть в помещении остаюсь только я да ещё Хэссоп с Миллером – они всегда уходят последними. Без пяти шесть я снимаю с доски чертеж и несу его в кабинет Хэссопа. Проходит еще пять минут, пока он рассматривает его и придирается то к одному, то к другому, то к третьему. И наконец я свободен.
Свет в коридорах притушен, и до меня доносится громыханье ведер уборщиц. Спускаюсь вниз и уже толкаю тяжелую входную дверь, как вдруг за спиной у меня, в коридоре, раздается стук высоких каблучков. Верно, я уже стал полным психом, потому что сразу узнаю, кто это, и сердце у меня начинает трепыхаться. Поворачиваюсь, и она улыбается мне, словно очень рада меня видеть.
– Нам с вами по пути, – говорит она.
Я открываю дверь и пропускаю ее вперед – она проходит, обдав меня запахом духов. Мы желаем спокойной ночи дежурному и выходим на асфальтированную дорожку. Мне кажется, что Ингрид чем-то раздосадована.
– Некоторые люди, – говорит она, – ну, просто ни о чем не думают: все уже уходят домой, а они, видите ли, только тут вспоминают, что им надо продиктовать письмо.
– Ну, я смотрю, у вас и начальничек! – говорю я.
– О, еще какой!
– Кто же это?
– Лесли Фелтон… Можно подумать, что у некоторых людей нет дома и им некуда деваться. Хотя, конечно, нашего Фелтона винить довольно трудно – при такой-то жене…
– А что же у него за жена?
– О, сущая ведьма. Неужели не знали? Я думала, это всем известно…