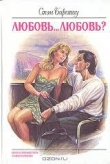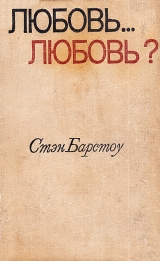
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Я смеюсь.
– Ладно, ладно… – И снова мне хочется петь и кричать. Все чудесно, и мы великолепно ладим. – А за какого же парня вы намерены выйти замуж? За такого, который, вроде вашего папаши, будет все время отсутствовать?
– Боюсь, что нет. Я хочу такого мужа, который был бы всегда при мне. Авось не надоест.
Значит, она хочет того же, что и я: жить вместе, смеяться, любить – и так каждый день. Как же это, должно быть, чудесно, если, конечно, вытащишь счастливый номер.
– Ну что ж, подождите, может, такой и подвернется. А может и так случиться, что это будет моряк или еще кто-нибудь в таком роде.
– А откуда вы знаете, что он уже не подвернулся? – говорит она, и я быстро вскидываю на нее глаза, не понимая, как к этому отнестись.
– Что же вы в таком случае делаете здесь со мной?
– Возбуждаю его ревность, – говорит она.
– Понятно. Он большой, высокий?
– Не сказала бы. Но он хорошо сложен.
– И умеет орудовать кулаками?
– Право, не знаю. Думаю, что он способен постоять за себя.
– М-м-м. – Я приподнимаю шляпу и делаю вид, что хочу повернуть обратно. – В таком случае спокойной ночи.
Она смеется.
– Пошли-пошли, я не дам вас ему в обиду.
Все это время мы шли по проспекту, окаймленному частными особняками, – он ответвляется от главного шоссе, которое ведет к Гринфорду мимо Кресслийской пустоши. И вот перед нами ворота из кованого железа, с гербами и завитушками, а рядом боковая калитка – вход в Рейвенснукский парк. Калитка открыта, и Ингрид предлагает зайти в парк. Мы проходим мимо сторожки, погруженной в темноту, и идем дальше по одной из широких асфальтированных аллей, по обеим сторонам которой тянутся пустые клумбы и стоят высокие деревья.
– А что вы подумали, когда я вчера не появилась? – немного погодя спрашивает она.
– Я просто не знал, что и думать.
– Неужели вам не пришло в голову, что меня могли где-то задержать?
– Такая мысль у меня была.
– Не могли же вы, в самом деле, решить, что я согласилась прийти на свидание, а потом нарочно не пришла?
– Такие случаи бывали, верно?
– Значит, вы меня совсем не знаете, если думаете, что я могла так поступить, – говорит она, и в голосе ее слышится холодок.
– Но ведь я действительно совсем вас не знаю, правда? Мы же были вместе всего три раза. А вдвоем – так только два. Когда в тот раз вы появились с Дороти, я…
– Но ведь я же говорила вам, что не приглашала ее. Просто она иной раз заглядывает к нам по воскресеньям и остается пить чай. Я ее вовсе не ждала, а когда она пришла, я ничего не могла ей объяснить, пока мы не вышли из дому, а тогда уже невозможно было от нее отделаться – она бы обиделась. Такой уж у нее характер. Вбила себе в голову, что должна непременно посмотреть на вас, и все. Она мне сказала, что побудет с нами всего пять минут и уйдет.
Ну вот, теперь все ясно. И мы как бы начинаем все сначала, забавно только, что благодаря Дороти события развиваются куда стремительнее. Вот бы она взбесилась, если б могла это предвидеть!
– Ну, а что было потом, вы сами знаете, – говорит Ингрид. Да, знаю. Но куда меньше половины. Не пойму, выговаривает она мне, что ли, за тот вечер или это мне кажется. Очень может быть, что и так, и, наверно, она права; сейчас у меня такое настроение, что я могу думать даже о Дороти без отвращения.
– Понимаете, я вовсе не собирался на нее набрасываться, но вынести эти ее намеки тоже не мог. Особенно после наших двух встреч. Ну, я и вспылил, а когда вчера вы не пришли, я решил, что все кончено. Я подумал, что вы не хотите больше меня видеть, а сказать мне это в лицо стесняетесь.
– Но ведь все же было не так! – восклицает она. – Теперь вы понимаете, как может возникнуть недоразумение? Хорошо, что я придумала написать письмо, а то трудно даже представить себе, что было бы.
– Я могу сказать вам, что именно, – говорю я. – Я бы вас больше никогда не побеспокоил.
Из темноты возникают очертания раковины для оркестра, похожей на большой причудливый торт. Я говорю: «Давайте посидим» – и веду Ингрид за угол на боковую дорожку, где ранним летом цветет огромный куст рододендронов – там, я знаю, есть скамейка.
– А вам было бы неприятно, если бы я больше не назначил вам свидания? – спрашиваю я, и она, словно застеснявшись, произносит только:
– А как вы думаете?
Я молчу и обнимаю ее за плечи. Она придвигается ко мне, и я думаю: «Чудно все-таки, какая малость может все изменить – вот ты безразлично трусишь по жизни день за днем, и вдруг она начинает казаться тебе совершенно удивительной…»
– Что это у вас в кармане? – спрашивает она.
Я снимаю с ее плеч руку и выпрямляюсь.
– Книжка.
– Такое впечатление, точно кирпич.
Вынимаю книгу из кармана и верчу ее в руках.
– Это «По ком звонит колокол». Читали?
Господи, конечно нет, говорит она, где там читать книги. Она получает три еженедельных журнала, и даже на них из-за телика времени не хватает. Почему-то не люблю это слово – «телик». В воображении сразу возникают тучные невежды, которые кудахчут, словно куры, слушая остроты вроде тех, что печатают на цветных открытках, насчет толстопузых личностей, ночных горшков и тому подобного. Ну, вы знаете. Вот почему я верчу в руках книгу и молчу. Я всегда испытываю приятное ощущение просто оттого, что держу книгу, – кажется, что это что-то стоящее, непреходящее. Не то, что телевизор, который можно включить и выключить, повернув ручку, совсем как водопроводный кран. Жаль, думаю я, что она не любит читать: ведь это значит, что мы никогда не сможем обсуждать книги, которые мы оба прочли, или советовать друг другу, что прочесть.
– По этой книге был поставлен фильм, – говорю я ей, просто чтобы что-то сказать. – С Гарри Купером и Ингрид Бергман.
– Моей тезкой.
– Что?
– Я имею в виду Ингрид Бергман. Ведь меня назвали в ее честь. Мама одно время была без ума от нее. От нее и от Лесли Ховарда. Если бы я была мальчиком, меня, наверно, назвали бы Лесли.
– Я как раз думал, что у вас странное имя для англичанки, – говорю я. – И собирался спросить, почему нас так зовут.
– По-моему, совсем не странное. Мне оно нравится.
– Странное не в смысле «плохое». Я хотел сказать, что оно необычное.
– А вы бы предпочли, чтобы меня звали Мэри, или Барбара, или еще как-нибудь в этом роде?
– Дороти, – говорю я. – Вот имя, которое мне очень нравится.
Она шутливо подталкивает меня в бок локтем и улыбается:
– Да ну вас!
Я смеюсь и сую книгу в другой карман.
– Все равно вы мне нравитесь такая, как вы есть, – говорю я ей.
Минута молчания, потом она говорит:
– Правда, Вик? Честное слово?
Мне хотелось бы сказать ей, что я люблю ее, что я от нее без ума, но я не могу бухнуть это так, сразу, и я говорю только:
– Наверно, я не бегал бы за вами, будь это иначе, правда?
– Пожалуй, нет.
Я снова обнимаю ее за плечи; она придвигается ко мне совсем близко, и я чувствую ее волосы на своем лице. Я поворачиваюсь, и губы мои касаются её щеки, а секундой позже я уже покрываю ее лицо быстрыми короткими поцелуями – все лицо, все: лоб, щеки, глаза, нос и, наконец, рот. Я снова и снова целую ее губы, едва касаясь их губами, словно одного долгого поцелуя мне было бы недостаточно. И между поцелуями снова и снова шепчу ее имя.
Потом мы разжимаем объятия, чтобы передохнуть.
– Уф! – произносит она с легким смешком. – Все-таки плохо быть девчонкой, – говорит она немного погодя. – А вдруг вы бы не заговорили больше со мной после того воскресенья! Сколько времени могло бы пройти, прежде чем мне удалось бы дать вам понять, что я хочу с вами встречаться.
– Ох уж эта Дороти! Она чуть нам все не испортила.
– А знаете, она бы, наверно, не возражала. Хоть она и моя подруга, а все же стервозная она девка. И такая завистливая! Понимаете, завидует мне, потому что я встречаюсь с вами. В этом-то и беда ее, что она завистливая.
– А почему бы ей самой не завести себе приятеля? – говорю я с легким сердцем, потому что у меня есть Ингрид, а Дороти я могу великодушно предоставить всякому, кому охота.
– Она утверждает, что не любит мужчин. Во всяком случае, делает вид, будто она выше всего этого.
– Неужели никто никогда не назначал ей свидания?
– По-моему, нет.
– Тяжелый случай.
– Дело в том, что она не очень привлекательна, правда? Ну, если говорить по-честному, вы же тоже не находите ее привлекательной, правда?
– Я нахожу вас привлекательной, – говорю я, а сам у думаю, что уже хватит нам сидеть порознь.
И мы снова целуемся – на этот раз долго, неотрывно, и я весь таю, и мне кажется, что я сейчас умру от нежности к ней. Теперь уже мы не разжимаем объятий, а сидим, прижавшись друг к другу, и я осторожно провожу пальцами по ее лбу, по щеке и опять приникаю к ее губам. Она умеет целоваться, и это так возбуждает меня, что я прижимаю ее к себе все крепче и крепче – уж крепче быть не может. А мысли у меня скачут: ведь если она целует меня так, значит, как бы дает мне зеленый свет и разрешает пойти дальше, но я не уверен, что это так. А вдруг я все испорчу, оскорбив ее. Мы снова целуемся, и снова это восхитительное ощущение от движений ее языка, и я думаю: да нет, вроде все в порядке, ошибки быть не может, она сочтет меня слюнтяем, если я ничего не предприму. Я просовываю руку под борт ее пальто, и она слегка изгибается, чтобы мне удобнее было. Вот я уже нашел пуговицы ее блузки, но тут – стоп: под блузкой настоящая сбруя и где там что, ничего не поймешь. Она что-то бормочет, отодвигается от меня и сама спускает с плеча бретельку. Потом снова придвигается, шепчет: «Ну вот», и моя рука уже на прежнем месте, и я чувствую под пальцами шелковистую кожу и упругий сосок, и все внутри у меня тает от нежности к ней. «Боже мой! – шепчу я. – Я без ума от тебя, Ингрид!» Пальцы ее сплелись у меня на затылке, зарылись в мои волосы, и она все снова и снова повторяет: «Вик, о Вик!» А я думаю о том, что ради этого стоило родиться, что этой минуты я ждал всю жизнь – с тех пор как себя помню. И это еще не все, потому что позже, когда рука моя перебирается ниже, я чувствую, что и она испытывает то же, что и она ждала этой минуты; она вздрагивает при моем прикосновении, вздыхает и замирает в моих объятиях, а я люблю ее так, как можно любить только в мечтах.
А потом она, видно, задумывается и, прильнув к моему плечу, шепотом спрашивает:
– Вик, а, Вик, скажи, ты не считаешь меня слишком доступной?
– Почему?
– Ну, из-за того… что сейчас произошло?
– Ты не должна никогда так думать, – говорю я ей. – Никогда. – И снова покрываю ее лицо поцелуями – каждый квадратный дюйм ее лица, потому что я хочу, чтобы она почувствовала, как я благодарен ей, как люблю ее, а после сегодняшнего вечера стал любить еще больше.
Домой я возвращаюсь поздно. Старушенция поджидает меня: стоя спиной к камину, она заводит будильник. Старик, видимо, уже лег спать.
– Хорош, – говорит Старушенция, а я останавливаюсь на пороге, зажмурившись от яркого света.
– А что такое?
– Его пригласили на чай, а он взял и удрал. И что только подумал Дэвид.
– Он что-нибудь сказал?
– Это же воспитанный человек. Тебе бы поучиться у него, как себя вести.
– Я ведь сказал Крис. И она не возражала.
– Ну, наша Кристина вечно тебя покрывает. Да и что, собственно, она могла сказать? Не держать же тебя силой, раз ты заявил, что уходишь.
Я сажусь в кресло и расшнуровываю ботинки. Чувствую, что лицо у меня красное, щеки горят, но я крепко сжимаю губы, чтобы не испортить сегодняшний вечер.
– Постыдился бы, – говорит Старушенция.
– Послушай, – говорю я, – ведь я был приглашен на чай к собственной сестре, а не в Букингемский дворец. На чай. Значит, я вовсе не обязан был сидеть там до ужина.
Старушенция берет с камина свою чашку и допивает остатки чая.
– Когда тебя приглашают к чаю, – не отступается она, – это не значит, что ты должен бежать из дому, как только встали из-за стола.
– Опять ты, как всегда, преувеличиваешь. Во всяком случае, я объяснил все Крис, и она не возражала.
– Что же ты объяснил? А я вот даже не знаю, где ты был, по какому такому важному делу.
Я встаю и, повернувшись к ней спиной, выуживаю свои ночные туфли из-под стула.
– У меня было свидание.
– С девицей?
– Да.
– Но ты еще две недели назад знал, что сегодня мы к идем к нашей Кристине.
– Мы должны были встретиться вчера, но произошла небольшая путаница, и пришлось отложить встречу на сегодня.
– А мне казалось, ты говорил, что вчера вечером был где-то с приятелем?
– Я и был. Я же сказал тебе, что произошла путаница.
– Что-то это для меня слишком мудрено, – говорит она. – Все какие-то тайны.
Я чувствую, что помимо воли начинаю свирепеть. Ну, зачем она все портит? Знай она, что произошло сегодня в парке, можно себе представить, как бы она все опошлила, загрязнила, а ведь ничего пошлого и грязного не было. Я надеваю домашние туфли, не поднимая головы, но чувствую, что она наблюдает за мной.
– А я знаю эту девицу?
– Нет.
С минуту она молчит, потом произносит каким-то странным, неестественно тоненьким голоском:
– Надеюсь, ты расскажешь то, что мне положено знать, когда придет время.
– Что у нас на ужин?
– В хлебнице лежит батон. Можешь приготовить себе чашку какао. А я иду спать.
– А молока у нас много?
– Достаточно.
– Тогда я выпью стакан молока.
– Оставь только нам с отцом к завтраку. – Она направляется к двери, держа в руке будильник, который тикает в тишине, как метроном. – Пожалуйста, не сиди долго и не забудь выключить свет.
Я иду на кухню, нахожу батон, разрезаю его вдоль и густо намазываю маслом. Интересно, почему Старушенция не стала расспрашивать меня подробнее об Ингрид? Поразмыслив над этим, я прихожу к выводу, что в глубине души она была даже рада, узнав, что я ходил куда-то с девушкой.
Беру батон, молоко, возвращаюсь в гостиную и сажусь у огня. Вся беда в том, что, в общем-то, мне и самому это начинает казаться пошлым и грязным. Ведь об этом даже говорить не положено, просто так уж повелось испокон веков, и надо, чтобы продолжался род человеческий, однако людей, которые занимаются этим ради удовольствия, ставят на одну доску с пьяницами и картежниками. Такие мысли невольно приходят мне в голову, хоть я и знаю, что это неправда, во всяком случае у Крис с Дэвидом, да и у меня с Ингрид это не так.
Глава 6I
На следующее утро Хэссоп уже появился на работе – несколько раньше, чем мы предполагали, и, безусловно, раньше, чем нам хотелось.
– А я-то думал, что мы еще недельку поживем спокойно, – говорит Джимми, глядя вслед нашему боссу, который только что прошел через зал к себе в кабинет и захлопнул за собой дверь. – Разве по словам его сестры нельзя было этого предположить?
– Наверно, это было в конверте, – говорю я и ухмыляюсь.
Ну, не все ли мне равно, вернулся Хэссоп или нет? Я счастлив, и это главное. А старина Хэссоп – не такой уж он плохой. Он знает свое дело, и если иногда бывает не очень приятным, так на то он и босс. У него свои заботы… Взять хотя бы эту его сестрицу… Если б мне пришлось жить с такой придурковатой теткой, я бы, может, тоже кидался на всякого встречного. А я, как я уже сказал, счастлив. Сегодня утром я не разговаривал с Ингрид, но один вид ее ног, мелькнувших где-то впереди, в тумане, сразу воскресил в моей памяти все, что было вчера, и я подумал о том, какой же я счастливый-рассчастливый пес. И все люди сразу показались мне такими хорошими. Я даже обнаружил какие-то симпатичные черточки в этом грубияне Конрое. Во всяком случае, так было до обеденного перерыва…
А потом, перед самым звонком, мы стояли группой человек в пять возле входной двери, у шкафа, где хранятся чертежи, и чесали языки. Кто-то произносит имя Конроя; в эту минуту дверь распахивается и входит сам Конрой.
– Кто это болтает обо мне? – спрашивает он. – Кто тут произнес сейчас мое имя?
Это был не я, но меня словно за язык кто дергает: на ум пришел хлесткий ответ, и просто обидно промолчать.
– Я, – говорю. – Рассказывал ребятам, что купил свинью и не могу придумать, как бы ее назвать.
Позади меня кто-то крякает от хохота, и на всех лицах появляются улыбки – на всех, кроме лица Конроя. Он секунду смотрит на меня, окаменев от бешенства. «Ах ты… паскуда… щенок…» И, раздвигая окружающих, движется прямо на меня. Я стою. Я вовсе не хотел затевать с ним ссору – особенно сегодня, когда у меня на душе так хорошо, но, видно, рано или поздно это должно было случиться. Сердце у меня колотится как сумасшедшее: я чувствую, что драки не миновать, но отступать – да еще при свидетелях – я не намерен.
Я знаю: единственный путь к спасению – ближняя схватка, а потому приседаю, увертываюсь от удара Конроя, метившего мне в голову, и, ринувшись вперед, обхватываю его за пояс. Покрытый линолеумом пол со стремительной быстротой надвигается на меня, и я падаю, увлекая за собой Конроя. Мы катаемся по полу, ударяясь о шкаф с чертежами. Я задеваю ухом за ручку одного из ящиков и чуть не вскрикиваю от боли, да еще Конрой, стараясь вырваться из моих объятий, чтобы как следует отдубасить меня, умудряется то и дело дать мне пинка по голове. Словом, я уже чуть не плачу и странно боюсь, что вот-вот не выдержу и зареву у всех на глазах. Я извиваюсь и вытягиваю шею, чтобы Конрой не мог дотянуться до моей головы, и тут вижу прямо перед собой жирную ляжку, обтянутую брючиной. Не раздумывая над тем, дозволенный это прием или недозволенный, я впиваюсь в нее зубами и кусаю изо всех сил.
Ну, теперь все в порядке. Конрой издает отчаянный рев, ноги его взвиваются в воздух, и он выпускает меня. Он стоит на коленях, держась обеими руками за низ живота, и причитает: «Что же теперь будет? Что же теперь со мной будет?»
Все помирают со смеху – кроме меня. А я смотрю на Конроя и пытаюсь сообразить, неужели я ему действительно что-то повредил; я ведь совсем этого не хотел и думал, что укусил его в ляжку, да только он видно, повернулся.
Дверь распахивается, в зал входит Хэссоп. И замирает при виде Конроя, который все еще стоит на коленях, держась за низ живота, и стонет. Я поднимаюсь на ноги, а все вокруг покатываются со смеху. Но конечно, смех разом смолкает, как только они видят Хэссопа, а он смотрит на Конроя, который теперь вроде бы стоит перед ним на коленях и молит его о чем-то.
– Что тут происходит? – спрашивает Хэссоп. Конрой поднимает на него глаза и тут же отводит взгляд, не произнеся ни слова. – Вы что, дрались, Браун? – спрашивает Хэссоп уже у меня.
– Просто немного валяли дурака, мистер Хэссоп, – говорю я.
Отряхиваюсь, а сам наблюдаю за ним – он стоит, весь белый: должно быть, подбирает слова, чтобы как следует на нас наорать. Но не орет. Нервный тик пробегает у него по лицу, и он говорит:
– Ну, здесь для этого не место и не время. Займитесь-ка делом, и чтоб больше этого не было.
И он удаляется к себе в кабинетик, а Конрой встает, идет к своей доске, взбирается на табурет и застывает, опустив голову на руки. Я с минуту смотрю на него, потом подхожу:
– Слушай, у тебя все в порядке, Конрой? – спрашиваю я.
– Проваливай, – рычит Конрой, не поднимая головы.
Я возвращаюсь к себе и принимаюсь за работу. Но время от времени все же поглядываю на него: а вдруг я и в самом деле что-нибудь ему повредил. Правое ухо у меня саднит потом весь день.
Если мы думали, что все на этом и кончилось, то глубоко ошибались. На другое утро Хэссоп останавливается против Конроя и говорит:
– Мистер Олторп хочет видеть вас, Конрой. И вас, Браун.
Конрой поднимает свою большую голову, долго смотрит в упор на Хэссопа, потом слезает с табурета и шагает к двери. Я – за ним.
– Ты, конечно, понимаешь, что это значит? – спрашивает он, когда мы выходим в коридор. – Наш друг Хэссоп снова занимался доносами. У него не хватает духу самому нас взгреть, так он передает эту грязную работенку Олторпу.
– А что мы ему скажем? – спрашиваю я. Удастся ли нам наскоро придумать что-либо пристойное?
– Можешь не волноваться, – говорит Конрой. – Я немного знаю Олторпа: он нам даже слова вставить не даст.
Останавливаемся перед массивной дверью, на которой золотыми буквами выведено: «Главный инженер».
– За этим порогом, – говорит Конрой, – владычествуют две тысячи в год… Пошли.
Он стучит в дверь и прикладывает к ней ухо. Какая-то машинисточка трусит мимо и оглядывает нас с головы до ног. Я подмигиваю ей, хотя настроение у меня сейчас далеко не такое, чтобы подмигивать. Из кабинета доносится громкий возглас, Конрой поворачивает ручку, и мы входим.
Мистер Олторп – крупный мужчина с гладко зачесанными седыми волосами, они блестят при свете, падающем из большого окна за его письменным столом. Он кончает диктовать. Отпускает стенографистку, и она, подхватив свои карандаши и блокнот, проходит по ковру к двери в соседнюю комнату. Мистер Олторп достаёт сигарету из пачки «Плейерс», лежащей на столе, и закуривает. Еще только одиннадцать часов, а большая пепельница уже полна окурков и обгоревших спичек. Он жестом велит нам подойти поближе, снимает большие очки, кладет их на стол и смотрит на нас так пристально, что я теряю всякое присутствие духа.
– Послушайте, вы двое, – говорит он наконец. – Я слышал, вы на работе играли в чехарду. А потом катались по полу и тузили друг друга?
Наверно, нам надо что-то сказать, но я предоставляю это Конрою, а он молчит как немой, и я устремляю взгляд в окно, за спиной мистера Олторпа, и наблюдаю за ярко-желтым грузовиком, который свалил груз и, задрав вверх рогатины разгрузочной лебедки, похожие на огромные ноги циркового клоуна, едет по двору.
– Чтоб этого больше не было, ясно? – заявляет мистер Олторп и изо всей силы ударяет ладонью по столу, так что я подпрыгиваю на целый фут. – Если у вас возникают споры и вы хотите решать их таким путем, будьте любезны делать это за пределами нашего бюро. Здесь я этого терпеть не намерен. Вы приходите сюда работать, так и занимайтесь делом. За это вам платят деньги, а если вас это не устраивает, забирайте свои вещички и мотайте в другое место. Я не желаю, чтобы мое бюро превращалось в обезьяний питомник. Если бы я в молодости вел себя так, меня безо всяких предупреждений выставили бы на улицу. Но в те времена мы ценили свою работу – тогда получить место было не так-то просто.
Теперь я смотрю на галстук мистера Олторпа – аккуратно повязанный, синий в белый горошек. Интересно, буду ли я когда-нибудь сидеть за большим столом, получать две тысячи в год и отчитывать двух парней за драку на работе. Я вспоминаю потом, что в ту минуту ничуть не дрожал за свое место.
– Вы-то уж достаточно взрослый, – говорит тем временем Олторп, обращаясь уже только к Конрою. – Вам, во всяком случае, можно было бы и не разъяснять всего этого, и вы, старшие, должны были бы подавать пример таким, как Браун. У меня нет жалоб на вашу работу, Конрой. У вас хороший технический ум, и мы всегда возлагали большие надежды на ваши способности. Так что пора бы вам повзрослеть.
Он переводит взгляд на меня, и я чувствую себя как бабочка, которую накололи на булавку и пришпилили к стенке.
– А вот о вас, Браун, я не могу того же сказать, – говорит он. – Последнее время мистер Хэссоп не очень доволен вашей работой. Когда вы поступили к нам, вы казались многообещающим парнем, но сейчас не стараетесь зарекомендовать себя с лучшей стороны. В чем дело? Или может быть, ваши мысли заняты какой-нибудь девчонкой, а не тем, что лежит у вас на чертежной доске?!
Я краснею и открываю было рот, чтобы ему ответить, но тут же закрываю его, потому что он не дает мне слова вымолвить.
– Наведите-ка порядок в своих мыслях и займитесь делом, если хотите работать у нас. – Тут он берет очки и надевает их. – Я не знаю, из-за чего произошла эта драка, и не желаю знать. Но чтобы больше я об этом не слышал.
Он упирается взглядом в бумаги, и я понимаю, что разговор окончен. Однако едва я успеваю подумать, что все сошло благополучно и надо поскорее убираться отсюда, как старина Конрой, который до сих пор молчал, словно воды в рот набрав, произносит нечто такое, отчего холодок бежит у меня по спине, а мистер Олторп снова снимает очки.
– Что такое? – спрашивает он.
– Я сказал, что не понимаю, почему вокруг этого подняли такой шум, – говорит Конрой. – Подумаешь, люди поспорили у себя в бюро! Разве нельзя было и разобрать это в бюро, а не выносить сюда?
Собственно, это все равно, что назвать Хэссопа наушником… Я вижу, как лицо мистера Олторпа наливается краской и глаза вылезают из орбит; он швыряет на стол очки и встает, опираясь на руки.
– Вы, что, решили учить меня, как мне обращаться со своими служащими, Конрой?! – говорит он. И начинает все сначала и говорит все то, что уже сказал, и даже куда больше, только на этот раз сдабривает это такими словцами, что я то и дело отвожу глаза и жалею, что не могу провалиться сквозь землю, до того мне неловко. Слышать эти слова от него мне так же неприятно, как если бы на его месте был наш Старик. Может, он думает, что другого языка мы не понимаем, но мне кажется, что человек, занимающий такое положение, как мистер Олторп, не должен так выражаться, и я знаю, что никогда больше не смогу относиться к нему с прежним уважением. В какую-то минуту я бросаю украдкой взгляд на Конроя и вижу, что он стоит, поджав губы, и все, что говорит Олторп, для него пустой звук.
– А теперь убирайтесь, – говорит Олторп, – пошли вон оба.
Он опускается в свое кресло и снова протягивает руку к очкам.
Когда мы выходим в коридор, Конрой бранится на чем свет стоит. Он чуть на стену не лезет от ярости. Что же до меня, то я дрожу с головы до пят, и сердце у меня бешено колотится.
– О господи, – говорю я, – мне хотелось провалиться сквозь землю, когда он начал садить непечатными.
– Грамотный малый, ничего не скажешь! – замечает Конрой. – Надо отдать ему справедливость: не боится крепкого словца и не стесняется говорить, что думает.
– Знаешь, я считаю, что это все из-за меня: ведь это я тебя поддел.
– Нет, виной всему Хэссоп. Так бы и вышиб все его желтые зубы! Доносчик, гадина!
Я смотрю на Конроя, и – вот уж чего бы никогда не подумал – он начинает мне даже нравиться. Я знаю, что никогда не забуду, как он держался перед Олторпом.
– Ты уж извини меня, Конрой, за то, что я тебя укусил, – говорю я ему, – но больно крепко ты меня колошматил.
– Да ладно, забудем об этом, – бурчит он. – Просто мне показалось сначала, что ты меня всерьез изувечил. Ну, теперь, по-моему, мы квиты. Я ведь тогда здорово разозлил тебя тем, что проехался по адресу той девчонки… Но долго видеть здесь мою физиономию тебе не придется, можешь мне поверить. Больше я такой душ принимать не желаю. Да будь я проклят, если я останусь здесь и позволю, чтобы меня распекали, как мальчишку за прогул.
И он распахивает дверь, со всего маху ударив по ней ладонью. Пружина резко возвращает ее обратно, и я едва успеваю подставить руку, чтобы она не ударила меня по лицу. Конрой идет по проходу и останавливается возле Уимпера. Это маленький чертежник средних лет, безответный работяга – из тех, что готовы всю жизнь гнуть спину за гроши.
– Где у тебя «Манчестер гардиан»? – спрашивает Конрой намеренно громко, чтобы все слышали.
– Не беспокойся, я сразу же дам тебе ее в обеденный перерыв, – говорит Уимпер, испуганно взглянув на Конроя.
– На черта мне сдался твой обеденный перерыв, – говорит Конрой. – Я хочу сейчас.
Уимпер пожимает плечами.
– Пожалуйста.
Не глядя, он выдвигает левый ящик и продолжает работу.
Теперь уже добрая половина сотрудников наблюдает за Конроем, а он берет газету, расстилает ее на своей доске и начинает переворачивать страницы, точно он не на работе, а в читальне. Дойдя до полосы, где печатаются объявления о найме, он принимается их читать, водя пальцем по колонкам.
Не проходит и минуты, как Хэссоп начинает что-то подозревать. Он выходит из своего кабинетика и, как всегда, неслышно ступая, приближается к Конрою, а тот на него никакого внимания.
– Вам непременно нужно читать газету во время работы, Конрой? – спрашивает Хэссоп этаким язвительного ироническим тоном, но Конрой продолжает читать, будто его тут и нет. – Я к вам обращаюсь, Конрой, – говорит Хэссоп, начиная выходить из себя.
Конрой поворачивает голову и смотрит на Хэссопа.
– Я ищу работу, – говорит он. – И если здесь ничего не найду, то посмотрю в «Йоркшир пост» и во всех других газетах. – Он уже с трудом сдерживается. – Хватит с меня этой чертовой каторги, Хэссоп. Ухожу я. Я не из тех запуганных работяг, которые в три погибели склоняются над доской, как только заслышат голос хозяина. У меня все-таки шарики работают, и я попробую применить свои способности где-нибудь в другом месте. Думаю, долго искать мне не придется: немало есть фирм, которые плачут по парням со смекалкой. Да и платят они куда больше, чем в этом вашем потогонном бюро!
Вот это он высказался, ничего не скажешь, и все вокруг напряженно прислушиваются, стараясь не упустить ни слова и гадая, что же будет дальше. Ну и напорист же этот Конрой – как бык, думаю я. Ни перед чем не остановится, если его разозлить. Лицо у старины Хэссопа становится белым, как кусок сала, а рот начинает дергаться – так всегда с ним бывает, когда он взбешен.
– Вам придется искать себе работу куда быстрее, чем вы думаете, Конрой, если вы будете так себя вести.
– Можете меня уволить хоть сейчас, – говорит Конрой. – Только сделаете мне одолжение.
На лбу у Хэссопа надувается жила, и на секунду всем нам кажется, что он сейчас велит Конрою явиться за расчетом. Но пора бы нам знать, что у него никогда не хватит духу сделать это в присутствии всего бюро. И он продолжает стоять и стоит на целую минуту дольше, чем следует. Потом сдавленным голосом произносит:
– Я предупредил вас, Конрой. Так что смотрите.
И, повернувшись, возвращается к себе в кабинет.
Конрой провожает его взглядом, пока за ним не закрывается дверь, после чего снова принимается листать газету, то и дело слюнявя кончик пальца.
II
Однажды вечером, вернувшись домой, я слышу: наш Старик у себя наверху практикуется на тромбоне. Надо сказать, что Старик наш – большой мастак по этой части. В свое время его звали в самые что ни на есть хорошие оркестры, но он не принял ни одного приглашения: в Южный Йоркшир он не поехал, потому что забои там слишком глубоки и душны для него, в других же местах ему пришлось бы совсем уйти из шахты и стать чернорабочим на заводе, а денег это давало мало. И поэтому он всегда играл в кресслийском оркестре, который, конечно, не чудо XX века, а просто неплохой второразрядный коллектив. Сам я ни на чем не играю, но оркестр люблю, особенно на марше, и до чего же приятно бывает видеть, как наш Старик шагает по улице, задрав к небу свой тромбон, слышать его резкий звук на фоне остального оркестра.