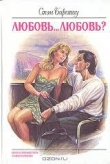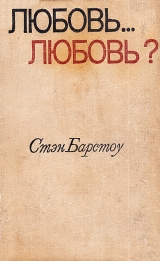
Текст книги "Любовь… любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Одна из добродетелей
Перевод Татьяна Озерская
Часы принадлежали моему дедушке, они висели на крючке у изголовья его постели, в которой он лежал давно-давно, уж и не знаю которую неделю. На циферблате часов были римские цифры, так красиво нарисованные – ну, просто красивее и быть не может. Часы были золотые, тяжелые, да вдобавок еще с роскошной цепочкой, и цепочка тоже была золотая и очень дорогая на вид, а на ощупь такая гладкая-гладкая. Часы, если приложить их к уху, тикали до того четко и ровно, что прямо не поверишь, чтобы они могли когда-нибудь отстать или убежать вперед. В общем, это были самые замечательные часы, и когда я, придя из школы, сидел вечерами возле дедушкиной постели, то глаз не мог оторвать от этих часов и все мечтал, что когда-нибудь и у меня будут такие же часы.
Это как-то вошло у меня в привычку – вечером после чая посидеть немного с дедушкой. Моя мать говорила, что он очень стар и дни его сочтены, и потому мне казалось, что ему уже какое-то неисчислимое количество лет. Он любил, чтобы я почитал ему вечернюю газету; он себе лежит, бывало, а его длинные руки, ставшие совсем белыми и мягкими после того, как он перестал работать, и уж до того исхудавшие от болезни и старости – ну, прямо кожа да кости, – все время беспокойно теребят край простыни, словно он слепец и читает свою слепецкую книгу. Сам-то он не больно много прочел книг на своем веку, а теперь читать стало ему и подавно не под силу. Дедушка мой учился мало, и, может, потому ему казалось, что учение – это самая важная вещь на свете, и его всегда страх как интересовало, хорошо ли у меня идут дела в школе. В тот день, когда я, придя домой, сообщил, что успешно сдал экзамены за начальную школу, дедушка вдруг отколол такую штуку: собрался с силами, уселся на постели и даже закурил.
– Теперь, значит, в среднюю школу пойдешь, так, что ли, Уилли? – сказал он, обрадовавшись, ну прямо как ребёнок.
– А потом в колледж, – сказал я, видя перед собой весь свой будущий жизненный путь прямым как стрела. – А там стану доктором.
– Правильно, а там, глядишь, кто-то станет доктором, мне тоже так думается, – сказал дедушка. – Только для этого кому-то понадобится очень много терпения. Терпения и труда, много труда, Уилли, дружок.
Хотя мой дедушка, как я уже сказал, был не очень-то учен, мне иной раз казалось, что умней его нет людей у нас в Йоркшире, а вот эти два качества – терпение и упорство в труде – он считал самыми рассамыми главными в жизни.
– Ну, что ж, дедушка, – сказал я ему. – У меня хватит терпения и подождать; я своего добьюсь.
– Правильно, Уилли, так ты всего добьешся. Мало-помалу и выйдешь в люди, мой мальчик.
От дыма у него запершило в горле, и он со вздохом положил трубку; мне показалось, что в эту минуту он вздохнул обо всех жизненных удовольствиях, которых был теперь лишен; пальцы его снова беспокойно забегали по краю простыни.
– А время-то уж, верно, позднее, Уилли…
Я снял часы с крючка и подал ему. Он поглядел на них, потом стал их заводить. Когда он отдал мне часы обратно, я минутку подержал их в руке – приятно было почувствовать, какие они тяжелые.
– Верно, кому-то тоже захочется иметь когда-нибудь такие часы, а, Уилли?
Я смущенно улыбнулся. Я ведь совсем не хотел так нахально выклянчивать у него часы.
– Да, может быть, дедушка, когда-нибудь, – сказал я. По правде говоря, мне никак не верилось, что я в самом деле могу хоть когда-нибудь заиметь такие часы.
– Эти часы я получил в подарок, когда пятьдесят лет проработал в одной фирме, – сказал дедушка. – «В знак признательности», – сказали они тогда… Так и написано там внутри, на задней крышечке, хочешь, погляди…
Я открыл часы и прочел: «За верную и преданную службу…»
Пятьдесят лет… Мой дедушка был кузнецом. Как-то не верилось, что эти бледные, почти прозрачные руки держали когда-то огромные клещи или управляли тяжелым молотом, который со страшным грохотом обрушивался на наковальню. Пятьдесят лет… Пять раз столько, сколько прожил я на свете. И вот эти часы – награда за тяжкий труд и преданность этому труду висели у изголовья его постели, в которой он отдыхал теперь от своих трудов, дожидаясь конца, и он с гордостью любовался ими.
Верно, дедушка говорил мне все это отчасти потому, что я еще был очень мал, а он уже очень стар, а отчасти из-за моего отца. Мать никогда не рассказывала мне об отце, и благодаря ее молчанию имя отца было всегда овеяно для меня какой-то тайной, и только беседы с дедушкой немного приподнимали эту таинственную завесу. Мой отец, сказал мне дедушка, был очень способный молодой человек, но была у него, на его беду, одна слабость, Никогда ни на что не хватало ему терпения: не терпелось поскорее заработать побольше денег, не терпелось добиться успеха, не терпелось завоевать авторитет у своих друзей; недоставало у него упорства и настойчивости, чтобы мало-помалу добиваться своего. Он брался то за одно, то за другое, и потому они с матерью частенько не знали, будет ли у них завтра что-нибудь на обед. И вот наконец, когда я еще только учился ходить, мой отец, понося на чем свет стоит эту страну, в которой способному человеку нет никакой возможности развернуться, отправился куда-то на край света, и с той поры о нем не было ни слуху ни духу. Все это дедушка поведал мне без всякой злобы или горечи, потому что он, как я понял, любил моего отца и печалился, что такой хороший человек сбился с пути только оттого, что ему не хватило этакой простой, на взгляд дедушки, вещи, как терпение; а ведь этим он нанес очень тяжелый удар моей матери, дедушкиной дочери, и ей из-за этого туго пришлось в жизни.
Так мой дедушка потихоньку дожидался своего часа, и, когда мне приходят на память беспокойные движения его пальцев, теребивших край простыни, я думаю о том, что в эти минуты, впервые за всю его долгую жизнь, он готов был потерять терпение.
И вот как-то раз вечером в конце лета, когда я уже собрался было пожелать ему спокойной ночи, он потянулся ко мне и взял меня за руку.
– Спасибо тебе, мальчик, – сказал он, и голос его прозвучал как-то уж очень слабо и устало. – И кто-то, думается мне, постарается запомнить то, что я ему говорил?
Эти его слова вдруг очень растрогали меня, и я почувствовал даже какой-то комок в горле.
– Нет, дедушка, – сказал я ему. – Не забуду.
Он ласково похлопал меня по руке, потом отвернулся и закрыл глаза. На утро мать сказала мне, что он умер ночью во сне.
Они положили его на стол в гостиной, где воздух был такой затхлый и сырой, и рядком стояли стулья в чехлах с кисточками, и в люстре горели лампочки под тонкими стеклянными колпачками. Мне позволили подойти и попрощаться с ним. Я пробыл возле него недолго. Мне показалось, что он был почти совсем такой же, каким я видел его десятки раз изо дня в день во время его болезни; только беспокойные пальцы его уже не шевелились больше – они лежали тихо, укрытые простыней, а волосы и усы были такие чистые, приглаженные, словно неживые.
Потом, оставшись один в моей детской комнате, в тишине, я всплакнул немножко, когда подумал о том, что ещё вчера читал ему вслух и разговаривал с ним и что уже никогда не увижу его больше.
После похорон вся родня в полном составе заявилась к нам, чтобы прочесть завещание. Особенно-то спорить было не из-за чего, дедушка никогда много не зарабатывал, и то, что после него осталось, накапливалось долго и бережливо в течение многих лет. Все эти сбережения, включая и стоимость дома, были поделены поровну между всеми; дедушка поставил только одно условие: дом никто не имел права продать; он оставался в пожизненном владении моей матери – ведь забота о нем всегда лежала на ее плечах во время дедушкиной болезни, – и она могла получать с него доход и жить в нем, пока ей самой не надоест или пока она не выйдет замуж снова, что едва ли могло случиться, так как никому на свете не было известно, жив мой отец или умер.
Но вот когда дело дошло до дележа личного имущества дедушки, тут все прямо рты разинули: оказалось, что дедушка завещал свои часы мне!
– А почему, собственно, этому мальчишке Уилли? – недовольно спросил мою мать дядюшка Генри. – У меня тоже двое ребят, и оба постарше.
– И ни один из них, похоже, даже не вспомнил ни разу, что их дедушка, того и гляди, отдаст богу душу, – резко сказала моя мать, которая никогда не лезла за словом в карман.
– Молодежи со стариками и толковать-то не о чем, – пробормотал дядюшка Генри, и моя мать, окончательно выведенная из себя, огрызнулась:
– Ну, а у нашего Уилли всегда было о чем потолковать с дедушкой, и отец, бывало, так-то уж радовался мальчишке, когда другие и глаз к нему не казали.
Стрела попала прямо в цель, то есть в дядюшку Генри, который небольшой был охотник навещать больных. Затеять перебранку – это для нашей родни всегда было плевое дело, и я, сидя на кухне за полуоткрытой дверью и слушая, как они там собачатся, ждал, что, того и гляди, начнется хорошая свара, как водится у нас на севере почитай что в каждой семье. Но Дядя Джон, старший мамин брат, всегда стоял на страже справедливости; он тут же встрял в спор и положил ему конец.
– Ну, хватит! – услышал я его глухой ворчливый бас. – Не успели человека в землю опустить, как они: уже съесть друг друга готовы. – На минутку все примолкли, и я ясно представил себе, как они все там переглядываются. – Я и сам был бы не прочь получить эти часы, – продолжал дядя Джон, – но, думается мне, отец не хуже нас знал, что ему делать, и раз он порешил отдать их этому пареньку Уилли, значит, считаю я, не о чем тут больше толковать.
На том дело и кончилось. Часы достались мне.
Наш дом долгое время казался мне каким-то чужим, когда в нем не стало дедушки, а после вечернего чая я просто не знал куда себя девать, потому что привык полчаса просиживать у его постели. А тут еще эти часы – их вид тоже ужасно действовал на меня. Я по-прежнему любовался на них вечерами, но теперь они висели в кухне возле камина – я сам уговорил мать повесить их туда. Однако дедушка и его часы были для меня чем-то единым, неотделимым одно от другого, и когда я смотрел на часы, а дедушки уже не было больше с нами, я, особенно остро понимал, что он ушел от нас навсегда. То, что часы висели теперь на новом месте, – это было нашей с матерью обоюдной уступкой друг другу. Часы по праву считались моими, но находились пока в распоряжении матери – до тех пор, пока она не сочтет, что я стал уже достаточно взрослым и достаточно осторожным, чтобы мне можно было их доверить. Поэтому мать твердо решила спрятать их до поры до времени куда-нибудь подальше, но я так горячо против этого восстал, что в конце концов она согласилась повесить их в кухне, где они всегда были у меня перед глазами; впрочем, предосторожности ради она прятала их в ящик всякий раз, когда предполагалось, что к нам может заглянуть кто-нибудь из нашей родни. «Эти часы только зря будут мозолить им глаза», – говорила она.
Каникулы окончились, и пришло время, когда я должен был поступить в первый класс средней школы в Крессли. Жизнь моя сразу наполнилась до краев новыми бурными переживаниями и треволнениями. Я с размаху был брошен в бурлящий котел первого школьного класса, которому надлежало что-то и как-то выплавить из каждого из нас, и мне предстояло занять свое место в этом новом для меня содружестве, среди двадцати других, незнакомых мне мальчишек, собранных сюда со всех концов города. В эти первые недели общения друг с другом закладывались основы дружбы, которая порой могла продлиться всю жизнь. Из первых впечатлений каждый из нас составлял собственное мнение о своих сверстниках и в свою очередь получал от них свой ярлык. Ибо первые впечатления оказывались самыми важными, и часто бывало так, что тот из ребят, кто умел с первой минуты понравиться классу, или тот, кому просто случайно в этом повезло, получал преимущество перед остальными, и потом так уж оно и шло до последнего дня пребывания в школе.
Существует немало способов, с помощью которых мальчишка (а иной раз и взрослый человек) может завоевать расположение товарищей и начать верховодить ими. Некоторые из моих одноклассников добивались этого, просто подлизываясь ко всем и каждому; другие избрали для себя совсем противоположный способ и старались мало-помалу с помощью силы подчинить себе весь класс, начиная с самых слабеньких мальчиков и постепенно берясь за более сильных, до тех пор пока не сталкивались с каким-нибудь малым, который был не слабее их. Некоторые привлекали к себе сердца своими спортивными победами, другие же – просто тем, что оставались самими собой и, казалось, не желали прилагать никаких усилий к тому, чтобы завоевать чью-то дружбу. Я никогда не умел легко сходиться с товарищами, и очень скоро они стали считать, что я просто всех дичусь. Если со мной не гнушались разговаривать, я уж и этому был рад.
Среди моих школьных товарищей был один – младший сынок местного зажиточного торговца; у него в шестом классе учился брат, считавшийся первым учеником. Младший же брат старался утвердить свое превосходство, похваляясь разными шикарными вещицами перед нашими завистливыми взорами, и, хотя эти его старания не завоевали ему особой популярности, все же с их помощью он приобрел небольшую свиту и, надо признаться, заставлял говорить о себе весь класс. И мопед-то у Кроули самой новейшей марки со спидометром, с тремя переключениями скоростей, с коробкой передач, с жидкой смазкой и с прочими роскошными приспособлениями. И самописка-то у него с золотым пером и комплектным шариковым карандашиком. И футбольные бутсы у него из самой что ни на есть лучшей кожи, а гимнастические туфли с каучуковой союзкой на носках. Ну, короче говоря, что ни возьми, все у Кроули лучше, чем у других. И так было до тех пор, пока он не заявился в школу с часами.
Он страшно выламывался, все время нахально выставлял напоказ руку с часами, и то и дело проверял – который час. Эти часы его старший брат привез ему откуда-то из-за границы и даже как-то тайком протащил их через таможню. Они с секундной стрелкой, хвастал Кроули, а цифры в темноте светятся, и никто из нас, конечно, сроду не видал таких мировых часов. А я вспомнил тут про дедушкины часы, про мои часы. Ни одни часы на свете не могли идти в сравнение с ними. Сердце у меня отчаянно заколотилось, когда я вдруг сказал, оборвав эту похвальбушку и задаваку:
– Видал я часы и получше.
– Ври больше!
– А вот я тебе говорю, – стоял я на своем. – Это часы моего дедушки. И он перед смертью завещал их мне.
– А ну, покажи эти свои часы, – сказал Кроули.
– У меня их с собой нет.
– У тебя и вообще их нет, – сказал Кроули. – Ну, докажи, что есть, покажи нам их.
Я чуть не заехал ему в его поганую рожу, так взбесил он меня своим наглым ломаньем. Часы достались моему деду за то, что он пятьдесят лет трудился не покладая рук, а этот еще ухмыляется!
– Я принесу часы сегодня после обеда, – сказал я. – Тогда поглядишь!
Я заметил, что в это утро было сделано несколько попыток протянуть мне руку дружбы. Я оказался совсем не одинок в своем желании утереть Кроули нос, чтобы он не мог больше задаваться. Пока стрелка часов медленно ползла к половине двенадцатого, я чуть не рехнулся от нетерпения и с мрачным восторгом упивался мыслью о том, как одним махом собью с Кроули спесь и подниму себя в глазах товарищей. Однако в автобусе, пока я ехал домой, меня начали одолевать сомнения: как, черт побери, уговорить мать? Ведь она нипочем не разрешит мне унесли часы из дому. У меня совсем вылетело из головы, что был понедельник и, значит, в доме стирка, а мать в этих случаях прятала часы в ящик комода, чтобы уберечь их от сырости. Надо было только улучить минутку, когда она выйдет из комнаты, и сунуть часы в карман. Она, конечно, не заметит их пропажи до моего возвращения. Ну, а если и заметит, дело уже будет сделано.
Такое нетерпение сжигало меня, что я не в силах был ждать обратного автобуса и после обеда выкатил мой велосипед из-под навеса. Мать, стоя на пороге кухни, наблюдала за мной, и мне казалось, что ее острый взгляд пронзает насквозь мою спортивную куртку, во внутреннем кармане которой стыдливо тикали часы.
– Ты что ж, хочешь все-таки на велосипеде поехать, Уилли?
– Да, мама, – сказал я, чувствуя себя довольно погано под ее испытующим взглядом, и повел велосипед через двор.
– А ты как будто говорил, что на нем нельзя ездить, – вроде что-то там не в порядке?
– А, пустяки, – сказал я. – Сойдет.
Я помахал ей, на прощание, рукой и выехал на улицу, а она стояла и с сомнением глядела мне вслед. Как только дом скрылся из вида, я что было сил нажал на педали и помчался, как говорится, с ветерком. Дедушкин дом находился в старой части города, и мой путь лежал через целый лабиринт круто спускавшихся вниз мощенных булыжником улиц, тесно застроенных домами. Я летел, не сбавляя скорости, и все во мне дрожало от волнения и ликовало при мысли о часах; я с упоением думал о том, как изничтожу ненавистного Кроули. И тут на особенно крутом спуске маленький щенок-дворняжка выскочил на улицу из подворотни между двумя домами. Я резко нажал на задний тормоз. Цепь лопнула со звоном – та самая, которую я собирался починить. Со всей мочи я нажал на передний тормоз, видя, что глупый щенок припал к мостовой прямо у меня под ногами. Переднее колесо, со скрипом врезалось в мостовую, а заднее взмыло вверх и я, словно камень, пущенный из рогатки, кувырком перелетел через руль.
Какой-то человек помог мне выбраться из канавы.
– Ты не очень расшибся, мальчик?
Я тупо покачал головой. Похоже, у меня все было цело. Я потер колено и бок, на который упал, и рука моя нащупала часы. Сердце у меня сжалось от страшного предчувствия, но, только завернув за угол, я снова соскочил с велосипеда и сунул дрожащую руку в карман. Я поглядел на остатки того, что было когда-то предметом гордости моего деда. Задняя крышечка часов глубоко вдавилась внутрь. Стекло треснуло, и римские цифры как-то нелепо поглядывали друг на друга на исковерканном циферблате. Я спрятал часы в карман и медленно поехал дальше. Несчастье было слишком велико и непоправимо, оно придавило меня.
Я хотел было показать ребятам то, что осталось от моих часов, но передумал. Это было ни к чему. Я обещал показать им самые прекрасные часы на свете, и, какие бы роскошные обломки ни совал я им теперь под нос, ничто мне не поможет.
– Ну, где твои часы, Уилли? – обступили они меня. – Ты привез часы?
– Мать не позволила мне взять их с собой, – солгал я и протиснулся к своей парте, держа руку в кармане и крепко зажав в кулаке останки часов.
– Ах, ему маменька не позволила взять часы! – насмешливо воскликнул Кроули. – Брось заливать-то!
(Погоди смеяться, Кроули, подумал я. Ты у меня еще получишь.)
Но остальные ребята поддержали его. Я был заклеймен трепачом, хвастунишкой, обманщиком. Я не мог их винить, ведь я подвел их, обманул их ожидания.
Прозвенел звонок; я тихонько уселся за свою парту, раскрыл книгу и в ожидании учителя тупо уставился в нее; странное чувство овладело мной вдруг. Насмешки товарищей – это в конце концов было не самое главное, им рано или поздно надоест. Мать, конечно, так рассвирепеет, что об этом страшно было даже подумать. И все же меня мучило другое, и только этим были сейчас полны мои мысли: я видел перед собой старика, моего дедушку: вот он лежит в своей постели после долгих, долгих лет тяжкого труда, пальцы его беспокойно теребят край простыни, и я слышу его слабый голос, когда он повторяет, борясь с одышкой: «Терпение, Уилли, терпение».
И тут я едва не расплакался, потому что это была самая горькая минута в моей мальчишеской жизни.
Игроки никогда не выигрывают
Перевод Татьяна Кудрявцева
В сером свете зимнего дня миссис Скерридж шевельнулась и открыла глаза – пригревшись у огня, она, видно, вздремнула, и сейчас ее разбудили легкие шаги мужа в спальне наверху; она сразу вскочила и при свете огня уже наполняла водой почерневший от копоти медный чайник, когда муж вошел в большую крестьянскую кухню, – его редкие темные волосы были спутаны, узкое острое лицо не брито, а веки набухли от сна, который он разрешал себе по субботам после обеда. Молча, даже не взглянув на жену, он пересек комнату, подошел к очагу и провел рукой по доске над ним в поисках окурка. Рукава его полосатой фланелевой рубашки без ворота были закатаны выше локтя, темно-синий жилет распахнут. Помимо подтяжек, он всегда носил широкий кожаный пояс, который свободно висел на его тощем теле. Был он короткий, кривоногий, и ему пришлось бы подниматься на цыпочки, чтобы увидеть, что лежит на полке над очагом. Пошарив с минуту, он нашел недокуренную «вудбайн» и, скрутив бумажку, сунул ее в огонь, чтобы прикурить. От первой же затяжки он закашлялся и несколько мгновений беспомощно стоял, согнувшись, держась рукой за высокий старомодный очаг, в то время как в горле у него булькало и клокотало. Когда приступ прошел, он сплюнул в огонь, выпрямился, отер слюну с тонких губ тыльной стороной ладони и спросил:
– Чай готов?
Жена отстранила его от очага, поставила чайник на огонь и надавила покрепче, чтобы он лучше стоял на раскаленных угольях.
– Все можно приготовить, – сказала она, – если знать, чего тебе хочется.
Она подняла бумажку, которую Скерридж бросил возле очага, и зажгла висевшую над столом газовую лампу. Газ вспыхнул и загорелся – сначала ярким, потом сумрачным жалким светом, обнажив всю душераздирающую бедность комнаты: квадратный стол на пузатых ножках, выщербленных и исцарапанных за многие годы неосторожными ногами; стулья с торчащими пружинами и прохудившейся грязной обивкой; тонкий потрескавшийся линолеум на сыром каменном полу; в углу, на стене – большое бурое пятно сырости, точно кто-то выплеснул кофейник на грязные обои. Самый воздух в комнате, казалось, был пропитан затхлым запахом сырости и гниения, – запахом, который никакой огонь не в состоянии прогнать.
Скерридж потянулся за утренней газетой и открыл ее на спортивной странице.
– Я бы съел яичницу с ветчиной, – сказал он и сел к огню, поставив острые локти как раз в центре двух проплешин на ручках кресла.
Жена бросила сумрачный взгляд на развернутую газету.
– У нас нет яиц, – сказала она.
Скерридж опустил газету, и его светлые водянистые голубые глаза впервые посмотрели на нее.
– Что значит «нет яиц»?
– А то и значит, что нет. – И она добавила с каким-то угрюмым вызовом: – У меня не было денег на этой неделе, чтоб купить их. Они теперь пять шиллингов шесть пенсов за дюжину стоят. Вот и приходится от чего-то отказываться: не могу я все покупать при таких деньгах.
Скерридж раздраженно пожевал губами.
– О господи, господи! Неужели опять все сначала? То одно, то другое. И куда только ты деньги деваешь – ума не приложу.
– На тебя трачу, – сказала она. – Бог-то – он знает, какие крохи на меня идут. А тебя изволь кормить всегда хорошим. И чтобы все всегда было. Можно подумать, что ты не знаешь, сколько стоит жизнь. А ведь я тебе не раз говорила, что не хватает мне, но все впустую.
– Да разве я не дал тебе полкроны на прошлой неделе? – спросил Скерридж, выпрямляясь в своем кресле. – Разве не дал? Пора бы научиться тратить деньги: ты не со вчерашнего дня хозяйство ведешь.
Она знала, сколь бесполезно с ним препираться, и поспешила, по обыкновению, укрыться за стеной безразличия. Она зажгла газовую конфорку и поставила на нее сковородку.
– Я могу поджарить тебе хлеба с ветчиной, – сказала она, – Устроит?
– Наверно, устроит, раз ничего другого нет! – сказал Скерридж.
Она посмотрела на развернутую газету, и во взгляде ее не было ни ненависти, ни злобы, ни возмущения – лишь тупое безразличие, принятие жизни, как она есть, без всяких чувств и переживаний; очень редко поднимала она голос в знак протеста, да и то лишь потому, что еще не совсем утратила способность представить себе, какою ее жизнь могла бы быть.
Она накрыла Скерриджу на газете в конце стола, и, пока он ел, присела, скрючившись у огня, жуя кусок хлеба с ветчиной, левой рукою стянув ворот рабочей блузы на плоской груди. Лицо у нее было желтое, отекшее; темные, лишенные блеска волосы были стянуты назад и замотаны небрежным узлом на затылке; ноги, некогда составлявшие ее украшение, были обезображены уродливыми синими венами. Только черные как угли глаза и сохранилась от этой некогда хорошенькой девушки, да и то красота их обнаруживалась лишь в те редкие минуты, когда в них вспыхивал гнев. По большей же части они были словно темные окна, за которыми пряталась душа, погруженная в транс, без мыслей и без чувств. Ей было немногим больше сорока пяти, но она износилась и преждевременно состарилась в нескончаемой борьбе со Скерриджем в этом унылом и мрачном доме, который одиноко стоял на холме над Крессли, отделенный целой вечностью от света, шума и тепла, которые несут с собой человеческое веселье.
Скерридж отодвинул тарелку и провел языком по жирным губам. Потом допил чай и поставил кружку на стол.
– С яйцом оно бы, конечно, лучше было, – сказал он. Указательный палец его машинально полез в карман жилета в поисках нового окурка. – Надо экономить, – сказал он. И причмокнул губами, как бы смакуя вместе с жирным хлебом это слово. – Экономить, – повторил он.
– На чем экономить-то? – устало спросила жена, хоть, и не надеялась получить сколько-нибудь разумный ответ. Она уже многие годы урезала себя, сокращая расходы там, где муж меньше всего мог это почувствовать, и сейчас ей оставалось лишь отказаться от самого насущного. Давно прошло то время, когда мелкие радости смягчали тяготы ее существования.
– А я откуда знаю? – сказал Скерридж. – Разве это мое дело? Я свои обязательства выполнил – поработал как следует и денег накопил.
– Ну, и проживаешь их.
– Ну, и проживаю. Что же, я уж и позволить себе ничего не могу, после того как целую неделю гнул спину, а? А как другие справляются? Да многие бабы были бы счастливы, если б имели столько, сколько я тебе даю. – И, поднявшись, он снова принялся шарить по доске над очагом.
– Из десяти женщин девять швырнули бы такие гроши тебе в лицо.
– Ну, конечно, – сказал Скерридж. – Я знаю, ты считаешь, что тебе худо живется. Всегда так считала. Но я-то знаю, что рассказывают мужчины в шахте, и, уж поверь мне, тебе живется лучше, чем ты думаешь.
Она промолчала, но мысли бурлили, будоражили её. О господи, ведь он же не всегда был таким, – во всяком случае вначале все было иначе, пока в него не вселился этот бес, алчный бес, толкавший его к легкой наживе и бездумной ленивой жизни. Она никогда не знала точно, сколько он зарабатывает, но однажды увидела мельком почтовый перевод, который он посылал в уплату за ставки на футболе, и цифра, стоявшая на нем, ужаснула ее: на эти деньги можно было пристойно, уютно жить, а он бессмысленно выбрасывал их на ветер.
Закурив сигарету, Скерридж выпрямился и посмотрел на жену – взгляд, его с необычным вниманием вдруг приковался к ней.
– Что это ты сделала с рукой? – спросил он. Он произнес это грубо, резко, без всякого тепла, словно боясь очутиться в ловушке, расставленной его чувствам.
– Да зацепилась за крюк для веревки, на которой я вешаю белье на заднем дворе, – сказала миссис Скерридж. – А он ржавый и острый как игла. – Она рассеянно взглянула на неуклюже сделанную повязку и безразличным тоном добавила: – Не удивлюсь, если заражение крови получится.
Он буркнул, отвернувшись:
– A-а, вечно ты во всем плохое видишь.
– Да ведь я не впервой об него кожу сдираю, – заметила она. – Вот если б ты мне новый крюк вбил, я бы больше не пользовалась этим.
– Ах, вот что! Если б я тебе новый крюк вбил! – ехидно передразнил ее Скерридж. – Если б я сделал то, если б я сделал это… Ты уж сразу выкладывай, что еще я должен для тебя сделать!
Заражаясь его настроением, она выбросила вперед руку и указала на большое пятно от сырости в углу.
– Вот, изволь! И добрая половина окон не закрывается. Пора наконец навести здесь порядок, а то, глядишь, весь дом рухнет нам на голову!
– Господи боже ты мой! – сказал Скерридж. – Да когда же ты оставишь меня в покое? Мало я, что ли, работаю в этой дыре, чтоб еще и дома гнуть спину? – Он снова схватил газету. – Да и потом все это денег стоит.
– Конечно, стоит. Кур кормить денег стоит, поэтому ты и перерезал их одну за другой. А теперь у нас и яиц нет. Сад в порядке содержать тоже денег стоит, поэтому он весь и зарос. Сараи тоже денег стоят, поэтому они теперь и рассыпаются. У нас могла бы быть неплохая усадьба, которая кормила бы нас, когда бы ты ушел с шахты. Так нет, все стоит денег, и теперь у нас ничего не осталось.
Он зашуршал газетой и произнес из-за нее:
– Никогда наша усадьба не могла бы нас прокормить. Сколько бы я ни вложил в нее денег, все ушли бы как в прорву.
Страшная несправедливость этих слов вывела из себя даже эту долготерпеливую женщину, и, не в силах сдержаться, она дала волю гневу:
– Все равно, лучше тратить на это деньги, чем на пиво, да на футбол, да на собачьи бега, – вспылила она. – Чтоб жирели букмейкеры и всякие проходимцы.
– Ты, значит, считаешь, что я круглый идиот, да? Ты, значит, считаешь, что я выбрасываю денежки на всякую дрянь, да? – Пальцы его смяли края газеты, и из водянистых голубых глаз на нее глянул злобный бес. – Ты просто не понимаешь, на что я мечу. Я их всех рано или поздно обскачу. Так будет, непременно будет. Вся куча попадет мне в руки – вот тогда мы посмеемся.
Она отвернулась, чтоб не видеть этого бесовского взгляда, и пробормотала:
– Грешно играть…
Она сама в это не верила и, чувствуя несостоятельность своего утверждения, подивилась, почему она так сказала. Это были не ее слова, а слова ее отца: с какой стати после стольких лет она вдруг вспомнила его поучения?
– Не поминай при мне этого старого ханжу, – спокойно сказал Скерридж.
– Я уж и сказать тебе ничего не могу, да? – спросила она. – Ты, значит, сам все знаешь? Поэтому и твоя родная дочка ушла из дому: ты знал, чем ее прогнать. Смотри не доведи и меня до того же.
Ее слова заставили его вскочить с кресла – он стоял теперь над ней, лицо его дышало яростью.
– Не смей говорить о ней в этом доме! – рявкнул он – Неблагодарная сука! Не желаю ничего слышать о ней, ясно? – Он качнулся под приступом кашля и притулился к очагу, пока его не отпустило. Со свистом вдохнув и выдохнув несколько раз воздух, он сказал: – А если хочешь уйти, можешь убираться в любое время.
Она понимала, что это только слова. Понимала и то, что никогда не уйдет. Она никогда всерьез об этом не думала. Ева, исподтишка навещавшая мать, когда отца не было дома, не раз спрашивала ее, как она может это терпеть, но она знала, что никогда его не бросит. С годами она все чаще и чаще вспоминала об отце и стала воспринимать свою жизнь, как предсказанную им неизбежную кару за грех, в который она впала, связав себя со Скерриджем и произведя Еву на свет. Еву, которая теперь, когда колесо судьбы сделало полный оборот, тоже ушла из дому без родительского благословения, хотя и по иным причинам. Нет, она никогда не покинет его. Но и жизни у нее с ним не будет – это уж точно. Со временем она поверила в предсказание отца о том, что ничего хорошего из их совместной жизни не выйдет, и теперь то и дело поддавалась, смутному, но все же тревожному предчувствию надвигающейся трагедии. Давно уже миновали те дни, когда она надеялась на то, что Скерридж образумится. Слишком он далеко зашел, и этот бес уже напрочь вселился в него. Но и она пересекла рубеж, когда возврата быть не может. На горе или на радость – она связана с ним, так сложилась ее жизнь, а от жизни не убежишь.