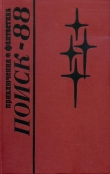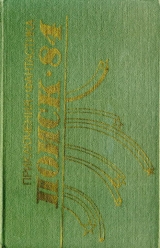
Текст книги "Поиск-84: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Щеглов
Соавторы: Михаил Шаламов,Олег Иванов,Александр Ефремов,Б. Рощин,Ефрем Акулов,Лев Докторов,Евгений Филенко
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Человек с бородкой вышел из лифта, не торопясь прошел по галерее, почти не глядя вниз, где на бескрайних просторах леса торчали километровые карандаши соседних домов, поглядел на цветовой индекс – нужная ячейка – приблизился к самому краю обзорной площадки и надавил темную пластинку под цифрами.
В прозрачном материале открылся темный проем, и оттуда высунулась лохматая голова Питера Бордже.
– Алекс! – обрадованно воскликнул он. – Давай проходи! Я сейчас, только закончу приводить себя в порядок. Учеба, понимаешь, сегодня проходил очередной полигон…
Он провел гостя в свою квартиру, висевшую в ячейке. Из широких окон гостиной открывался все тот же величественный, но несколько однообразный вид с высоты птичьего полета. Алекс улыбнулся – кресло Питера стояло повернутым к окну. Все новички любят смотреть вниз.
– Как у тебя дела? – спросил Питер, причесываясь. – Не могу не похвастаться – я прошел четвертым, хотя третичный период – не мой конек. Да и по второй профессии – закончил первый курс, через неделю практика.
– Как ты все успеваешь, – Алекс покачал головой. – Наверное, вы там, в двадцатом веке, привыкли все делать быстро – ведь жизнь была так коротка!
– Ничего подобного! – Питер рассмеялся. – Наоборот, мы там торопились побольше нахватать, побольше получить от жизни, а действовать как можно меньше, то есть – как можно эффективней. А здесь я даже не знаю, чем отдых отличается от работы. Разве что валяться на диване и смотреть старые фильмы. Скучно! Я дома-то почти не бываю, разве что для гостей. Кстати, а ты с чем пожаловал?
– Ты не меняешься, – улыбнулся Алекс. – Я тебя таким и помню с самого начала, когда ты заскочил в сектор и начал препираться с Арисом. Тоже сначала все о себе – а потом чуть-чуть по делу.
– Я о том, что как раз собирался в сектор, – уточнил Питер.
– Это хорошо, потому что мы и в самом деле пойдем в Центр. Но зашел я по другой причине. Дело в том, что я наконец отладил модель «Двадцатый век». Требуется некоторая информация.
– И стоило из-за этого лезть на семьсот метров вверх?
– Стоило. Не хотел начинать без тебя.
– Ну что ж, начнем вместе. Что еще нового?
– Ты разве не смотришь… ах, да. Ты бы хоть иногда включал телестенку – удобно и информативно.
– У меня к телевидению идиосинкразия, – улыбнулся Питер.
Он говорил правду – он заработал ее еще во время подготовки к перемещению в будущее, когда просиживал перед экраном до двадцати часов в сутки.
– Ну, тогда у меня для тебя сюрприз! – заявил он радостно. – Ты, конечно, помнишь Майкла Вакулина, с которым…
– …мы познакомились на выставке в прошлом году? Еще бы не помнить – он сюда заходил раза три, вместе с Паулем; у него что, наконец получилось?
– Что получилось?
– То, над чем он работал!
– Он много над чем работал!
– Сравнил! Это, как его, молекулярное восстановление – и технобессмертие!
– А-а… – Алекс кивнул. – Порой, Питер, я забываю, что ты из перемещенцев. Естественно, для тебя технобессмертие – штука загадочная и притягательная. Должен тебя разуверить – Вакулин прекратил возню с андроидами, сигомами, киборгами и прочим: не те результаты. Мечтал-то он о существе не только неуязвимом, но и способном к автономному существованию – аккумуляции энергии из внешней среды, левитации, квазипространственным переходам, – и притом внешне неотличимом от человека…
– Ну конечно! Неужели не получилось? Но почему?
– Что поделать – никто не всесилен. Осложнения начались еще с выбора структур воспроизводства, и пошло, и пошло… Последняя модель, которая удовлетворяла кое-как большинству условий, вообще оказалась метастабильной и взорвалась на полигоне, когда Вакулин уже собирался отмечать успех. Тогда он и решил отложить работы до лучших времен. Но зато в области молекулярного восстановления он добился фантастического успеха!
Питер разочарованно вздохнул. Алекс поднялся:
– Ну ладно, раз тебе это неинтересно, пойдем. Конечно, ты бы хотел, чтобы я рассказал – вот, уже создан сверхчеловек, но поверь – в ближайшее время на этом пути ничего нового не появится.
– В чем хоть заключается его фантастический успех? – уныло поинтересовался Питер.
Алекс смотрел в окно с отсутствующим видом и ничего не ответил.
Питер понял, что спрашивать поздно – его друг задумался. Такое уже бывало, идеи приходят редко и нежданно, и терять их рассеянием внимания – непозволительная роскошь, так что все земляне двадцать второго века в совершенстве владеют техникой концентрации. Поэтому Питер переадресовал свой вопрос видеосправке.
Фантастический успех Вакулина в области молекулярного восстановления заключался в разработке алгоритма голографического сканирования, позволяющего по части предмета восстановить его целиком. В качестве примера приводился текст, восстановленный по обрывку древней рукописи. Питер привычно изумился – в который раз абсолютно невозможное оказывалось совершенно реальным.
– Есть идея, – Алекс вышел из концентрации. – А, посмотрел все-таки… Ничего, у нас будет кое-что получше.
По дороге Алекс изложил свою идею. Моделятор – машина достаточно мощная, чтобы оперировать статистикой высших порядков. Обычно его используют для моделирования социальных процессов. Однако почему бы не приложить его к белым пятнам истории? Если известен набор причин, пусть даже весьма приблизительно, известен конечный результат – по глобальным последствиям, что определенно все стало так, а не иначе, – то почему бы не посчитать наивероятнейший путь от причин к результатам, а заодно и не подчистить неточности в исходных данных? «Я тут кое-что прикинул, – говорил Алекс по обыкновению сдержанно, – так почти для всех известных нам белых пятен данных «до» и «после» должно хватить». Ну что ж, ответил Питер, посмотрим. Модели еще строить надо, отлаживать…
Ух, сказал Алекс, работы-то! Ну все равно, заскочим к историкам, возьмем что-нибудь попроще для обкатки… У тебя как со временем? Часов девять в сутки, ответил Питер, но проблема не очень интересна…
– Что-о? – Алекс остановился. – Как это не очень?! Ты что, не понимаешь?!
– Чего не понимаю? – с любопытством спросил Питер.
И тогда Алекс объяснил: тебе, как хрононавту, пусть даже и будущему, просто нехорошо не знать таких очевидных вещей. Во-первых, историю в хрононавтике используют на практике, и если попасть в ее белое пятно, то автоматика, повязанная на внешнюю ситуацию, просто теряет ориентировку – не знает, где находится, – и вернуться оттуда практически невозможно, одним хрононавтом меньше. Поэтому в хрононавтике давно уже и планомерно разведываются белые пятна, но это очень рискованное дело, и результаты пока не обнадеживают – вон двадцатый век до сих пор белое пятно!
Питер помянул хроноскоп.
Алекс начал смеяться. Хроноскоп – это игрушка для детей дошкольного возраста. Интересная игрушка, но никакой определенности в расположении варианта – то ли твое будущее видишь, то ли чужое прошлое. Все условно, как в моделях-кляксах. Конечно, хроноскописты пытаются найти универсальную связующую формулу типа пространство – время – параметры, но пока научились лишь попадать в какой-нибудь век из заданного тысячелетия, да и то лишь в новой эре. Конечно, когда хронограмм несколько тысяч, они приобретают статистическую достоверность, но запротоколировать всю историю пока не удалось.
– Так что ты еще мне спасибо скажешь, – предсказал Алекс. – Теперь мы сможем забраться в белые пятна! Понимаешь, в чем штука?
– Понимаю, – ответил Питер, думая о своем.
11. Решение главного вопросаЯ не спешил.
Я мог бы, наверное, уже давно исчезнуть из этого мира. Все оказалось простым – никаких тайн, машины времени чуть ли не в прокате, сел – поехал.
Ах, если бы все было так просто!
Я прожил здесь три года, с каждым днем убеждаясь – я прав, что не тороплюсь. Технология бессмертия оказалась проста – восстановление раз в год организма на специальных комплексных установках размером с дом, документация на которые занимала целый кристаллодиск.
Допустим, я привез им этот диск – и что дальше? Только прочитать его – проблема не из простых, а уж изготовить там, в двадцать первом веке, где субмолекулярной технологии в помине нет, всю эту махину нечего и мечтать.
Реакцию Гейлиха на такую шутку я представлял плохо, но в любом случае он вряд ли остался бы доволен.
Выход был один. Миниатюризация – благо в Центре (как я быстро понял, что не уникальное здание во дворе моего дома, а непременная деталь любого жилого массива, заменяющая и бар, и домашнюю мастерскую, и кино, и театр) есть любая необходимая аппаратура, Я начал собирать миниатюрный ревитатор. Сначала не хватало знаний, потом – времени, потом возникли технические сложности, и тут я задумался.
Я делал модели двадцатого века, отрабатывал свои задания в Школе, проходил практику по субмолекулярному проектированию – и думал, непрерывно думал, как загнанная в угол крыса, – что случилось с миром, почему он существует, почему Гейлих не выполнил своей угрозы – но и не получил бессмертия?
История говорила – ничего не случилось. Разрядка, переговоры, полоса войн в «третьем мире», но никаких глобальных конфликтов. Я искал упоминания о Гейлихе – их было совсем немного, все старые, двадцатого века, в газетах и в «Кто есть кто». Может быть, следы его терялись в белом пятне 2004 года? Может быть, он мирно помер своей смертью, не сумев выполнить свое роковое обещание?
Такой вывод напрашивался; я почти сделал его. Успокаивал себя, дескать, прожил он еще пять лет, здоровье в порядке, зачем торопиться, а потом умер скоропостижно, не успев привести в действие свои разнообразные «способы», которых, кстати, могло и вовсе не быть.
Но потом начался курс «Физические принципы перемещения во времени», и я снова засомневался.
Раз мир цел, и я в нем живу – значит в этом варианте не было никаких ядерных войн, но значит ли это, что их не было и в других вариантах? Может быть, там он выполнил свою угрозу, насладившись напоследок зрелищем гибнущей планеты?
Я запутывался. Я чувствовал, что перестаю что-либо понимать.
Тогда я решил посмотреть на этот период в хроноскоп.
Секция хроноскопии отстояла от нашей совсем недалеко. Ребята там были почти все знакомые. Тэдди Чивер и вовсе был моим соседом по ярусу. Я попросил консультации.
И получил. Если, сказал Тэдди даже без особой иронии, ты случайно и попадешь в момент, который тебе нужен, то хроноскоп покажет тебе все что угодно, кроме того, что было на самом деле.
Что значит «на самом деле», спросил я, разве не все варианты прошлого равноправны?!
Нет, разумеется, ответил он снисходительно, есть варианты, которые были, а есть – которые могли быть.
Черт побери, сказал я, дай-ка какой-нибудь индекс руководства по хроноскопии. Ради бога, Питер, – и он записал мне в блокнот три индекса.
Дома я вызвал руководства и углубился в чтение. Физические принципы ничем не напоминали хрононавтику; техническое решение и вовсе привело меня в ужас – где-то в Тибете находилась огромная вычислительная машина, анализирующая сотни миллиардов сигналов от датчиков, разбросанных по галактике, и на основании этой бездны информации вырабатывающая картинку – структуру вакуума в данном объеме в данный момент времени, а уж эту структуру расшифровывает и переводит в нормальное изображение собственно ящик, именуемый хроноскопом.
Я вызвал Тэдди и выложил ему свои сомнения на тот счет, что таким образом можно хоть что-то восстановить. Тэдди напомнил, что еще в нашем добром старом двадцатом веке по следу на воде восстанавливалась картина судоходства по океану за ближайший месяц.
Это в океане, где течения и неучтенные рыбы плавают, сказал Тэдди. А вакуум – место спокойное, течений нет, так что можно читать секретные документы прямо в сейфах. В ближайшем прошлом, конечно.
Нам бы такую технику, облизнулся я, в двадцатом.
В двадцатом веке, констатировал он, четкость не очень велика, двести лет все-таки.
А ты примени молекулярное восстановление по Вакулину, шутя посоветовал я и нарвался. Тэдди о чем-то задумался и без предупреждения отключил связь.
Они здесь, в будущем, не очень вежливы. Стоит прийти идее – и тут же уходят в себя. Я так не умею.
Так, значит, восстановление возможно. Так какого же дьявола хроноскопы выдают всякую чушь?
Я стал читать дальше. Увлекательное это дело, читать руководства глубокого будущего, рекомендую всем любителям «строгой» сайнсфикшн, чтобы лучше понимали, зачем книги пишутся. Но я не зря уже три года учился в Школе Хрононавтики, и мне удалось живым продраться через формулы, графики и таблицы, чтобы вынести понимание: хроноскоп показывает не одно, а множество возможных состояний вакуума, могущих сэволюционировать к наблюдаемому сейчас, и хотя с ростом длительности наблюдений число этих возможных вариантов уменьшалось, но все же было настолько огромно, что приходилось оснащать хроноскопы селекторами и вариаторами, отбирающими наиболее вероятные варианты. Лучше всего они работают как раз в случае текста – отбрасываются все распределения, ведущие к бессмыслице на бумаге, и остаются несколько вариантов, легко отбираемых чтением полученных текстов.
Значит, понял я, мне нужен вариант с газетой. Простой кадр из две тысячи четвертого года с газетой. Это и будет наше прошлое.
Хотя стоп. Наше прошлое и так мирное. Мне нужно узнать, не было ли войны в не-нашем прошлом! А все варианты в хроноскопе – разновидности нашего прошлого. И он мне не поможет.
И опять я сказал себе – стоп. За что мне поставили зачет по «Физическим принципам»?! Я вынырнул в этом мире, а другие варианты, бесчисленное множество возможных миров, остались за чертой пятого измерения. В хроноскоп их не увидеть, попасть в них можно только в аварийном режиме машины времени – но без всякой надежды на возвращение. Мне туда не добраться.
Но зато наконец мне стало абсолютно ясно, что делать.
Если я не вернусь обратно, значит, одним вариантом с ядерной войной останется больше. А значит, нужно идти и собирать до конца мой мини-ревитатор. Он станет и памятью этого мира обо мне, и спасителем другого, пока неведомого.
Я пошел вперед по тропинке. Центр совсем близко от дома – мне говорили, что до него можно добросить камешком с крыши. К счастью, никому не приходит в голову бросать оттуда камни.
Мой ревитатор был задуман размером с записную книжку. Особой гордости я не испытывал – серийные, с дом величиной, образцы были изготовлены пятьдесят лет назад, ресурс не выработали, и менять их не стали – не было смысла. А техника шагнула далеко вперед, и любой мало-мальски смыслящий в молекулярной технологии мог бы скомпоновать себе миниатюрный ревитатор.
Миниатюрность, однако, не получилась. Минимальный объем ревитации сразу заставил увеличить размеры вдвое, потом пошли ограничения по теплообмену, по электромагнитным наводкам, по безопасности, к тому же стандартных узлов не хватило, один пришлось кристаллизовать самому, источник питания оказался больше, чем я предполагал – словом, уложившись в размер приличной книги, я считал, что мне повезло.
Пришлось применить немало ухищрений и к тому же разработать внешнюю рабочую камеру – на это ушло три месяца.
Но настал день, когда все было готово. Я включил ревитатор, порезал палец скальпелем и поднес к центру рабочего пространства. Результатом остался доволен.
Окончательно я проверил свое создание, обновившись в очередной раз с его помощью. После этого я прошел полный медицинский контроль – который и так традиционен для всех хрононавтов – и не нашел никаких отклонений.
Теперь – в путь, обратно, в двадцатый век.
Потому что через две недели я оканчивал Школу, и вот-вот должен был состояться мой первый самостоятельный хроноперелет.
12. Двойная ошибка– Курсант Бордже!
– Я!
– Получите маршрут! Желаю успеха!
Я ничего не ответил. Ревитатор болтался за пазухой, отвлекая все внимание. Маршрутную карту я зажал в левой руке и стоял навытяжку, с нетерпением ожидая, когда же нам скомандуют: «По машинам!». Преподаватель-инструктор, а попросту – принс – делал последние напоминания по технике безопасности, перечисляя небольшой список того, что запрещается в прошлом.
Выходить из машины, подавать световые сигналы, отключать аварийную систему спасения, прерывать связь с базой… Не рекомендуются отклонения от маршрута, запрещается выход в незаданный район пространства-времени или перемещение в заданном.
Словом, все, что я собирался проделать.
– По машинам!
Наконец-то. Я четко отработал посадку – будто за мной гнался динозавр средних размеров – и уставился в маршрут, делая вид, что внимательно его изучаю. Что делать дальше, я знал абсолютно точно, все было продумано и дважды просчитано на моделяторе.
Вот принс скомандовал – «Пошли!» – и контуры машин расплылись в воздухе. Серые эллипсоиды – самая удобная форма – проваливались сквозь время один за другим, целясь в заданный район пространства-времени где-то в мезозое.
Я не спешил. Маршрут начинается в момент старта, и стартовать как все я не мог – не хватило бы энергии на возвращение. Да, да, на возвращение. Сценарий был прост и естествен: я залетаю в две тысячи четвертый, передаю ревитатор с инструкцией шокированному Гейлиху и исчезаю, возвращаясь в указанный район мезозоя, Все должно пройти незамеченным, и я стану свободным человеком.
Поэтому, подождав, когда половина машин исчезнет, я отложил маршрутную карту, сосредоточился и взялся за управление. Машина легко стронулась с места, но в направлении, вовсе не предусмотренном маршрутом. Я начал бесконечно падать назад.
Это ощущение нельзя передать. Мне приходилось летать на КП-звездолетах – там все слабее и бледнее во много раз. Это полностью искаженное пространство, в котором можно увидеть собственный затылок и услышать запах своих мыслей, где причины путаются со следствиями, это странное пульсирующее время, когда то кажется, что века уже заперт в этой тесной кабине, то непонятно, когда успели смениться цифры на независимых часах – нет, это надо пережить самому. Рассказывать бесполезно: мне тоже рассказывали.
На семнадцатой минуте полета я выключил систему аварийного спасения и перешел на непосредственный режим коррекции. Машина ерзала по вариантам, но мне удалось ее удержать. XXI век приближался, я проломился сквозь стенки накатанной дороги в прошлое и теперь пёр по бездорожью, где компьютеры с трудом находили ориентиры. На двадцать шестой минуте я вошел в Пятно-2004 – Алекс снабдил меня его вероятностной структурой – и включил аварийный выход.
Попадание было точным.
Счетчик остановился на двадцатом августа две тысячи четвертого года. Вокруг стояла полная тьма – автоматика включила экранирование, меня не было видно снаружи, но и я ничего не видел. Я потянулся к пульту, чтобы ее отключить, и тут…
Пожалуй, это был критический момент адаптации. Пока все идет гладко, бесконфликтно, среди всеобщего счастья – трудно определить, насколько ты отождествляешь себя с новым человечеством. Поэтому до первой и последней (повторения не допускаются) критической ситуации ассимиляция перемещенца не считается завершенной. Я не был в восторге от этого правила – с незавершенной ассимиляцией запрещены одиночные космические полеты, контакты с другими цивилизациями, туристические поездки в прошлое. Чтобы понять его необходимость, понадобилось время.
Из темноты раздался усталый и недовольный голос – и это с учетом того, что связь я давно отключил:
– Курсант Бордже, почему вы отклонились от маршрута?
Я повернулся в кресле, готовый ко всему. Сзади, там, где должен помещаться конверсор, неожиданно зажегся свет и медленно открылся люк. Никакого конверсора, сообразил я, макет, проверка. Я попался на проверку, как дилетант! Пять лет в этом будущем – и профессиональные рефлексы атрофировались.
– Что это значит? – спросил я раздраженно. – Мы не в прошлом?!
Но искажения пространства? Или это тоже можно макетировать?
– Это значит, – я наконец узнал голос принса, – что вы нарушили маршрут, сигнал о чем поступил на пульт управления полигонными занятиями в обстановке, максимально приближенной к реальной. Ваша машина была изолирована от остальных и проверена на управляемость – выяснилось, что вы действовали целенаправленно, стремясь в строго определенный район пространства-времени. Поэтому было принято решение прервать полигонное занятие по отношению к вам. Отклонение от маршрута рассматривается как нарушение дисциплины и при отсутствии смягчающих обстоятельств квалифицируется как проступок. О мерах дисциплинарного воздействия вы информированы. Итак, повторяю вопрос: почему вы отклонились от маршрута?
Он говорил и говорил, а я успокаивал сердце, утихомиривал мускулы – все тело требовало немедленных действий, но действовать было нельзя. Я ответил, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее:
– Об этом я доложу комиссии.
– Хорошо. До принятия ею решения мы вынуждены временно отстранить вас от обучения. Полагаю, Бордже, что вы успеете догнать товарищей. На сегодня вы свободны. Выход здесь.
Он посторонился. Я вышел. Машины стояли на своих местах, но стекла кабин не были прозрачны – шла имитация перелета. Я побрел по траве, мерно переставляя ноги. Как ни странно, но я ни о чем не жалел.
Все-таки как приятно сбросить груз ответственности, переложить принятие решений на плечи других!
Я вошел в транспортную, набрал код и вернулся домой.
Лег на диван, не снимая комбинезона, и расслабился – полностью, надолго, думать ни о чем не хотелось. Думать буду потом – сейчас покой, отключение, иначе с испорченным настроением можно наделать глупостей.
Из забытья меня буквально выдрал сигнал вызова. Он трещал и трещал, вызывавший был уверен, что я дома, машинально я стал искать телефон, а потом чертыхнулся, вспомнив, как здесь отвечают на вызова, и крикнул:
– Питер Бордже слушает!
Посреди комнаты возникло висящее в воздухе – это всегда так смешно выглядит – изображение моего друга Алекса Го.
Привет, Питер, как дела, – начал он, я ответил, что в порядке, незачем до поры портить человеку настроение. Ну так тем лучше, сказал он, давай заходи ко мне, тут тебя хотят видеть, у меня в гостях Даша Маленкова, давно пора вас познакомить.
Я припомнил – Даша Маленкова… кажется, жена Ивана Сергеевича, моего наблюдателя из Центра Ассимиляции… астрофизика, история науки. Видимо, кто-то из ученых двадцатого века ее заинтересовал. Жаль, подумал я, что ни с кем из ученых знаком не был, ладно, чем смогу – помогу.
Отвлечься было просто необходимо.
Алекс жил в соседнем доме, и я был у него через семь минут.
Там уже сидела приличная компания – Иван Сергеевич с, как я теперь вспомнил, Дарьей Павловной, Миша из сектора биотехники, Тэдди, еще один человек, которого я не знал, с окладистой черной бородой, Энди Адамсон, как его представил Алекс.
Никто не обратил на меня особого внимания. Люди двадцать второго века очень хорошо чувствуют, чего от них ожидают, а сейчас я не горел желанием оказаться героем дня.
Разговор шел, как всегда в такой пестрой компании, о нейтральных вещах – Миша рассказывал о разработанной им модели биотехна «черт», обещая как-нибудь показать в действии, а Энди вторил ему, рассказывая о странном существе, чьи фотографии в инфракрасном свете ему показывали в одном из африканских заповедников – напоминающем человека, но с хвостом и кривыми рогами.
Алекс поинтересовался, не вывел ли кто из биологов породу рогатых обезьян, и напомнил мне, что полно отмалчиваться.
Я подсел к Дарье Павловне:
– Я слышал, вы что-то раскопали в нашем двадцатом веке?
– Наконец-то! – обрадовалась она. – Скажите, вам в вашем прошлом не приходилось встречаться, слышать или читать о таком ученом – Холе Клеменсе?
Я захлопал глазами, и у меня возникло ощущение дешевого розыгрыша.
– Именно Клеменсе? – переспросил я. – Может быть, вы имеете в виду Хола Клемента? Был у нас такой писатель…
– Нет, именно Клеменсе. Через «эс». Он был одним из первых ксенологов, одно время даже преподавал эту дисциплину…
– Преподавал?! – Сомнений быть не могло – она имела в виду того самого Хола Клеменса, консультанта Гейлиха! Но, может быть, в этом варианте он был совсем другим человеком? Впрочем, что я? Наше прошлое до моей отправки сюда – одно и то же. – Позвольте, но откуда вы о нем знаете?!
– О, так и вы его знали?! Прекрасно! Видите ли, этот человек выдвинул целый букет интереснейших гипотез – астрофизических и ксенологических, причем, одна из них подтвердилась буквально в самые последние дни…
– Не скромничай, Даша, – встрял Иван Сергеевич, – подтвердилась благодаря твоим работам. Шутка ли, пять лет расчетов и наблюдений!
– Теперь вам понятно, почему я так интересуюсь этим человеком? Мы слишком часто незаслуженно забываем наших великих предков…
– Великих?! – возмутился я. – Пожалуйста, не называйте так этого типа!
– Но почему?! Это был очень невезучий человек. Мне удалось установить, что его работы не понимали, его выгнали из колледжа, где он преподавал, он вынужден был подрабатывать частными консультациями, был лишен возможности нормально трудиться и погиб совсем молодым, вместе с самодуром-миллионером, у которого служил консультантом по внеземным цивилизациям! Что вы имеете против него?!
– Погиб?! – я аж привстал. – Как, когда?
– Извините, я забыла, об этом вы знать не могли… Он погиб летом две тысячи четвертого, чуть позже вашего перемещения…
– Число! Какого числа это случилось?!
– Как странно получается… Я думала расспросить вас, а сама попала под допрос.
– Это очень важно, прошу вас! Какого числа и какого месяца Клеменс погиб вместе с… со своим миллионером?
– Кажется, в августе, числа двадцатого, точно не помню, – она смутилась и посмотрела на Тэдди, который, очевидно, помогал ей копаться в истории.
– Понимаете, Питер, – вмешался тот, – как назло, это белое пятно, две тысячи четвертый. Какие-то неприятности в Штатах – и половина всего мирового фонда информации уничтожена. Так что мы можем лишь предполагать, да и то по косвенным данным, что раз в июле Клеменс был жив, а в налоговых ведомостях за 2004—2005 финансовый год, начинающийся в сентябре, он уже не фигурирует, то значит где-то в августе он погиб. По всем данным, со своим клиентом, неким Гейлихом. Я смотрел на хроноскопе этот район – картинка четкая, тонут в районе Флориды на подводной лодке. Может быть, тоже пытались заморозиться? Двадцатого августа – самая вероятная дата. Алекс считал, сам Сальт считал – по моделям выходит то же самое. А почему это тебя так интересует?
– Это точно? – спросил я. Видимо, с голосом что-то случилось – все испуганно смолкли.
– Да, – Алекс пристально посмотрел на меня. – Они были твоими друзьями?
Я усмехнулся и еще секунду молчал. Август! Они не стали дожидаться конца двух месяцев!
А потом меня как прорвало – и я рассказал все, все то, что было, все то, что я потом повторил комиссии. Наверное, я казался немного повредившимся в рассудке, Иван Сергеевич косился на карманный диагност – но мне было все равно.
Наконец-то я был свободен!
П о д г л а в а: 0002
Н а з в а н и е: «Прогноз на будущее»
С о д е р ж а н и е: заметки Х. Клеменса
«Итак, отправили голубчика. В принципе надо было заставить его вернуться на другой день после запуска. Тогда бы все давно было ясно, и не пришлось бы ломать голову – что да как, да вернется ли вообще!
Сразу стало бы ясно, что не вернется.
Нет, с наукой все точно, тут все шансы наши. Это-то я теперь точно знаю – вон, пачка рукописей, в углу.
Ох и дурак, что не нырнул с ним.
Два месяца, два месяца.
Не понимаю, зачем это все Гейлих затеял. Дураком в будущем быть не хочет? Здесь будто шибко умен!
Стоило бирже зашевелиться, и обо всей операции забыл.
Плюнул на все и играть. Или – спасаться?
Может быть, это тоже разновидность его безумия?
Я доволен, что нашу анабиоз-камеру уже заканчивают.
Так.
Ах, да, я о том, что он не вернется.
Давайте посмотрим реально:
компьютер его выбрал совершенно не по тем критериям – разве наспех составишь правильные?
ядерной войны он испугался, когда она у него перед глазами была, а когда она в прошлом останется, и человечество вот оно, живо-здорово, а другие варианты – так их вроде бы нет вовсе – зачем возвращаться?
да и не дурак же он, чтобы предполагать, что мы его за службу наградим, ведь разболтает рано или поздно, кто мы и откуда бессмертие – так что ему не жить! Так зачем мы его в будущее послали?!
Интересный вопрос. Задать шефу.
А уж не завидую ли я этому Бордже?
Похоже, похоже!
Ну ладно, пусть он даже вернется. Возлюбит нас заочно и от щедрот души – вот вам, ребята, бессмертие… Кстати!
Каким образом его вообще можно передать? Организм надо менять, технология нужна, а ее не вывезешь в кармане…
Впрочем, этот Бордже что-нибудь придумает. Такой и готовую установку вывезет.
И вот тут-то самое интересное: становимся мы бессмертны.
И что?
И в нас стреляет сумасшедший, сбивает машина, гробит упавший самолет. Та-ак… Получаем: средняя продолжительность жизни биологически бессмертного человека – триста лет. Смеху подобно! Ох, как мы сами себя надули!
В следующий раз врагу подброшу идею заслать шпиона в будущее.
Что же нам делать?!
Как говорится, крупный вор горит на мелочах. Шеф не додумал мелочь из мелочей.
На месте этого Бордже я бы ему был вечно благодарен, ноги бы целовал. Бесплатно подбросил в будущее!
Ну ладно, мы, похоже, и сами туда вскоре отправимся.
А куда отправляться? То есть до-него или после? Вдруг он все-таки вот-вот появится? Да не только с бессмертием, а еще с парой технических штучек?
Нет уж, до – ни в коем случае. А то встретит нас там, и ничем уже его не убедишь.
Значит, после.
Надеюсь, этот Бордже на нас не особо зол.
В любом случае надо подготовиться…
К счастью, время есть.
Ну что ж, зайдем к шефу.
Охота посмотреть на его физиономию, когда он узнает, какого дурака свалял.
Ха-ха-ха».
– Конец текста —