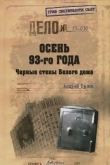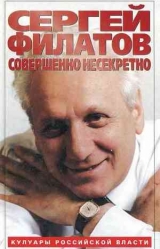
Текст книги "Совершенно несекретно"
Автор книги: Сергей Филатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
Часто кадровый выбор президента невозможно было объяснить, появлялись новые, какие-то серые, порой скандальные личности, а то и просто противники и самого президента, и проводимых им реформ. Таких примеров было много. Наиболее яркие из них – Руцкой, Ильюшенко, Коржаков.
Когда в ночь перед регистрацией кандидатов в президенты в Центральной избирательной комиссии выбор Ельцина пал на Руцкого как на кандидата в вице-президенты, многие оказались в шоке и никак не могли понять, что заставило Ельцина принять такое решение. Но, с точки зрения избирателя, Борис Николаевич выбор сделал точный: военный летчик, Герой Советского Союза, в Верховном Совете проявил себя напористым депутатом, умеющим защищать социальные права военнослужащих.
Однако выбор Ельцина в конечном счете оказался трагичным для страны. Сложные отношения складывались у президента Ельцина с вице-президентом Руцким постепенно, не сразу. Руцкой – человек с амбициями, привык решать вопросы по-военному жестко и быстро, порой не вникая в последствия таких решений, будучи не всегда в ладу с законом. Ему казалось, что он имеет часть президентской власти и может ею распоряжаться по своему усмотрению. На самом же деле, по Конституции, он мог делать только то, что поручал ему президент. И президент допустил несколько ошибок, когда доверил Руцкому введение ЧП в Грозном, когда поручил ему возглавить межведомственную комиссию по борьбе с преступностью, когда обязал заниматься сельским хозяйством. Шуму от Руцкого было на всю страну, а проку – никакого. Сама манера обращения с людьми, когда он ставил их «на ковер», уже в то время была недопустима.
И вот, с одной стороны, Руцкой – защитник демократии, прав человека, с другой – самый ярый нарушитель и демократии и прав человека. Эти 11 чемоданов компромата – свидетельство нарушения закона и прав человека, так как оперативные данные были оглашены в форме обвинения людей, обладающих правом презумпции невиновности. Провал ЧП в Грозном чуть не стоил войны в этом регионе. Руцкой явно проиграл, но признаться в этом у него не нашлось мужества. «Человек без тормозов» – так многие тогда характеризовали А. Руцкого. Это особенно стало проявляться после победы над ГКЧП, когда Руцкой оказался в центре внимания прессы и общественности. А затем последовала его война с молодым правительством и с либеральными реформами. А затем – война и с президентом, когда Руцкой согласился и с импичментом, который объявил Б.Н.Ельцину Белый дом, и с занятием кресла президента страны на нелегитимном съезде народных депутатов…
Из сообщений СМИ:
«Вице-президент сомневается: «Меня такое правительство не удовлетворяет, потому что в нем нет практиков», – сказал А.Руцкой, выступая в Новосибирске на встрече с активистами местного отделения народной партии «Свободная Россия».
«Сегодня я практически отстранен от механизма принятия решений, но это не значит, что я не могу выражать свое мнение. Я заявлял и продолжаю говорить: программы реформ не существует, ибо простое перечисление мер на съезде народных депутатов не является программой. Я выступал и выступаю против освобождения цен. Я также не согласен с политикой рыночных отношений, при которой на территории Российской Федерации создано более 600 бирж и свыше 1200 коммерческих банков, занимающихся спекуляцией. Я полностью поддерживаю цивилизованный рынок, однако мы не та страна, которая может перейти к рынку всего за неделю» (·Российская газета», 29 ноября 1992 г.).
Конечно, есть вина и окружения Бориса Николаевича в том, что руководители службы безопасности подстегивали неприязнь президента к Руцкому, подсовывая ему записи прослушанных разговоров. А поскольку Руцкой – прямой и бесхитростный вояка, он и говорил все то, что в данный момент думал, но обычно в такой «данный момент» он воевал. Стоило все это нам, обществу, стране – октября 1993 года и отсутствия в Конституции такой должности, как вице-президент Российской Федерации.
Мне представляется, что Борис Николаевич выбрал абсолютно неправильный тон общения с экс-президентом СССР М.Горбачевым – тон человека обиженного и еще не отомщенного.
Из интервью Ельцина итальянской газете «Република»:
«В новом Содружестве Независимых Государств не предусмотрено места для Михаила Горбачева, и у Президента Советского Союза есть время до конца декабря, максимум – до середины января, чтобы принять решение о своей отставке».
Бесстрастно, не повышая голоса, Борис Николаевич произносит этот своеобразный приговор творцу перестройки. А мне казалось, что в новой демократической системе государства нам удастся построить иные отношения с теми, кто раньше был у власти, а теперь могли бы стать советниками, аналитиками, использоваться для различных рабочих контактов – и все это во имя усиления и обогащения своей страны!
Как-то, во время пребывания в Англии, мне подарили местную газету, где во всю страницу была изображена голова Михаила Сергеевича, а на лысине сидел маленький Борис Николаевич и маленьким молоточком бил по ней. В этой забавной шутке оказалось много правды. Мы потом были свидетелями, как Ельцин почти никогда не упускал возможности «постучать молоточком» по голове Горбачева, После той поездки я показал Борису Николаевичу газету и при этом сказал, что не надо бы ему в его новом положении относиться к Горбачеву так, что даже мелкие уколы мир замечает. Нам постоянно нужно думать о будущем – ведь сейчас закладываются основы того, как будут потом относиться к ушедшим руководителям. Правда, после этого разговора Ельцин стал меньше выпускать стрел в ту сторону, но отношения своего к Горбачеву не изменил.
Очень часто в прессе и в устах оппозиции все, что исходило от Ельцина, особенно плохое, связывалось с окружением президента. Чаще всего, напомню, подразумевалось некое анонимное окружение. Вот один из комментариев в СМИ по этому поводу.
Комментарий газеты «Генераль-анцайгер»:
«Проблема Ельцина состоит в том, что его окружает «почти анонимная дворцовая камарилья, к нашептываниям которой он прислушивается даже в большей степени, чем наученный опытом Михаил Горбачев».
Однако окружение у Бориса Николаевича было разным. И его долголетие на посту президента, его шаги по преобразованию страны могли осуществиться именно благодаря тому, что в основном это были деловые, грамотные, авторитетные люди. С самого начала деятельности Ельцина вокруг него объединилась довольно мощная группа творческой интеллигенции, которая его поддерживала всегда, а в критические моменты, быть может, особенно. Многие из них вошли в Президентский совет.
На разных этапах они по-разному оценивали его деятельность, но всегда сходились в главном: Ельцин – гарант демократических преобразований в России и ему нужно помогать. И у каждого, с кем приходилось накоротке или обстоятельно обсуждать положение в стране, ход реформ и преобразований, было много различных претензий к власти, к Ельцину, но были и убедительные доводы, почему его нужно поддерживать.
Пожалуй, наиболее емко это отношение выразил писатель Даниил Гранин: «Что можно сказать о Ельцине как о человеке, о личности? Он болеет за Россию. Он умеет слушать и слышать, обладает здоровым чувством юмора. Кроме того, в нем есть, конечно, обаяние человека, разбирающегося в людях и понимающего собеседника… Видно, что Ельцин – человек, прошедший серьезные испытания властью, и мне кажется, он один из немногих сумел выдержать эти испытания. Его дорога к власти была совершенно необычной, в чем-то даже революционной дорогой. Ведь что только не делали, какие только препоны не ставили у него на дороге, какие только не возводили на него напраслины. Сколько на него выливали грязи, что только ему не приписывали: и сионизм, и алкоголизм, и донжуанство, и карьеризм. Перечислить всего невозможно. Как симпатичен мне был Ельцин, который твердо стоял на своем и никому и ничему не поддавался, отчаянно боролся против той власти и сумел устоять!»
А вот характеристика режиссера Марка Захарова: «…Мышление Ельцина – это мышление демократа. Я уже признался, что во мне иногда гуляют радикальные суждения и намерения совершать резкие поступки. Ельцин всегда этому противился. Ему трудно нарушить демократические заповеди и нормы демократического поведения руководителя, человека, который сформирует политику. Хотя это никак не может его застраховать от просчетов и ошибок. У меня есть твердое убеждение (оно, может быть, и интуитивно), что время все равно работает на нас и на политику президента при всем ее несовершенстве…»
Многие сходятся еще в одной оценке Б.Н.Ельцина: он – человек четких нравственных ориентиров. Он не перекладывал вину на других – будь то Чечня, октябрь 1993 года или срывы в экономике…
Находясь за рубежом, он никогда поименно не давал отрицательных оценок другим. Не знаю, что это – те же воспитание, некая внутренняя установка или некоторый зарубежный опыт. Например, во Франции существуют неписаные правила этики для депутатов и руководителей всех уровней: никогда не ругать и плохо не отзываться о своих коллегах и о своей стране за ее пределами. Но внутри страны эти правила прекращают действовать.
Он пошел на выборы 1996 года. А выборы означают, что придется признавать совершенные ошибки, освобождаться от наиболее одиозных союзников и подчиненных и анализировать настроения масс и пытаться что-то объяснять народу.
Но были случаи, когда шептуны точно использовали настроение и состояние президента, чтобы «капнуть» ему на кого-то, вызвать раздражение, гнев и направить такую реакцию против собственных недругов, делая их недругами и президента. У меня было несколько таких телефонных звонков от президента, когда не оставалось никаких сомнений, что кто-то из близких, находящихся рядом с ним, действовал именно так.
Вот один из звонков. Поднимаю трубку прямой связи и слышу раздраженный и напористый голос президента:
– Мне сказали, что вы продолжаете дружить с Бурбулисом. Вы должны прекратить с ним всякие отношения…
Я опешил:
– Борис Николаевич, то же самое мне говорил Хасбулатов, но я не отказался от дружбы с Бурбулисом и сейчас не вижу необходимости. Тем более что он очень многое отдал общему нашему делу. А вас кто-то пытается на него натравить.
Президент положил трубку.
Другой звонок.
– Вы скажите своему Голембиовскому, чтобы он «Известия» не использовал для печатания всяких пакостей.
– Борис Николаевич, во-первых, Голембиовский не мой, я в Верховном Совете стоял за газету, за ее независимость, которую, слава Богу, она сейчас имеет. Во-вторых, вы никогда не вмешивались в дела СМИ. Кто вас подтолкнул на этот шаг, кому и зачем это нужно? Ведь только один звонок, и вы будете дискредитированы.
– Ну хорошо. – Президент положил трубку.
И вот примерно такой же третий звонок.
– Вы знаете наше отношение к Степашину. Перестаньте с ним дружить, если хотите остаться в нашей команде.
И тут я взорвался:
– Борис Николаевич, почему вы позволяете натравливать себя на ваших единомышленников? Степашин ваш соратник. А кому-то из ваших близких он, видимо, мешает, и я предполагаю кому. Давайте встретимся и обо всех этих делах поговорим
– Хорошо, давайте поговорим.
Конечно, мне нетрудно было предположить, кто в это время дышал в затылок и шептал в ухо президента. К сожалению, иногда это имело результат, которого шептуны добивались.
Может быть, такие многочисленные нашептывания подготовили президента к тому, чтобы дать неограниченные полномочия службе своей безопасности по сбору компромата на высших должностных лиц, на банкиров, на руководителей СМИ, прибрать к рукам «Росвооружение», контрольные функции и многое другое, что явно противоречило Конституции и, как правило, нарушало права человека. Был даже создан вычислительный центр, куда поступала вся информация о банках и можно было в любую минуту получить любые сведения о каждом из них. При чем здесь Служба безопасности президента?
Была даже попытка создать финансовую разведку России, по сути, противоречащую Конституции (ни одна из российских спецслужб не имеет права вести самостоятельный поиск зарубежных счетов российских юридических и физических лиц вне системы судебных исков и разбирательств, осуществляемых в ходе проведения официальных расследований по уголовно наказуемым делам). Идеология действий, видимо, была такой: законы касаются спецслужб, правительства, Администрации Президента, а Служба безопасности вне этих и других структур, а значит, и вне закона.
Когда появился проект указа о Службе безопасности президента, дававший коржаковскому ведомству полномочия, которые не снились никаким другим службам, мы с В.Илюшиным схватились за голову, но президента не было в Кремле – он отдыхал в Сочи и поговорить с ним не было возможности. Проект указа придержали до его приезда, но через некоторое время другой экземпляр указа был подписан, вопреки действующему положению, без визы руководителя Администрации Президента.
В июне 1996 года такая практика работы Службы безопасности президента была прекращена, но она не получила достойной оценки ни президента, ни наших правоохранительных систем. А надо бы – чтобы не повадно было другим.
Сегодня у Ельцина, пожалуй, больше противников, чем было когда-либо. Но мы вместе с ним прожили целую эпоху – со всеми ее противоречиями, шатаниями, стрессами, заклинаниями, надеждами, пророчествами и разочарованиями. Эпоха Ельцина – это полный отказ от перекраски фасада, от идеологии перестройки по Горбачеву, это не оживление старых социальных институтов, а утверждение нового, это, наконец, радикальные перемены в обществе, сознание необходимости глубинных исторических перемен, но… при отсутствии ясного ответа на вопрос, как их осуществить. Это и ощущение того, что нужно непрерывно бежать, бежать не останавливаясь.
И вот – бежим. 150 миллионов человек после ГКЧП и проведенных у себя референдумов побежали из СССР, другие 150 миллионов человек, совершенно неподготовленных, без какого-либо представления о маршруте, с твердым желанием убежать подальше от коммунистического прошлого и смутным желанием радикальных перемен к лучшему, побежали в сторону частной собственности и приватизации, демократии и рынка. Может быть, именно поэтому мы каждый год с нелегкой душой входим в праздник независимости России, или, как его еще называют, – День принятия Декларации о суверенитете России, не понимая ни его сути, ни того, чего же мы достигли. Может быть, именно поэтому общество не понимает до конца того, что произошло в 1993 году, когда страна буквально чудом избежала гражданской войны.
В чем должен состоять радикализм реформаторства, долгое время не знали и сами авторы реформ, не знал этого и президент. Мы знали только, что надо бежать. А о конечном результате догадывались смутно, и, как оказалось, каждый представлял его по-своему.
Сочетаются радикальные реформы с «возрождением России» – лозунгом, с которым демократы шли на выборы, – или нет? Как будто да, но во многом первое противоречит второму. Конечно, речь шла о духовном возрождении, о возрождении рыночной экономики. Но повернулось все к иному качеству. Отсюда – путаница. Путаница в мозгах, мешанина лозунгов, девизов, позиций. Одних только партий и политических движений, формально имеющих право на участие в выборах на федеральном уровне, даже в последнее время, уже после перерегистрации, – свыше 150, и у каждого лидера свое видение будущего России. А бежать надо.
Необходим был человек, который, взяв на себя ответственность, скомандует: «Вперед! К другому берегу, примерно вон туда, не останавливаясь, там разберемся!»
И таким человеком оказался Ельцин. В этом и заключается его историческая миссия, в этом историческое значение и глубинный смысл того, что он и мы вместе с ним строили и созидали все недавние годы, со всеми нашими взлетами и падениями, противоречиями и логикой.
Ельцин – это принятие абсолютно радикальных решений в абсолютно не подготовленной к ним ни духовно, ни материально стране, в отсутствии традиций реформаторского радикализма; с интеллектуалами, выросшими в условиях всеобщего подавления мысли и неспособными на настоящий протест; со старыми кадрами, не готовыми к новой работе даже теоретически; с огромной партией тоталитарного типа, невероятно коварной и опытной, значительно сросшейся с армией, службами госбезопасности, прокуратурой, судом, директорским корпусом, усвоившей множество большевистских приемов, и прежде всего приемов разобщения общества, поиска врага, революционных выступлений.
У Ельцина никогда не было поддерживающего его устойчивого большинства, даже при его выборах Председателем Верховного Совета РСФСР и Президентом России. И отсутствие ЕГО большинства приводило страну не раз на грань катастрофы. Но именно оно и заставляло Ельцина бороться за победу на выборах, используя весь свой потенциал в критические минуты.
Что знали реформаторы, когда начинали реформы? Монетаристскую теорию. Но эта теория выросла в Америке. Она, наверное, хорошо заработала бы у нас при других условиях, близких к американским, но таковых у нас не было. Хотя нужно признать, что степень ожидания этой теории и степень доверия к ней в обществе были достаточно высокими благодаря политике, которую небезуспешно проводил Андрей Козырев на укрепление доверия между Россией и США, но которую так бездарно растоптали позже, изменив внешнюю политику России и вновь пытаясь представить Америку нашим врагом. А значит, и все, что оттуда исходит, для нас – враждебно, как и было при большевиках.
Для того чтобы монетаристская теория реформ заработала, нам изначально нужно было иметь другое, более развитое в правовом отношении население, другую, более гибкую общественную психологию, приемлющую частную собственность, а не продираться шаг за шагом сквозь бешеное сопротивление бывших партократов, с их огромным негативным опытом, с их порочными связями, с их репрессивным влиянием на народ и умением пользоваться скрытыми партийными средствами,
Было ясно, что реформировать общество в целом одними лишь макроэкономическими методами невозможно, что рассчитывать на экономический подъем сразу после отпуска цен – наивно. Но не сделать всего того, что сделали и Гайдар, и его команда, было еще хуже. Из многих зол приходилось выбирать меньшее, а альтернативы даже меньшему злу просто не существовало.
Любое решение было плохим, и поэтому терпеливо, порой стиснув зубы, приходилось выстраивать цепочку плохих решений, в конце которой при благоприятных условиях могло бы получиться что-то сносное. Так что молодые реформаторы своим молодым задором, энергией и решимостью столкнули страну с мертвой точки. Хоть как-то столкнули. Может быть, – тогда – без ясной конечной цели, но они приняли на себя ответственность за этот рывок в неизведанное.
Вся история России усыпана обломками несостоявшихся реформ. И нужен был совершенно особый человек, чтобы еще раз поднять в России – в условиях общего кризиса и крутого исторического перелома, крушения величайшей империи, социалистического мировоззрения, идеалов и ценностей – реформаторское знамя. И таким человеком тоже оказался Ельцин.
Выросший в партийной среде, занимавший отнюдь не последнее место в партийной иерархии, он нашел в себе мужество поверить новым людям, невероятно от него отличавшимся по возрасту, по образованию, по опыту жизни, по убеждениям и взглядам. Он рискнул опереться на людей чуждого ему сословия и принять на себя всю тяжесть их возможных и совершенных ошибок с опасностью быть проклятым современниками. Может быть, этим уравновешивается его нерешительность, которую мы так часто наблюдаем. Действительно, кто может оставаться неизменно решительным в условиях жесточайшей борьбы?
Но какие бы ошибки ни совершал Ельцин и его соратники, Россию они все-таки сдвинули с места в направлении цивилизации. А сдвинуть экономику централизованную, безынициативную, милитаризированную в сторону экономики гражданской, рыночной, ориентированной на человеческие потребности, – в историческом смысле это нечто невероятное.
…По нашей истории видно, что в России первое лицо государства – понятие культовое. Российская традиция всегда связывала время с властной личностью: эпоха Ленина, эпоха Сталина, эпоха Хрущева, эпоха Брежнева… Мы до сих пор мыслим словно бы категориями прошлого, драматично прорастающими сквозь новую реальность. Эпоха Ельцина.
До Первой мировой войны существовала реальная возможность построить в России нормальное общество, но страну обманно увели за собой большевики. Путь оборвался на стадии, когда общество еще не успело подготовиться к собственной реконструкции. Мы теперь расплачиваемся за то, чтобы вернуть Россию на путь нормального исторического развития. Расплата тяжела, а платить приходится тем, кто ни в чем не виноват. Отсюда и охватившие многих апатия, безверие, неприятие реформ. Отсюда и непонимание не просто Ельцина, хотя в его внешнем поведении в последнее время много озадачивающего, а той цены, которую требуют реформы. Причем непонимания и со стороны противников преобразований, и со стороны сторонников. Но тут уж ничего не поделаешь.
Через коррупцию, безнравственность, бездуховность, через спекулятивное предпринимательство, беспредел, карикатурную демократию, кризис культуры, экономики, общественной жизни мы наугад движемся вперед в поисках самих себя, в поисках своей человечности. Демократия, правовое государство, социально ориентированная экономика – все это останется пустыми словами, бессодержательными формулами, если россияне не станут терпимее друг к другу, не научатся сопереживать и сострадать друг другу. Если мы не признаем, что мировоззрение и философия обывателя, которые мы столько лет третировали под аккомпанемент красных барабанщиков, это и есть мировоззрение и философия жизни. Ее главная аксиома, ее центральный постулат: человек превыше всего, не он – слуга государства, а государство – на службе у человека.
На эпоху Ельцина выпало разрушение аварийной государственной структуры ради возведения площадки нулевого цикла реформаторского строительства.
Новый президент, новый лидер начнет строить новое здание. Площадка подготовлена. Остается одно – поверить в реальность цивилизованного будущего России. Я —верю.