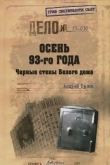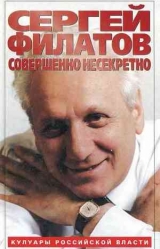
Текст книги "Совершенно несекретно"
Автор книги: Сергей Филатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
И вот 25 марта 1996 года подписи в поддержку кандидата в количестве более 1 миллиона 700 тысяч были представлены в ЦИК, а 4 апреля ЦИК зарегистрировала Б.Н.Ельцина кандидатом в Президенты Российской Федерации на второй срок. На этом закончился первый, тяжело набиравший необходимую раскрутку этап предвыборного марафона.
Официальное вступление президента в предвыборную кампанию состоялось на съезде Общероссийского движения общественной поддержки, который прошел 6 апреля в зале московской мэрии. Решение выступить именно на съезде ОДОПП далось трудно – были противники. С.Шахрай считал, что нужно выступить просто перед друзьями и соратниками, Татьяна Дьяченко долго его поддерживала. И все-таки впоследствии все согласились с вариантом, что выступление должно быть на съезде.
Перед началом съезда Борис Николаевич с неподдельным интересом осмотрел фотовыставку «Россия за 5 лет», дружески пообщался с теснившимися тут же делегатами съезда. На съезде прекрасно выступили Ю.М,Лужков, Н.С.Михалков, Б.Г.Федоров. Блестяще выступил сам президент, Он находился словно в ореоле вдохновения и полной уверенности в себе и в своей победе. И даже когда съезд закончился и все стали скандировать: «Ельцин-Ельцин», Борис Николаевич повернулся ко мне и, как будто подхлестывая зал, тоже повторял: «Ельцин-Ельцин».
Это был очень удачный старт. И те, кто сидел в зале съезда, и те, кто следил за ним по телевидению, увидели прежнего Ельцина – энергичного, волевого бойца, готового честно бороться и честно победить. С этим неослабевающим ощущением наша команда прошла дальнейший предвыборный марафон до конца. И сам Борис Николаевич вплоть до первого тура голосования не экономил ни физической, ни душевной энергии и не снижал темпов борьбы.
Но съезд понравился не всем. На оперативке при разборе его итогов было сделано много жестких замечаний: отмечены и недостатки, и упущения, и просчеты. Особенно резкую оценку дала Татьяна Дьяченко. Она усмотрела многие мелочи, на которые едва ли кто-нибудь и обратил внимание, Отметила, что неудачно была расставлена охрана, которая загораживала президента от телекамер; упрекала за пустые места в зале, хотя они были единичные, а в проходах поневоле многие стояли; ставила в вину слабые выступления, за исключением выступлений Ю.М.Лужкова и Н.С.Михалкова.
А по поводу охраны президента продолжение разговора состоялось на совете, когда президент вернулся из поездки в Краснодар. Нам были представлены две фотографии: 1991 и 1996 годов, когда кандидат в президенты Б.Н.Ельцин был, так сказать, в массах. На первой – Борис Николаевич в окружении шахтеров, которые, взявшись за руки, прокладывают ему дорогу. На второй – Борис Николаевич в Краснодаре, в плотном кольце охраны и высших должностных лиц: вице-премьеров, министров, руководителей администраций… Всего мы насчитали 15 больших чиновников!
Разговор был и крутым, и дельным – какой умеет вести президент. Он категорически потребовал, чтобы охрана находилась впредь только позади него и не вставала между ним и народом. «За границей – пожалуйста, а здесь, в нашей стране, от моего народа меня не отгораживайте». А чиновников он и вовсе просил в подобных ситуациях не приближаться к нему ближе чем на километр.
В Англии существует правило, согласно которому никто не может встать между королевой и фото– или телекорреспондентом: люди должны иметь возможность видеть в газетах, журналах и на экранах свою королеву и все знать о ней. Я однажды – при сопровождении королевы в Санкт-Петербурге – случайно оказался так близко к ней, что невольно преградил подступ корреспондентам. И тут же ко мне подошел сопровождающий из протокольной службы и попросил освободить это «неприкасаемое» пространство.
Для повседневной работы с избирателями были образованы более 10 тысяч агитационных групп, в которых насчитывалось более 100 тысяч агитаторов. В штабе ОДОПП действовали аналитическая группа, пресс-центр, центр по работе с регионами, центр по работе с политическими партиями и движениями, центр по работе с доверенными лицами.
Группу аналитиков возглавлял Вячеслав Никонов, она провела огромную работу, в том числе подготовила множество аналитических материалов на самые злободневные и актуальные темы. Материалы эти тут же отправлялись в регионы для использования их нашим активом и средствами массовой информации. Поработав бок о бок с Вячеславом Алексеевичем, я так и не взял в толк, почему кто-то настойчиво пытался дать ему отрицательную характеристику по прошлой предвыборной кампании. Это талантливый, вдумчивый, хорошо знающий свой предмет специалист. Он возглавляет фонд «Политика», куда протоптали дорогу ведущие политики нашей страны и зарубежья. У него есть и своя профессиональная команда.
Исключительно мощно провели кампанию доверенные лица. 117 человек работали непосредственно каждый в своем регионе, а 83 – из федерального центра – были закреплены за целой группой регионов. Это были профессионалы по отраслевым направлениям, военные специалисты, артисты, музыканты, певцы, писатели и ученые, очень активно выступавшие в поддержку президента. Трудно подсчитать количество поездок, встреч, бесед, споров, которое пришлось на каждого из них. У некоторых такие «мероприятия» исчисляются трехзначными цифрами.
Главными направлениями действий доверенных лиц были прямое общение с избирателями, контакты со средствами массовой информации, агитационная работа. Каждое утро эта информация докладывалась на оперативном штабе – и как следствие немедленно предпринимались шаги по реализации всех дельных предложений. Вначале поток сообщений в основном касался производственных проблем, задержек зарплаты и пенсий. И тут мы судили о действенности мер, принимаемых президентом и правительством. Но постепенно темы сообщений переходили в область практических взаимоотношений с избирателем, и на первое место стали выходить вопросы полемики, наглядной агитации, помощи регионам, дополнительные поездки доверенных лиц и авторитетных политических деятелей.
Девизом ОДОПП, начиная с Учредительной конференции, стал лозунг: «Ельцин – наш Президент». В последующем он стал лозунгом и всей избирательной кампании. К тому времени совершенно отчетливо проявилась агрессивная концепция КПРФ, которая была традиционно ориентирована на отмщение тем, кто «сотворил со страной такое».
Из сообщений СМИ:
«В оставшееся до выборов время нам предстоит стать свидетелями грандиозной битвы коммунистов и демократов. Но если в цивилизованном мире смена президента не грозит обществу сменой строя или режима, то нам придется делать выбор между «светлым вчера» и «демократическим завтра» («Коммерсант-Daily», 15 февраля 1996 г.).
Концепции вечной войны нам нужно было противопоставить концепцию консолидации и согласия в расколотом обществе, созидательного мира и продолжения реформ. Не случайно поэтому основным компонентом агитационной работы стал упор на открытость и правдивость, власти по отношению к прошлому, настоящему и будущему в стране. Сильное воздействие на избирателя оказали и брошюры «Пятьдесят семь вопросов избирателей Президенту России» и «Президент Ельцин: 100 вопросов и ответов», в которых Борис Николаевич откровенно, порой довольно резко, в своей манере отвечает на те вопросы, которые доныне волнуют и будоражат общество, на которых и по сей день зачастую спекулирует оппозиция.
Случались недоразумения, связанные, как правило, с неверным восприятием на местах направляемой из центра информации. Так, ряд рекомендаций, изложенных в «Стратегии избирательной кампании», был кое-кем воспринят как запрет на критику КПРФ и ее кандидата, как пораженческий отказ от наступательной тактики в предвыборной агитации.
Пришлось срочно давать разъяснения, что «Стратегия» исходит из положения, по которому критика должна быть не огульной в отношении коммунистов вообще, к числу которых принадлежит значительная часть наших сограждан, а носить адресный характер. Ее прежде всего следовало нацелить на политические провалы и преступления верхушки КПСС /ВКП(б) в период пребывания у власти, на отсутствие у КПРФ реальной программы, на контрпродуктивную деятельность нынешних коммунистов в Госдуме. Была нами особо отмечена и позиция КПРФ, ведущая к резкой дестабилизации обстановки внутри страны, к нарастанию экономического хаоса, к обострению международной обстановки.
К моменту проведения Учредительной конференции еще не было дурацкой формулы, придуманной Шахраем словно бы для провала предвыборной концепции, – не вести антикоммунистическую пропаганду. Эту ошибочную установку впоследствии скорректировала сама жизнь. В регионах нас начали обвинять в близорукости, в трусости, в беспринципности – в общем, чуть ли не во всех смертных грехах и предрекали нам полный проигрыш. На конференции после доклада делегаты потребовали размножить его текст и раздать каждому из присутствующих. Так началось наше письменное общение – спасибо Шахраю! – с регионами.
По мере развертывания предвыборной кампании происходил лукавый дрейф Зюганова в сторону рыночной экономики и демократических институтов. Видимо, почувствовав, что со старорежимной программой КПРФ выборы не выиграть, он стал отходить от нее, и уже трудно было понять, чьим кандидатом в президенты является генсек Зюганов. Еще раз наши коммунисты продемонстрировали миру, что ради захвата власти они готовы на все – и на жонглирование лозунгами, и на шантаж общественного мнения реальной возможностью уличных беспорядков, и на любые союзы и компромиссы, сулящие привлечение лишних голосов. А в основе всего, как всегда, были большевистская ложь вообще и обман своего избирателя в частности.
Но перечисленными методами исчерпывался далеко не весь тактический арсенал зюгановской команды. Как только активно заработали наши штабы, ОДОПП, доверенные лица, началось их запугивание, посыпались угрозы по телефону и в письмах. Кое-кому даже пристраивали похоронные венки на входные двери,
Наша команда во главе с Борисом Николаевичем могла противопоставить всей этой разнузданности только правдивую и открытую свою позицию. Людям нравились откровенные беседы о том, что произошло со страной за последние годы, каковы реальные итоги реформ, что удалось в них, а что нет, каковы перспективы намеченных нами направлений. Поначалу такой разговор, как правило, складывался тяжело, подчас на грани скандала и срыва на крик, но затем он постепенно входил в деловое русло, и уже слышались вопросы: «Почему никто об этом не говорил с нами раньше? Почему никто нам ничего не объяснял? Почему вы спали до сих пор? Почему вы молчали?..»
На наших встречах с избирателями непременно присутствовали и сторонники Зюганова. Вели они себя в зависимости от настроения аудитории – иногда открыто скандалили, иногда что-то выкрикивали из зала и пытались «захлопывать» выступающих, а иногда исподтишка посылали в президиум записки, заранее заготовленные и отпечатанные под копирку. Заканчивались подобные вы ходки для них всегда печально: аудитория вставала на сторону президента, и сторонники Зюганова либо разочарованно покидали зал сразу же, либо выходили притихшими из него вместе со всеми в конце собрания.
Задача, которую мы себе поставили (вести агитацию «от дома к дому» и «от двери к двери»), в начале кампании никак не реализовывалась. Мы уж было подумали, что демократы разучились вести такую важную работу. Но тут сказывались и тяжелая социально-политическая обстановка, и – на ее фоне – откровенно лживая, но напористо-агрессивная пропаганда КПРФ, и криминогенная ситуация – все это породило тяжелую психологическую атмосферу в обществе.
В тот период было попросту небезопасно ходить по квартирам: кого-то не пускали на порог, кому-то угрожали, кое-кого, как рассказывали, и побили. Лишь в конце апреля – в мае обстановка стала резко меняться; благодаря действиям президента и его команды, она день ото дня становилась настолько благоприятной для нас, что Зюганов даже убрал из своих высказываний грозные намеки на уличные и силовые выступления.
Но по-прежнему ему вредило главное – коммунистами не была подведена черта под прошлым, что в перспективе угрожало нашему обществу вечным пребыванием в заколдованном круге конформизма. КПРФ провозглашает себя преемницей КПСС-ВКП(б)? Какие оценки советского периода мы услышим от коммунистов? А такие, что самым худшим временем они считают, оказывается, хрущевскую «оттепель» с осуждением культа личности, и «Сталин – это победа» для них остается по-прежнему основным лозунгом, под которым их предшественники репрессировали практически всю страну, цинично убеждая нас сегодня, что избавлялись таким образом только от одних уголовников.
Если коммунисты не отказываются от своих убеждений и по сей день, то общественное мнение, по логике вещей, должно совершить свой суд над их позицией, над тем, что произошло в стране в большевистский период.
Для того и надо объединять все демократические силы, чтобы не допустить больше прежнего разгула мракобесия. Конституционный суд должен добиться выполнения своего решения от 30 ноября 1992 года. Люди, ответственные за появление партийных организаций на предприятиях, в учебных заведениях и т. д., должны быть наказаны. Наконец, если призывы компартии к оружию, насилию, разжиганию ненависти и национальной розни будут продолжаться в прежнем духе, то этим должна заниматься прокуратура. Наше издерганное общество заслужило право на спокойную жизнь.
К началу президентской избирательной кампании сложилась ситуация, обратная обстановке массовых демократических акций периода 1989–1991 годов, когда митинги и демонстрации, организуемые для противодействия находящейся у власти КПСС, выводили на улицы по призыву демократов десятки и сотни тысяч людей.
Со временем и КПРФ оценила те возможности влияния на сознание людей, которые оказывают массовые акции, но уже под ее, под агрессивными лозунгами, направленными против правительства и лично президента.
Максимально используя преимущества демократии, оппозиция сумела добиться положения, при котором улицы городов стали принадлежать ей. Ни один значительный для коммунистов день не проходил без митингов и демонстраций в Москве и других крупных городах России. Постепенно стало привычным видеть на экранах телевизоров красные флаги над искаженными злобой лицами коммунистических лидеров.
В такой вот обстановке мы заново осваивали науку завоевания улиц городов, и прежде всего улиц и площадей Москвы.
Приходилось учитывать особенность ситуации, связанной с усталостью общества от затянувшихся реформ, с неудовлетворенностью значительной части населения своим материальным положением и просто с людской апатией, грозящей наступлением полного безразличия к происходящим в России сложным политическим процессам.
Но по мере приближения к выборам ситуация в стране постепенно менялась, политический климат день ото дня становился все благоприятнее по отношению к президенту. Его рейтинг заметно повысился, затем, по самым разным оценкам социологов, произошло пересечение рейтинга Ельцина с рейтингом Зюганова, а дальше – рост и отрыв от последнего.
Весь ход событий последней недели первого тура избирательной кампании создал ощущение: выборы уже состоялись – осталось только проголосовать. У нас появилась уверенность в победе, хотя расслабляться – и это тоже понимали все – было нельзя. Поэтому кандидаты на пост президента, их команды резко усилили контроль за ходом голосования, а также заострили внимание на подготовке своих действий в новой политической ситуации. Образовавшийся узел взаимного недоверия стянулся на проблемах организации выборов и подсчете голосов. Обменявшись резкими заявлениями по поводу «боевых отрядов КПРФ для корректировки выборов» и «секретного оружия президента», обе стороны в конечном счете объявили о создании двух параллельных систем контроля за ходом выборов на местах.
Наступательное продолжение своей избирательной кампании позволило Б.Ельцину буквально в ее последние дни и часы провести эффективные встречи с избирателями в Татарстане, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Новочеркасске, выступить на многолюдной манифестации своих сторонников в Москве с хорошо воспринятой аудиторией речью. Страна получила возможность еще раз убедиться, сколь мощные силы стоят за нынешним Президентом России.
Да и основные темы указов Ельцина, подписанных за период предвыборной кампании, решали самые насущные проблемы, беспокоившие общество, и тем самым выбивали оружие из рук противников.
Некоторые говорили, что Ельцин «крадет» у оппозиции предлагаемую ею политику. Это неправда: оставаясь на тех же самых идеологических позициях, что и раньше, он обратился к реальным проблемам государства, доказывал, что забота о слабых (указы о нормализации выплаты зарплат и пенсий, о компенсации пострадавшим вкладчикам, реанимирование Закона о ветеранах), попечение о мире, о величии и силе Отечества (указ о переходе к двухтысячному году к профессиональной армии, указ о демобилизации призывников, прослуживших полгода в «горячих точках», меры по восстановлению потенциала и дальнейшему развитию оборонной промышленности), радикальные шаги по прекращению чеченской войны – все это ни в коем случае не прерогатива коммунистов, которые в итоге лишались главных аргументов в предвыборной борьбе, оставаясь лишь с голой идеологией, неспособной эффективно воздействовать на избирателей. Именно в этом заключалась причина резкого роста рейтинга Ельцина, его популярности: перед страной предстал новый человек, ведущий новую политику…
Итоги первого тура показали явное лидерство Бориса Николаевича; они подтвердили существующий раскол в обществе: ведь 46 регионов проголосовало за Ельцина, но при этом 43 – все-таки за Зюганова; они определенно продемонстрировали абсолютную дифференциацию избирателей городов и деревень: Ельцина поддержали в крупных городах, Зюганова – в сельской местности; Ельцин проиграл в некоторых мусульманских республиках, несмотря на вроде бы благоприятное для него развитие предвыборной кампании и активную поддержку руководителями этих республик.
После первого тура произошло событие, которое многие политики и журналисты охарактеризовали как попытку государственного переворота. Желание ближайшего ельцинского окружения – Коржакова, Барсукова, Сосковца – увести президента от выборов возникло давно, и к этому, казалось, складывались благоприятные условия: низкий рейтинг Бориса Николаевича, плохое состояние здоровья, недостаточная эффективность реформ. Эти трое разрабатывали различные планы, распускали всевозможные слухи, готовили объемные аналитические материалы, дабы психологически подтолкнуть Ельцина и общество к мысли о нецелесообразности выборов. Конечно, им нужен был не Ельцин как таковой, а статус-кво, который он должен был обеспечивать, оставаясь президентом, причем максимально подконтрольным президентом.
Эта троица понимала, что в союзе с ними Ельцину будет сложнее победить легитимным путем. Поэтому не случайно последовало предложение Коржакова перенести выборы, неспроста зародилась идея примирить Ельцина с Зюгановым, авторство которой, по слухам, принадлежит руководителю Службы безопасности президента.
Однако Б.Н.Ельцин предпочел закулисным интригам открытую игру. Он проявил и мудрость, и твердость, понимая, что только законность гарантирует ему и собственную власть, и личную безопасность. Он еще раз подтвердил, что был и остается гарантом Конституции и законности отнюдь не формально; настоял на проведении и думских выборов, и выборов президентских.
Но вопрос об отмене выборов вновь возник после удачного для президента первого тура голосования, возник, видимо, подогретый карьерной агонией этой троицы, решившейся на скандал вокруг коробки из-под ксерокса с 500 тысячами долларов США,
Была тревожная ночь с 19 на 20 июня, когда еще по передачам на ТВ и радио невозможно было что-либо понять, но А.Лебедь, только что назначенный секретарем Совета Безопасности, и А.Чубайс уже мчались к президенту, дабы предотвратить самое страшное – срыв выборов президента. Утром, услышав в машине о ночном скандале, я позвонил А.Чубайсу и предложил свою помощь, а если нужно, и участие во встрече с президентом. Анатолий Борисович поблагодарил, сказал, что пока, похоже, этого не требуется. Каким-то упавшим голосом поведал, что ОНИ (то есть Коржаков и Барсуков. – С.Ф.) уже там, у президента. Представляю состояние Чубайса, когда они с С.Лисовским появляются у президента после того, как там побывали Коржаков и Барсуков.
Результата этого скандала мы все ждали с волнением и нетерпением. И вот сообщение: Ельцин отправил в отставку вице-премьера Олега Сосковца, главу ФСБ Михаила Барсукова и начальника Службы безопасности Президента Александра Коржакова, которого считали ельцинской тенью. Борис Николаевич подтвердил свою репутацию политика, готового на самые неожиданные и нетрадиционные шаги. С точки зрения его имиджа избавление от людей, которые часто дискредитировали президента, – шаг безусловно эффектный. Как опытный политик, Ельцин не мог не понимать, что они не принесут ему дополнительных голосов во втором туре.
Но после первого тура случилась беда – у президента произошел инфаркт. Он иногда появлялся на людях, участвовал в совещаниях, но по его виду и бледности было видно, что он очень нездоров. В разгар предвыборной кампании, когда победа уже была в наших руках, как-то не хотелось думать о плохом, верилось, что президент отдохнет и поправится. Но это состояние, как мы знаем теперь, затянулось на два года.
В те дни приехал ко мне Олег Попцов. Мы, как обычно, долго беседовали и обошли все горячие темы последних дней. Обсудили и опасную тогда тему дальнейшей судьбы и деятельности группы Коржакова, На вопрос Олега Максимовича, чем она будет заниматься в ближайшее время, я предположил, что скорее всего пустит в ход компромат, которым обзавелась на всех и вся в окружении президента. Он возразил: Сосковец и Барсуков заниматься этим не будут, а вот Коржаков, пожалуй, поквитается и с президентом. И он оказался прав.
Перед вторым туром работа ОДОПП, его региональных отделений, «Народных домов» и доверенных лиц была сориентирована на районные города и сельскую местность. Полным ходом началась реализация долгожданной программы «Земельная реформа», в основу которой лег – вот уж ко времени так ко времени! – указ президента о земле.
Кроме того, началась кампания по привлечению к совместным действиям избирательного актива Г. Явлинского и А.Лебедя. (В конечном счете с «Яблоком» Явлинского так ни до чего и не удалось договориться, а с властолюбивым Лебедем – лишь на определенном этапе и, как известно, лишь на небольшой срок.) Команды Лебедя во всех регионах вошли во взаимодействие с нашими штабами, а интеллигентные активисты Явлинского – везде, кроме четырех регионов, где местные демократы сами отказались от взаимодействия с ними.
Большое внимание на последнем этапе мы уделили формированию групп актива на день выборов, задачей которых было – не допустить возможности фальсифицировать итоги голосования. Усилили мы контроль и за общественно-политической обстановкой вокруг избирательных участков.
Начиная с утра предвыборного дня штаб ОДОПП установил круглосуточное дежурство в центре и связь с регионами. Доверенные лица, руководители ОДОПП, лидеры партий и общественных организаций, журналисты, активисты не отходили от телефонов и факсов. В дни выборов – первого тура 16 июня и второго тура 3 июля – работал пресс-центр ОДОПП, при котором было аккредитовано более 1000 иностранных и 700 российских журналистов. На пресс-конференциях, проводившихся практически ежечасно, выступали руководители штаба, аналитики, политологи, социологи, регулярно выпускались пресс-релизы. Вся информация, которая поступала из регионов о нарушениях и ходе голосования, передавалась в пресс-центр. За 15–16 июня (первый тур) и 2–3 июля (второй тур) в штаб ОДОПП из регионов поступило более 500 информационных сообщений о ходе подготовки к голосованию и ходе самого голосования.
И вот 3 июля 1996 года, в час ночи, на пресс-конференции в помещении ИТАР-ТАСС я почувствовал по настроению журналистов, что победа Б.Н.Ельцина пришла. Это подтверждалось и моими несложными расчетами. В пресс-центре было многолюдно и шумно всю ночь. Журналисты брали интервью у каждого нового посетителя. Нас же теперь интересовал вопрос о составе нового правительства, о судьбе ОДОППа, «Народных домов», незаконченных реформ, о будущем всей многострадальной России. Но главное, как мне кажется, чего достигли эти выборы, так это того, что общество ушло от гражданской войны и выразило поддержку президенту, доверив ему дальнейшее управление государством и продолжение реформ, так необходимых стране. А затем последовали и официальные результаты.
Из Постановления ЦИК РФ:
«…Число избирателей, внесенных в список, 108 600 730.
Число принявших участие в голосовании, 74 706 645.
Число голосов, поданных за Ельцина Б.Н., 40 208 384.
Число голосов, поданных за Зюганова Г.А., 30 113 306.
Центральная избирательная комиссия постановляет: Признать выборы Президента Российской Федерации 3 июля 1996 года действительными.
Считать избранным на должность Президента Российской Федерации на второй срок Ельцина Бориса Николаевича».
(По-моему, за «второй срок» поплатился своим местом Н.Т.Рябов. Не понравилось некоторым близким президента, когда Николай Тимофеевич подчеркнул это особо при вручении удостоверения Борису Николаевичу в ЦИК.)
Затем были встречи президента со штабом, встречи с доверенными лицами. Были фотографии на память. Была инаугурация Бориса Николаевича. Предстояло пережить еще два тяжелых года борьбы за его здоровье, за сохранение реформ и преобразований. Но Борис Николаевич еще раз доказал, что человек он сильный.
Из сообщений СМИ:
«Во все переломные моменты последнего десятилетия меня поражал человеческий талант Бориса Ельцина», – эта вынесенная в заголовок цитата – суть содержания интервью режиссера театра «Ленком» М.Захарова газете «Российские вести». В нем известный режиссер и член Президентского совета рассказывает о своих встречах с Президентом России, неоднократно убеждавших его в человеческой и политической незаурядности главы государства».
Прошли, отодвигаясь все дальше в историю, вторые выборы Президента России, на которых убедительно победил Борис Николаевич Ельцин. Его команда ликует, но на душе пасмурно и тревожно: многое еще предстоит сделать, а трудностей впереди видится немало, да и в нескольких шагах позади тоже не все просто. Ошеломили кадровые перестановки. И мучает вопрос: неужели президента всегда нужно вот так встряхивать, чтобы принимались очевидные для всех решения?
Что же все-таки показали выборы президента, чему они должны были и смогли всех нас научить?
Во-первых, выборы выявили огромную заинтересованность в них людей и понимание каждым из нас того, что нужно решение принимать самостоятельно, потому что выбираем не просто президента, а будущее России. И уже в первом туре стало ясно, что народ за реформу и новое демократическое развитие государства, ибо против Зюганова и его программы проголосовало в первом туре более 80 процентов избирателей.
Во-вторых, определилось очень неоднозначное отношение к президенту – многие избиратели пребывали в лихорадочном поиске другого кандидата – не Зюганова, но и не Ельцина. Причины этого лежали на поверхности: трудности реформ, разгул преступности, непоследовательность, порой непредсказуемость действий президента, а порой и его бездействие, особенно в последние годы, иногда полное расхождение его слов с его же делами, приводящее к устойчивому убеждению, что власть слаба и поэтому правит всем, может быть, вовсе и не Ельцин. Такой взгляд высказывала интеллигенция.
В-третьих, результаты голосования показали, что наше и без того больное общество в опасной пропорции расколото: в первом туре соотношение регионов, проголосовавших за Ельцина и Зюганова, – 46:43. Конечно, требуется более глубокий анализ причин такого волеизъявления, простые и поспешные заключения здесь неуместны.
Некоторые пытаются объяснить такие результаты тем, что против Б.Н.Ельцина проголосовали регионы, в которых уже состоялись выборы губернаторов, и, следовательно, виновны те, кто эти выборы инициировал.
В том, что такое объяснение абсурдно, легко убедиться, если посмотреть внимательно на итоговую таблицу голосования. Из 13 глав республик и администраций, которые баллотировались в декабре 1995 года, избрали 10 действующих. Этим народ подтвердил безошибочность их назначения в свое время президентом.
Вокруг вопроса о выборах губернаторов развернулась скрытая, но неутихающая война: одна точка зрения сражающихся (ее, в частности, придерживался А.И.Казаков, работавший тогда начальником регионального управления) заключалась в том, чтобы держать жесткую вертикаль власти и ни в коем случае не проводить выборы губернаторов хотя бы до выборов Госдумы. Казакова почему-то особенно не устраивало такое положение, что в какой-то период перед губернаторами должен стоять на трибуне, как школьник, премьер правительства, тогда как должно быть наоборот – именно премьеру полагается держать губернаторов в подотчетном состоянии.
Другая точка зрения (ее разделяли некоторые здравомыслящие губернаторы, и я их, как мог, поддерживал) состояла в том, что в тех регионах, где готова законодательная база, где отсутствовала конфронтация между администрацией и законодателями, более или менее благоприятна социально-экономическая ситуация, где налицо поддержка избирателей, где сформированы местные элиты в виде как финансово-промышленных групп, так и научной и творческой интеллигенции, – там выборы необходимо проводить до избрания Госдумы.
Чем была продиктована вторая позиция? В одном из разговоров с Борисом Николаевичем я объяснил ее тем, что в регионах, особенно в дотационных (а их, как известно, в России на тот период было 89 минус 12, то есть 77), начали складываться элитные группы, проявлявшие интерес к будущему развитию региона. Они хотели работать с энергичной, надежной местной властью, которой к тому же доверяет центр. Доверие же центра они рассматривали как его разрешение, его «добро» на проведение выборов главы администрации.
Если брать проблему в целом – на перспективу развития регионов как самостоятельных, прибыльных и сильных территорий, – то, безусловно, нужно идти и на выборы губернаторов, и на расширение их прав уже сегодня.