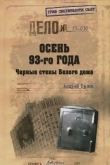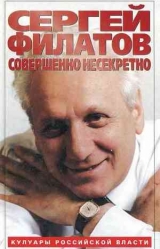
Текст книги "Совершенно несекретно"
Автор книги: Сергей Филатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
В-четвертых, и это, может быть, самое главное, – люди жаждут ясности в вопросах социального обеспечения. Мало кто понимает, что мы пока еще проходим не стадию реформ, а стадию глубокого экономического кризиса. Именно поэтому у нас нет возможности упорядочить, а точнее создать стройную систему социальных гарантий. Но коммунистам удалось, благодаря бездействию самой власти, внедрить в сознание миллионов избирателей мысль о том, что эта система в стране якобы существовала, да вот теперь полностью разрушена, и в развивающемся, дескать, диком рынке нет места социальным гарантиям.
Вообще поражает та жестокость, с которой лидеры КПРФ создали свою концепцию предвыборной кампании. Разработали они ее классически, с учетом особенностей нашей истории и нашего все еще не пришедшего в себя народа, воспитанного на образах врага и ставшей уже привычной внутренней розни. Концепция КПРФ такова: к власти пришли антинародные силы, ставленники империализма, которые разрушили страну, довели людей до нищенского существования, поставив их на грань уничтожения, – и если вы, избиратели, вернете власть народу, то мы, коммунисты, быстро наведем прежний порядок в стране и вновь сделаем ее богатой и могущественной. Очень знакомая песня, но, увы, и очень опасная! Именно эта концепция заставила одних избирателей объединиться вокруг КПРФ, но эта же концепция и просматриваемая за ней возможность возврата к старому режиму заставили объединиться других – всех думающих людей, всю подлинную интеллигенцию – для защиты демократии и свободы.
Глава 11. ЕЛЬЦИН
Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов,
Я их припомню наизусть —
Не по готовым счетам.
Мне проку нет – я сам большой —
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.
Александр Твардовский
Часто, беседуя с Александром Николаевичем Яковлевым о насущных проблемах, мы обращаемся к фигуре Ельцина. Однажды у нас состоялся такой разговор:
– Я вот припоминаю его здесь, в политбюро, – неторопливо начал Александр Николаевич. – Он ведь никогда не был яркой личностью, правда, надо отдать ему должное, в Москве ему удалось кое-что сделать. А так, в большинстве случаев, его трудно было понять. Он ведь ортодокс. И еще. Очень заметно, что он энергичен, когда – первый, но если не первый – моментально скисает.
– Надо еще суметь стать первым, – возразил я. – Почему-то именно на нем остановила свой выбор судьба, именно его так мощно, как никого в то время, поддержал народ, сначала в Свердловске, а затем и в Москве, избрав народным депутатом. Я часто думаю о нем как о феномене, и у меня не все вмещается в мозаику его портрета. Кажется, вот, все рядом, на виду, весь он, как на блюдечке, присмотришься – ан нет, все не так просто, многое видится в нем загадочным, кое-что – словно на замке. Да и сам портрет можно написать и как сугубо положительный, и как весьма отрицательный. И, видимо, не случайно, хотим мы того или не хотим, граница раскола общества проходит через наше отношение к Ельцину. В отрицательном портрете преуспела оппозиция. В портрете больного – СМИ. Демократы его рассматривают как гаранта реформ и преобразований. Коммунисты – как разрушителя. Личность эта объемная и очень противоречивая. Как-то ехал в транспорте, разговорился со мной один рабочий. «Я, – говорит, – за Ельцина голосовал оба раза, мы от него многого ждали, поддерживали его. А что он сделал? Сейчас он стал главным мафиози в стране». Вот как меняются оценки людей. Почему? То ли не хотят ничего анализировать или действует пропаганда оппозиции, то ли смотрят и оценивают по-своему, по-простому. Ведь такая перемена отношения к нему в стране повторялась несколько раз. Особенно сильно она проявилась в год последних президентских выборов. Сложная натура…
– Да, это верно, – задумчиво подтвердил Яковлев.
– Мне хочется понять его объективно, разобраться в нем, начав с его человеческих качеств, с того, что лежит вроде на поверхности. Тогда яснее вырисовывается портрет политический, деловой… Мне кажется, Ельцин внутренне очень одинок, но при этом никого не подпускает к себе близко, что называется, держит дистанцию, как будто боится кому-то приоткрыть уголок его личной, потаенной жизни или что кто-то прочитает его сокровенные мысли. Наверное, поэтому он и старается говорить только о делах, при этом исподволь проверяя реакцию собеседника на задуманное им или на свои высказывания. Но решение вслед за этим может последовать самое неожиданное, хотя я часто ловил себя на мысли, что в том или ином принятом им решении присутствуют, скажем, отголоски нашего разговора. У вас нет такого чувства?
– Пожалуй. Но он скорее представляется мне человеком абсолютно непредсказуемых поступков и действий.
– Да, это так. Но в основе их обычно лежит забота не о деле, а об укреплении своей власти, подтверждение собственного образа властелина. Вы заметили, что когда им предпринимаются неожиданные, особенно неудачные шаги, в обществе начинают ругать не его, а некое его окружение, причем обычно безымянное. Скорее же всего такие решения и действия исходят от него самого. Он действительно, как правило, человек непредсказуемых действий и выводов. Однако коренные решения чаще всего заранее обдумывает, как это было с введением института президентства, с Указом № 1400, с Чечней, с отставкой Черномырдина. Он, по-моему, редко прогнозирует последствия своих начинаний, более полагаясь на собственную интуицию и на людей, которые могут и должны реализовать заявленное им. На разных этапах таковыми были: Хасбулатов и Бурбулис – при введении должности президента в России, Руцкой – при введении осенью 1991 года чрезвычайного положения в Грозном, Коржаков – при реализации Указа № 1400, Грачев и Ерин – в Чечне в 1994 году, а если все идет из рук вон плохо – появляется Шахрай или кто-то другой, и начинается импровизация. Такое впечатление, что именно в такой «плохой» период наступает эпоха и стихия Ельцина – он становится энергичен, безжалостен, решителен. Здесь хорошо просматривается желание выйти за рамки закона, так как закон его сдерживает, повязывает в действиях, а ему хочется развернуться по-пугачевски, с петровской широтой.
– Это ты хорошо подметил, я, пожалуй, возьму на заметку.
– По-моему, также он очень боится и не любит пристальных совестливых глаз, особенно если что-то в них читается о нем. Держится от таких людей подальше. Но, увы, любит лесть, любит, когда подхваливают, в таких случаях раскрывается больше, становится почти откровенным.
– Но зато жестоко и без жалости сдает друзей и расстается с соратниками, почти никогда потом о них не вспоминая.
– Да, это у него есть. Наверное, обидчив, злопамятен, но публично этого не показывает. Мне не однажды случалось это ощущать на себе. Тут, впрочем, иногда бывают и срывы, как в случае с Ю.М.Лужковым, когда президент не смог утаить свое недовольство по поводу намерения Юрия Михайловича выдвигаться в 2000 году на пост Президента России. Или такой пример. Однажды в поездке в Германию я встретился с писателем Владимиром Карповым. Он только что закончил книгу о Жукове, которую подарил мне и президенту. Мы поговорили о житье-бытье. Мне была эта встреча очень приятна, так как я много слышал о Карпове, в том числе и от отца, хорошего. Читал его книги о генерале Петрове и о маршале Жукове. Владимир Михайлович обратился ко мне с просьбой – походатайствовать перед президентом о Звезде Героя России. Ему, как он утверждал, по всем канонам войны положено иметь две Звезды (по его словам, он взял в плен более 76 «языков», а за каждые 36 давали Героя). Но что-то случилось в наградной бюрократии, его оклеветали, и вторую Звезду он тогда не получил. Как раз к 50-летию Победы, считал Карпов, это было бы к месту. Вот с этим я и пришел к президенту. Он поморщился и отказал. Я понял, что президент таит на него какую-то обиду или что-то знает, неведомое мне.
– Да, пожалуй, это логично.
– И еще. В личном разговоре корректен, тон разговора мягкий, даже вяловатый, никогда не ругается матерными словами, а по телевидению и радио, на публике – совсем другой: напористый, твердый, порой грубоватый. Этот образ поддерживает и его окружение. Идея такова: «Ельцин такой был, такого любил народ».
– Все это верно, но чего-то все-таки не хватает в твоей штриховой зарисовке, нет какой-то малой изюминки, вокруг которой этот образ лепился бы полностью.
– Да? А может быть, мы знали не одного Ельцина, а нескольких? Может быть, он от природы мимикричен, потому и разный на разных этапах жизни?
Впервые я обратил внимание на Ельцина, когда он еще работал в Свердловском обкоме КПСС. На телевидении тогща открыли новую программу ·– встречи телезрителей с первыми лицами регионов. По тем временам это было что-то новое, прогрессивное, и с Ельцина начиналась серия таких передач. Видно было, что на экране – партийный функционер, но вместе с тем многим импонировали его подкупающая открытость, энергия, хорошее знание предмета, о котором он свободно говорил.
Но потом, на волне перестройки, Борис Николаевич стремительно оказался в Москве, в кресле секретаря горкома партии и кандидата в члены политбюро ЦК КПСС. Он быстро обратил на себя внимание москвичей (это было немудрено после В.Гришина, которого Москва не любила да и не знала, а если помнила, то по обилию помпезных торжеств), постоянно, как и вся страна, испытывавших неудобства от обвального дефицита товаров, неустроенности жизни, транспортных проблем. Сначала Ельцин отвлекал москвичей от трудностей перестройки, устраивая для них пышные ярмарки, праздники города, гулял «инкогнито» по магазинам и ездил в обычном троллейбусе, чтобы «знакомиться с жизнью и бытом простых трудящихся». Кроме того, москвичей прельщали его мобильность, желание вникнуть во все детали московской жизни и найти разрешение многих проблем столицы.
Добавим к этому фундаментальную хватку в кадровой политике: чисто по-партийному, имея неограниченные полномочия от ЦК, он обратил свое внимание на директоров крупных предприятий и институтов (кстати, и директор нашего НИИ, только-только начавший овладевать искусством управления в науке, был тогда же переброшен в секретари райкома, а затем и в секретари МГК КПСС); приплюсуем резкую критику существующих порядков, точнее, беспорядков; активное привлечение союзных республик на рынки Москвы и, конечно же, многочасовые встречи с активом.
Очень действенно ему помогала в работе газета «Московская правда», редактором которой в то время был Михаил Никифорович Полторанин – талантливый журналист, неугомонный, смелый и в чем-то авантюрный организатор. Этих двух могучих людей объединяло много общего. Не случайно Полторанин стал одним из влиятельнейших лиц и в последующей деятельности Бориса Николаевича.
И вот 1987 год – сенсационное выступление Ельцина на политбюро, где он обвинил генсека Горбачева, по сути, перетащившего его в Москву, в торможении перестройки. Поскольку Ельцин задел и Раису Максимовну, пути к компромиссу с Горбачевым у него не оставалось: по советской традиции Ельцина «разобрали на горкоме», предварительно доведя до сердечного недуга, и отправили на должность министра в Госкомитет по строительству и архитектуре.
Начало гонения на Ельцина и попытки разделаться с ним старыми советскими методами – отодвинуть в небытие – породили другого, второго, Ельцина. Именно в это время многим стало очевидным, что общество уже не то, оно меняется, прозревает и с ним трудно играть в большевистские прятки. Вот потому-то все связанное с Ельциным – борцом-одиночкой за справедливость в душных кабинетах ЦК КПСС – вдруг стало остро интересовать и москвичей, и свердловчан, и других сограждан. Борис Николаевич начал часто выступать на митингах в Лужниках. Его главным коньком стала борьба с привилегиями. Но о серьезных преобразованиях он заговорил позднее, уже будучи в Верховном Совете РСФСР. Тексты его выступлений распространялись чуть ли не подпольно, и, может быть, благодаря и Ельцину в том числе, начала приоткрываться завеса над тайнами пленумов ЦК и политбюро, гласность начала просачиваться на страницы газет…
Вступала в свои права новая эпоха, когда массы почувствовали свою силу и порой с горячностью пытались ее реализовать, как правило, в плане противодействия власти. Это особенно сильно проявилось на выборах народных депутатов – сначала Союза, а затем и РСФСР. Может быть, именно поэтому среди тех и других было не очень густо профессиональных законодателей, но преобладали политические деятели, техническая, научная и творческая интеллигенция, общественники – все те, кого люди охотно слушали, поддерживали, кому верили. Но законы делать они не умели. Все законопроекты готовились в кабинетах ЦК КПСС. Уже тогда москвичи и свердловчане связали выбор нового пути России с Борисом Николаевичем.
Будучи народным депутатом и членом Верховного Совета СССР, Ельцин объединился с интеллектуалами из Межрегиональной депутатской группы, куда входили такие яркие фигуры, как А.Д.Сахаров, Ю.Н.Афанасьев, Г.Х.Попов, С.Б.Станкевич, А.А.Собчак, Ю.Д.Черниченко, Г.В.Старовойтова и многие другие. И хотя Ельцин был ими принят не сразу, но с этого времени начался третий Ельцин – тот, каким он вошел в историю, – яростный антикоммунист, реформист, борец за демократию. Кульминацией этого периода его жизни были избрание его российскими депутатами Председателем Верховного Совета РСФСР, избрание народом – первым Президен том России.
Подавление мятежа ГКЧП в августе 1991 года, подписание Беловежского соглашения, создание СНГ после развала Союза и начало реформ зимой 1992 года – весь этот период прошел для него в жесткой борьбе с ЦК КПСС, союзным руководством и парламентом, а с первых дней экономической реформы в России началось его противостояние с Верховным Советом РСФСР, которое возглавил Р.Хасбулатов. Из союзников реформ часть законодателей превратилась в их противников. Они добились смены Е.Гайдара на посту премьер-министра и повели дело к ограничению полномочий президента и к его импичменту.
Конечно, многому мешало состояние здоровья пре зидента и его загадочный недуг, о котором очень много говорили и писали, Этот недуг старательно скрывался, и мы все, кто находился рядом с Ельциным, могли судить об этом, следя за СМИ и выступлениями лидеров оппозиции. Меня не раз тянуло поговорить об этом с президентом, но мешало отсутствие прямых поводов. Мешали слишком частые и неожиданные его отсутствия, незапланированные отъезды или внезапные изменения планов.
Иногда мы попадали и в неприятные ситуации. В Третьяковской галерее собралось много народу на открытие выставки документов военных лет – с нее начинались официальные мероприятия к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ждем президента И вдруг приходит сообщение, что президента не будет. Все в растерянности – ведь он должен был открыть выставку и ответить на вопросы журналистов. Мероприятие в зале отменили, а с корреспондентами пришлось встречаться мне – об этом попросил и наш главный протоколист Владимир Шевченко. Конечно, их уже не интересовала выставка – все вопросы были посвящены причинам отсутствия Ельцина.
Один раз я случайно оказался свидетелем, как два самых главных его охранника, расставив на столе несколько бутылок с коньяком, проводили дегустацию. Дегустатором был президент, а они наливали ему и аккуратно записывали оценки. Я тогда подумал, что нечто подобное, наверное, практикуется ими, когда нужно склонить президента к определенному решению. В тот раз это было распределение квартир в президентском доме. Перед выборами 1996 года Борис Николаевич в книге «Пятьдесят семь вопросов избирателей Президенту» так ответил на вопрос, правда ли, что он злоупотребляет алкоголем:
– Скажу «да» – это будет неправдой. Скажу просто «нет» – тоже покажется неубедительным, у нас ведь, пока сами не проверят, все сомневаться будут да еще скажут: «Какой же ты русский мужик, если выпить не можешь?» Так что скажу одно: выпить могу, но не злоупотребляю.
Много шуму в прессе наделала поездка президента в Германию в 1994 году, посвященная выводу Западной группы войск из этой страны. Особое оживление вызвал эпизод, когда Борис Николаевич, выйдя из здания ратуши, после встречи с бургомистром Берлина взялся дирижировать оркестром мальчиков, которые играли в честь высокого гостя русские мелодии. Именно по этому факту оппозиция остро поставила вопрос о здоровье президента.
Я обычно нигде не сопровождал президента, став руководителем его Администрации. Но на этот раз попросился сам, так как еще народным депутатом неоднократно бывал в Западной группе войск, помогал в решении ряда вопросов по их непростому переезду в Россию, у меня установились хорошие отношения с командующим Михаилом Бурлаковым и другими командирами войсковых соединений. Да, президент с первых дней был в тяжелом состоянии, которое усугублялось жуткой жарой в те дни. В ратуше жара вообще стояла тягчайшая, народу – не протиснуться, и я заметил, как Борис Николаевич мучается без платка, который он осторожными движениями правой руки просит сопровождающих ему передать. Пот лил с него ручьем. Он хорошо выступил. После этого все выпили по бокалу шампанского и вышли на улицу.
Думаю, что желание подирижировать оркестром по явилось под воздействием тогдашнего непростого настроения. Ну, во-первых, сама процедура вывода войск, когда все вокруг говорили, что делается это преждевременно, не способствовала приподнятому настроению, а его надо было держать. Во-вторых, детский оркестр, русская «Калинка» располагали к сентиментальности. И президент эту игру подхватил. Да, мы все нервничали, глядя на президента и утром, и в обед, и вечером, – боялись, что он сорвется.
Но мы видели и другой эпизод, когда после ратуши последовало посещение Ельциным и Колем памятника жертвам фашизма и возложение венков к Вечному огню. На большой площади собралось много народу, и на противоположной стороне расположилась группа немцев с плакатами: «Долой Коля!», «Позор Колю». Они и скандировали что-то в этом духе. После процедуры возложения венков Борис Николаевич присмотрелся к противоположной стороне, набычился и неожиданно для всех пошел прямо на эту группу немцев. Что он там делал, о чем говорил им, не знаю, но когда мы проезжали на автобусах мимо этой самой группы, никаких обидных транспарантов уже не было и немцы скандировали какие-то приветствия всему потоку сопровождающих Ельцина и Коля.
Заканчивая эту тему, напомню только одно: и свое поведение, и свое состояние президент должен соизмерять с ответственностью за такой могучий инструмент в его руках, как «черный чемоданчик».
Со временем романтический имидж третьего Ельцина поблек, поистрепался и к выборам 1996 года начал сходить на нет… Многие недели в больнице, затрудненное иногда владение речью, мысль, казалось, с трудом ворочающаяся в голове, – все это стало слишком напоминать на телеэкране незабвенного Леонида Ильича времен «расцвета застоя». Ельцин всегда-то выступал коряво, и с первых его публичных выступлений, когда он говорил без бумажки, я слушал его, внутренне съежившись от боязни какой-нибудь досадной оговорки или, хуже того, какого-нибудь невыполнимого обещания, а здесь все чаще стал ловить себя на мысли, что эти явления усугубляются. Он практически всегда стал прочитывать заранее подготовленный текст.
В обществе происходили тяжелые процессы. Война в Чечне – совершенно непонятные, бездарные действия военной верхушки. Провалы в экономике. Рост преступности. Бандитские разборки с банкирами и коммерсантами. Распоясавшееся поведение Коржакова, который стал вмешиваться и в дела правительства, и в дела банкиров, создал специальное подразделение для сбора компромата на руководящий состав страны и финансовой элиты, начал даже выступать от первого лица в государстве. Демократы отшатнулись от президента.
Тем неожиданнее оказалось – и для демократов, и для коммунистов, и для всей страны вообще – явление четвертого Ельцина, – как будто бы нового человека и нового политика. Новый человек – это необычайная витальность, динамизм, открытость, быстрота действия, сопровождаемые ощущением правоты и уверенности в себе и своих силах. С новой политикой дело обстоит сложнее. Ранее – в случаях прежних Ельциных – политические определения были вполне однозначными и полярными. Линия партии, последовательный коммунизм в одном случае, и столь же последовательный и бескомпромиссный антикоммунизм, ориентация на рыночную экономику и политическую свободу – в другом. Короче, осуществлялся переход от одного идеологического полюса к другому – к либерализму.
Теперь же однозначное идеологическое определение новой политики становится невозможным. Это уже не столько идеологически мотивируемая, сколько реальная политика, диктуемая требованиями жизни… В период предвыборной кампании многие документы, подписанные Ельциным, касаются не только сегодняшних больных вопросов и их решения, они затрагивают развитие страны и в следующем столетии.
Выборы выиграны, но еще до их конца недуги вновь охватывают президента, тяжелые заболевания сменяют друг друга и полностью выбивают Ельцина из активной политики. Только резкими и неожиданными шагами по смене кадров Ельцин показывает, что держит руль в руках. Все очевиднее накопившаяся в нем огромная усталость, но вместе с тем – и незаурядная воля, которая не позволяет взять тайм-аут даже тогда, когда нет сил для дальнейшей деятельности. В остальном – полная неясность и некоторая хаотичность шагов как внутри страны, так и на международной арене.
А внутри страны к тому же – усиленное влияние олигархов, их разборки между собой и с противниками из власти сотрясают общество компроматами, сменами кадров, уголовными делами. В экономике – зловещее 17 августа, когда рухнула государственная «пирамида». Особая боль за очередное ограбление людей, увеличение безработицы и числа живущих за чертой бедности сограждан. И вновь – отсутствие доступного и понятного объяснения случившегося, умолчание ошибок.
На международной арене – под давлением оппозиции государственные институты и чиновники вновь торят тропки имперских амбиций, пытаются создать образ врага из тех, кто в ближайшие годы были их союзниками по преобразованиям. Оппозиция снова усиленно готовит импичмент президенту, явно подгадывая эту процедуру к очередным выборам, думским и президентским. Обвинения носят политический, но не правовой характер и рассчитаны на идеологическую обработку населения.
И вот в этой ситуации мы видим уже следующего Ельцина. Он вновь здоров, энергичен, его шаги и расстановка кадров на этот раз логичны и направлены не толь ко на укрепление своих позиций, но и на создание политической стабильности в стране, особенно после провала экономики 17 августа 1998 года, когда России грозил социальный взрыв. Однако, чувствуя силу левой оппозиции, он во многом ей подыгрывает: и сближением с Лукашенко, и подготовкой некоего трюка с созданием Союза, и отходом от многих совместных договоренностей с
Западом, и удалением из правительства реформаторов. Но уже заметно и то, что последними перестановками кадров в правительстве он задумывает и готовит какую-то новую комбинацию против оппозиции.
Ельцин – политик не для спокойной, стабильной ситуации. Он хорош, активен, здоров в периоды обострений ситуации, в периоды «бури и натиска». Такое впечатление, что ему просто необходимо все время с кем-то сражаться. Все битвы за демократию, начиная с путча 1991 года, включая борьбу с парламентом в 1993 году, драматические выборы 1996 года, войну в Чечне, перестановки первых лиц в правительстве, – не убежден, что все это было необходимо. Напряжение могло быть снято в ходе нормальной политической и хозяйственной деятельности. Мне кажется, он умеет это делать. Ведь по отношению к запрещению компартии он ведет терпимую политику. Может быть, потому, что чувствует там силу. В других же случаях он должен создать себе врага, а затем и победить его в драматической и, безусловно, опасной схватке. А Россию, да и весь мир при этом, весьма и весьма трясет.
Каждый раз на встречах с общественностью в каком-нибудь регионе России возникает разговор о происходящем – о реформах, о кадрах, о трудностях в жизни и простого народа, и целых предприятий. Но больше всего людей интересует фигура президента: им хочется разобраться и понять, что за человек правит государством, почему так много вокруг него противоречивых, порой диаметрально противоположных, мнений и оценок.
И особенно людям бросается в глаза, как президент неровно, небрежно обращается с кадрами, со своими соратниками, подгребая сначала их под себя, используя с максимальным прагматизмом чужие интеллектуальные дрожжи до той поры, пока в этих дрожжах живет брожение. Дальше – очередная смена действующих лиц. Порой на таких встречах люди гневно выкрикивают: «Ведь это вы привели его к власти!» Порой застенчиво спрашивают о его здоровье и тех нелепых сценах, показанных по телевидению, которые наводят на всякие нехорошие мысли. Да я и сам все больше и больше размышляю о том, что же значат для президента его соратники – люди, с которыми он вместе прошел определенный отрезок своего президентства.
У Ельцина не было своей программы преобразования России – именно поэтому он всегда искал людей со свежими идеями, умеющих по-новому взглянуть на решение вечных проблем в России. Именно поэтому вокруг Ельцина стала собираться способная молодежь – и экономисты, и юристы, и аналитики, и военные специалисты, Но именно поэтому же вместо цельной программы действий формировался некий гибрид, фрагменты которого были позаимствованы у разных разработчиков. Сам по себе этот прием обычен. Вспомним, как Ленин взял программу эсеров по земле: «Да, программа ваша, но выполним ее мы». Наша беда в том, что куски программ плохо сочетаемы, и не было у нас теоретика (идеолога), который их мог бы объединить. Здесь кроется одна из причин частой сменяемости кадров и плохих отношений внутри команды.
К тому же в отдельные периоды, когда напряжение в обществе доходило порой до грани гражданской войны, Ельцину требовались не просто соратники, а люди особо преданные, способные защищать с оружием в руках завоевания демократии и его самого. Но не все выдерживали такое доверие до конца: бывали случаи – ив силовых структурах тоже, – когда эти же люди шли против президента.
Кадровую чехарду можно объяснить и тем, что в исполнительную власть в основном привлекались народные депутаты, а впоследствии – депутаты Госдумы. И не всегда хороший законодатель оказывался действенным, эффективным чиновником в исполнительной власти. Многие бывшие депутаты, прожив короткий срок в исполнительной власти, изгонялись из нее, а обиды и недоуменные вопросы у них оставались.
А каких ярких депутатов лишалась законодательная власть! Оксана Дмитриева, Михаил Задорнов, Александр Починок, Борис Федоров, Иван Рыбкин, Ирина Хакамада, Георгий Боос, а на раннем этапе – Владимир Шумейко, Сергей Шахрай, Юрий Яров и многие, многие другие. Решая задачу усиления исполнительной власти,
Ельцин неминуемо ослаблял демократическое крыло законодательного органа, который к концу своего срока, а то еще и до новых выборов превращался в агрессивное большинство по отношению к нему самому и к тем реформам, ради которых усиливалась исполнительная власть. Это особенно сильно проявилось в 1993 году, кульминацией которого был кровавый октябрь.
Ельцину всегда хотелось всего достичь побыстрее: побыстрее ликвидировать КПСС, побыстрее сделать Россию демократической страной с рыночной экономикой, побыстрее провести приватизацию, побыстрее принять новую Конституцию, побыстрее встать в ряд с международной элитной «семеркой», побыстрее навести порядок в Чечне. И, может быть, в этом тоже кроется его позыв к постоянной перетасовке кадров, их перестановке, замене. Но при этом, думаю, он должен понимать, что никто толком не успевал не только что-то сделать, но и познакомиться с делами, осмотреться, освоиться. В этом я нахожу одну из причин многих наших неудач. В этом мне видится одна из причин отсутствия у Ельцина цельной команды.
Ельцин постоянно хотел доказать, что демократию сам он не подомнет и покуситься на нее никому не даст Именно поэтому он готов менять министров и других чиновников по требованию сильной оппозиции. Над этим порой смеются, над этим порой издеваются, но это гарантия, что надпартийный президент способен учитывать мнение сильной партии. В этом можно винить и демократов, которые с каждым годом сдавали свои позиции, слабели в организационно-политическом плане. И он, вынужденно подыгрывая сильной и агрессивной оппозиции, вынужденно же отходил все дальше от демократов. А вначале сам предполагал их возглавить.
В 1993 году в окружении президента впервые проявились разные оценки его отношения к демократическим партиям и движениям. Впервые прозвучало, что «президент независим от партий и находится над партиями».
В день работы съезда «Выбор России» пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков выступил с таким сообщением: «Борис Ельцин очень чувствителен к голосу России. Он ощущает себя россиянином, представляющим всю Россию. Именно поэтому, несмотря на все политические симпатии, его не будет на съезде блока «Выбор России».
Тогда президент лишил демократическое движение объединительного центра – это факт. Отсюда и вялость, и поражение демократов на различных этапах наших реформ, Никто не понимал, кого же мы представляем и от чьего имени делаются реформы. Их осуществляют одни, а шишки за них собирают другие.
У многих на памяти манипуляции, которые проводились с кадрами сначала в Верховном Совете, а затем президентом. Тогда менялись фавориты и как бы действовало живучее правило: сегодня ты в фаворе – твоя программа предпочтительнее остальных. И могут приостанавливаться идеи рынка, и внешне плацдарм демократии как бы начинает уже завоевываться совсем другой системой, и все это продолжается до той критической черты, до того возвратного момента, пока не наступает внезапное контрнаступление. Думаю, ни для кого не секрет, что эти годы мы так и жили – по этапам. Да и время заставляло проявлять гибкость, чтобы сохранить поступательное движение реформ.
Я и сам находил в этом определенную силу Ельцина как президента. Если взять за главное сохранение курса реформ, то ради этого можно было пойти и на жертвы. Нужно для этого произвести кадровые перестановки? Пожалуйста. Нужно сменить команду? Пожалуйста. Нужно сменить какого-то лидера? Пожалуйста, Нужен референдум? Пожалуйста, только не останавливать реформы. То есть Ельцин вынужден был все время лавировать во имя главной цели, и это было, разумеется, заметно многим. Хотя, повторяю, иногда это превращалось в кадровую свистопляску, ничего общего не имеющую с улучшением ситуации в стране. Но если все остальное можно как-то объяснить или оправдать, то ни оправдать, ни понять, ни простить невозможно то, как порой президент расставался с соратниками – с некоторыми так и не попрощавшись.