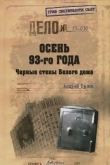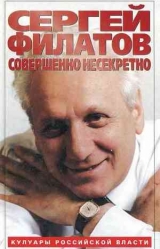
Текст книги "Совершенно несекретно"
Автор книги: Сергей Филатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Глава 7. «СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НАДО КАК-ТО СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ…»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Такая колоссальная страна,
Пейзаж такого сложного рисунка,
Что даже балалаечная струнка
Звучит как громогласная струна. <…>
И чудится, что трудностей не счесть,
И кажется, нет силы, что могла бы Все одолеть…
Но эта сила есть,
И уж творятся, так творятся здесь
Событья грандиозного масштаба…
Леонид Мартынов
25 декабря 1992 года Борис Николаевич пригласил меня в санаторий «Барвиха», ще он в то время лечился от простуды. Встреча состоялась в его номере, в 7-м корпусе. Выглядел Ельцин неважно, и я подумал, что есть правда в том утверждении, что крупные мужчины болеют тяжелее. Сразу же заговорили о делах.
– У меня возникли проблемы с администрацией, а у вас – серьезные осложнения с Хасбулатовым. Хотел предложить вам должность руководителя Администрации Президента. Вы справитесь с этой работой, вы хорошо поставили дело в Верховном Совете. Как вы на это смотрите?
– Спасибо за предложение, Борис Николаевич, но я предупредил Хасбулатова, что буду работать до следующего съезда, и хотел бы пока оставаться там. Думаю, что там я пока нужнее.
– Да нет, он вам не даст работать, раз предложил уйти.
– Хорошо, если вы так считаете, я согласен. Когда нужно приступить к работе?
– Мне нужно недельки две-три, чтобы решить все вопросы с Юрием Владимировичем Петровым. Я должен с ним поговорить и устроить его судьбу. А каковы ваши планы на ближайшее время?
– Лечу с руководителями фракций в Лидский университет, где англичане хотели бы прочитать нам несколько лекций и устроить ряд встреч с тамошними политиками и парламентариями. Вылет намечается на девятое января, а до этого я еще хотел бы отдохнуть в Кисловодске.
– Хорошо, значит, у нас у обоих есть время. Отдыхайте, поезжайте в Англию и затем сразу выходите на работу в Администрацию Президента. Здесь все будет подготовлено к двадцатому – двадцать второму января.
Борис Николаевич рассказал о задачах, которые мне предстояло решать, находясь в новой должности, и я понял, что он выделяет три главных направления: структура и организация работы аппарата; взаимодействие с Верховным Советом; создание государственной службы и – кадры. Ельцин верил, что у меня должно получиться, но неожиданно признался, что прочил на это место В.В.Илюшина, своего первого помощника, который, по его мнению, настоящий штабист. И, предлагая эту работу все-таки мне, он не сомневался в том, что мы поладим с Виктором Васильевичем. Борис Николаевич уже переговорил о моем переходе с Хасбулатовым – тот не возражал, но не удержался от язвительного предостережения: «Он вас подведет».
Затем мы поговорили о возможном развитии событий после Седьмого съезда народных депутатов, на котором Гайдар был освобожден от обязанности и.о. премьера правительства, и оба посетовали на то, что разнузданность Хасбулатова прогрессирует и ни к чему хорошему не приведет. Хасбулатов постоянно находился в поиске инструмента противовеса для Ельцина. Одно время ему хотелось сделать таким противовесом Чечню – когда избавлялись там от Доку Завгаева, внедряя на его место Джохара Дудаева. Не получилось. В последующем таким противовесом попытался сделать Конституционный суд во главе с Валерием Зорькиным, потом – вице-президента Александра Руцкого, наконец – депутатский корпус. И надо сказать, много он попортил всем крови.
Я придерживался того мнения, что самое правильное – добиваться референдума, который позволил бы подойти вплотную к принятию новой Конституции. Только это могло поставить все на свои места в высших эшелонах власти, решить принципиальные вопросы развития демократии, рыночной экономики и защиты прав человека, внести согласие в общество – расстановка сил в тот период вселяла уверенность, что Ельцина народ поддержит.
На этом мы с президентом расстались. Весь намеченный нами план именно так и был реализован. Правда, в Лидсе, где находилась наша делегация, руководители фракций несколько раз делали попытку уговорить меня остаться в Верховном Совете, говорили на эту тему со мной Иван Петрович Рыбкин и Михаил Иванович Лапшин. Я с внутренним уважением отношусь к Ивану Петровичу, человеку мягкому и порядочному. Михаила Ивановича помню с детства, когда он бывал у нас дома, водя дружбу с моими родителями. Прямой, честный, переживающий за дело, в годы преобразований он, к сожалению, многого из происходящего не понял и настолько искаженно кое-что воспринял, что, по-моему, всерьез заболел душой, возглавив борьбу аграриев против реформ и новой власти.
А я ведь жил одно время в тех подмосковных краях, где председательствовал Михаил Иванович. И на моих глазах разрушались малые деревни и росла одна большая – Софроново, куда принудительно сгоняли окрестных жителей по замыслу авторов – для создания мощного производительного кулака. Но как мы знаем, из этого тогда и по всей стране ничегошеньки не получилось. Сельское хозяйство окончательно разрушилось, крестьянство обнищало. Неужели даже на этом примере не дрогнуло сердце Михаила Ивановича и внутренний голос не подсказал ему, что занимался он тогда делом неправедным, что только новая экономика поможет возродиться крестьянству, а значит – российскому сельскому хозяйству…
Тогда же, в Лидсе, мне верилось в искренность обоих, но решение мое изменить было уже нельзя. Хотя мне очень хотелось остаться в Верховном Совете, пусть бы до следующего съезда. Но после предложения Бориса Николаевича колебания стали неуместны.
22 января 1993 года я приступил к новым своим обязанностям. Первое впечатление от этой новизны было неважное – какая-то скованная вокруг обстановка, как будто все чего-то недоговаривают, более закрытая и тягостная, нежели даже в Верховном Совете.
Это – реалии тех дней: множество слухов, догадок, вымыслов, идущих в том числе и в эфир (или из эфира). Как-то Олег Попцов на мой упрек, что телевидение дает много вымышленной информации, сказал:
– Видишь ли, Сережа, информация или есть, или ее нет. Когда ее нет – ее выдумывают.
И мне подумалось, что так не должно быть: все, связанное с Ельциным, точнее, с образом демократического президента, должно быть открыто и доступно для общества. Помню первый разговор в Кремле, коцца Борис Николаевич ставил конкретные кадровые задачи. Выходя из кабинета, я спросил, как он относится к тому, чтобы я больше общался с журналистами. У меня к тому времени установились доверительные контакты с Людмилой Телень из «Московских новостей», Тамарой Замятиной, корреспондентом ИТАР-ТАСС, Вячеславом Тереховым из «Интерфакса», Вероникой Куцылло из «Коммерсанта», Верой Кузнецовой из «Независимой газеты», Натальей Архангельской и многими другими. Борис Николаевич поморщился:
– Только в меру.
В Кремле явно просматривался конфликт между президентом Ельциным и вице-президентом Руцким, какое-то подавленное состояние было у секретаря Совета Безопасности Юрия Скокова, разрастался конфликт с Хасбулатовым и Верховным Советом, неважные отношения складывались с Конституционным судом и его председателем Валерием Зорькиным. Присмотревшись, я стал подозревать, что конфликтное состояние подогревается руководителями службы безопасности и главного управления охраны: в ход идут и «прослушки», и выхваченные из различных контекстов двусмысленные фразы и слова. С ходу попытались скомпрометировать и меня. Войдя в кабинет Бориса Николаевича, слышу его упрек:
– Что же вы даете интервью о снятии Скокова до подписания мною указа?
– Борис Николаевич, это неправда, это интервью я дал на следующий день после подписания вами указа. Я это легко докажу.
– Докажите.
К следующей встрече я взял факсимиле сообщений «Интерфакса» и указ президента, и мы легко установили, что президента дезинформировали. Кто – не знаю, но больше таких упреков со стороны Бориса Николаевича не было.
Большой интерес к моему приходу в администрацию проявили журналисты. Начались регулярные встречи с ними, на которых я рассказывал о преобразованиях в администрации и отвечал на всевозможные вопросы.
В тот период администрация объединяла и аппарат правительства. Но, по настоянию В.С.Черномырдина и начальника аппарата правительства В.Квасова, решили аппарат правительства вывести из состава администрации, хотя у нас оставались все хозяйственные и кадровые вопросы. Президент считал, что кадры аппарата правительства и других самостоятельных структур должны быть подконтрольны администрации. Одновременно пришлось решать задачу укрупнения администрации за счет включения в ее состав самостоятельных подразделений. А таких подразделений было много – их руководители любыми путями стремились выйти на прямое подчинение президенту.
Именно такое укрупнение породило слухи о том, что до Филатова в администрации было четыреста чиновников, а с его приходом их стало две с половиной тысячи. Преобразования в администрации пришлось проводить в период обострения конфронтации между Хасбулатовым и Ельциным. Требовалось огромное напряжение, чтобы выдержать хасбулатовский натиск, нацеленный на моральный слом президента и импичмент.
С нашей стороны шла борьба за референдум о доверии президенту.
Не думал я тогда, что мне предстоит за три года работы провести по поручению президента четыре реорганизации администрации. Смысл в перемены всегда закладывался один: повышение эффективности работы и значительное сокращение аппарата. Причем, как правило, инициатива всех таких реорганизаций почему-то исходила от службы безопасности. Можно было только догадываться, в чем причина повышенной заинтересованности ведомства Коржакова в делах администрации.
Как-то в первые дни моей работы из уст Бориса Николаевича прозвучал упрек с оттенком огорчения, что я недостаточно занимаюсь кадрами и что много бывшей партноменклатуры осело в администрации. Упрек, конечно, был не совсем справедлив: если даже подходить формально, то в отличие от аппарата правительства, где старой номенклатуры осталось работать 62 процента, в Администрации Президента ее насчитывалось всего лишь 22 процента при среднем возрасте 45 лет. Другое дело, что отсутствие профессионализма и отработанной технологической цепи взаимодействия всех структур заметно сказывалось на эффективности нашей деятельности.
Первая встреча с В.В.Илюшиным была холодной. Напряженность проявилась в одном эпизоде: я увидел на своем селекторном аппарате среди множества фамилий и фамилию «Илюшин», спросил: «Могу ли пользоваться этой связью?» Последовал неожиданно резкий ответ: «Вы никогда не будете пользоваться этой связью со мной!» Похоже, сказывалась какая-то обида.
В то время Ельцину в работе помогала группа советников, работа которых до моего прихода координировалась Г.Бурбулисом: Екатерина Лахова, Эдуард Днепров, Элла Памфилова, Сергей Станкевич, Николай Малышев. Однако опыт их работы показывал, что цельной, единой политики, охватывающей все направления конституционных функций президента, не получается. Многие из них трудились на общественных началах и не могли полностью и эффективно отдаваться этой работе. Мы договорились вместе посмотреть новую структуру администрации – с усилением института помощников президента, и на этом разошлись.
Тогда помощниками президента были Виктор Илюшин, Анатолий Корабельщиков, Лев Суханов, Людмила Пихоя – старая гвардия, а пресс-секретарем – Вячеслав Костиков. Мне его выступления очень нравились своей точностью, красивой резкостью по отношению к оппонентам.
Но нужны были свежие силы, и одного кандидата в помощники Виктор Васильевич тогда уже приметил – это был Ю.М.Батурин, который проходил проверку, несколько месяцев работая на общественных началах. В последующем в этом кругу появились Г.А.Сатаров, М.А.Краснов, А.Я.Лившиц, Д.Д.Рюриков – целый букет интеллектуалов, которые создали более творческую атмосферу вокруг президента, обогащая его решения своей профессиональной подготовкой. И хотя кое-кому хотелось представить администрацию как два самостоятельных органа – советники и помощники, – из этого ничего не получилось,
К тому времени практически перестал существовать институт советников президента. Журналисты недоумевали: как мы с Илюшиным будем делить власть? Но власть была не у нас, а у президента, избранного народом. Только однажды, когда тема власти в администрации приобрела нездоровый оттенок в прессе, я позвонил В.Илюшину и спросил, что будем делать. Он неожиданно предложил:
– А давайте вместе выступим по ТВ и ответим на вопросы журналистов.
После нашего совместного интервью журналисты на какое-то время успокоились. Но непредсказуемость президента, постоянно перемещающего свое внимание с одного из нас на другого, его игра в сдержки и противовесы не давали утихнуть этой теме. И, конечно, двойственная структура с двумя равными по рангу руководителями – руководителем администрации и первым помощником президента – несколько мешала общему делу.
Да и третий центр влияния – в лице Коржакова – с каждым днем набирал силу. Дело кончилось тем, что в одном из указов Коржаков выводился на уровень первого помощника президента. Все это, конечно, снижало эффективность работы в целом, часто вносило путаницу. Коржаков, например, все чаще стал пересылать мне различные бумаги, выглядевшие как назидания-поручения:
«Учитывая; что Вы уходите в отпуск, Ваши заместители должны в этот период времени находиться на работе, а не в загранкомандировке. Этот вопрос согласован с Президентом РФ Ельциным. Просьба дать соответствующее указание».
«Прошу вас дать указание передать в установленном порядке Службе безопасности Президента РФ бланки указов и распоряжений Президента РФ (несекретные, секретные и совершенно секретные) в количестве 100 шт. для каждого типа бланков».
«В соответствии с п. 21 Закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.93 г. предусмотрен допуск должностных лиц к государственной тайне. Для оформления допуска Вам необходимо в недельный срок заполнить прилагаемую анкету и представить ее с двумя фотографиями 4x6 в отдел контроля управления кадров Администрации Президента РФ».
Комментарии, как говорится, излишни. Этой службе очень хотелось командовать всем и всеми, держать всех и все под контролем. Но для этого у нее не было главного – конституционных полномочий и профессиональных знаний.
Не могу взять в толк, почему Коржаков решил, что гостайной должна заниматься Служба безопасности президента? Познакомившись с материалами, я увидел в них множество нарушений конституционных прав человека. И главное – принципа добровольности. По Коржакову, чиновник, как и в старые времена, обязан (выделено мной. – С.Ф.) докладывать спецорганам об изменениях в его жизни, в семье, среди родственников. Конституция же и закон, защищая права человека, предусматривают, что при допуске к гостайне чиновник принимает на себя обязательство перед государством по нераспространению доверенных ему сведений, составляющих гостайну, и дает согласие на частичные, временные ограничения своих прав в пределах этого закона. При этом он дает письменное согласие на проведение в отношении него полномочными органами проверочных мероприятий. Но сам он не обязан свидетельствовать против себя и своей семьи, и никто его не имеет права к этому принудить.
Все это нашло отражение в подготовленных управлением кадров и подписанных руководителем Администрации Президента временной инструкции о допуске к государственной тайне и типовом договоре об оформлении допуска: «Принимая на себя обязательства перед государством по нераспространению доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, я даю согласие на то, что на период моей работы в Администрации Президента РФ могут быть ограничены мои права в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».
Но пока мы приводили все в соответствие с Конституцией и законом, сведения просочились в СМИ, зазвучала серьезная тревога в связи с нарушением прав человека и попыткой введения старого режима. К сожалению, в какой бы вопрос Коржаков и его люди ни сунули свои носы, везде просматривались незнание и пренебрежение Конституцией и законом.
В первый год мы вместе с помощниками президента серьезно работали над тем, чтобы создать работоспособную структуру администрации и быстрее вывести сотрудников аппарата администрации и правительства на профессиональный уровень. Многие пришли в администрацию на волне демократического прилива – это были люди, преданные идеям реформаторства, президенту-реформатору, но порой не имевшие элементарных навыков аппаратной работы.
Уже тогда мы начали предпринимать серьезные шаги по преобразованию Академии управления в Академию государственной службы и по подготовке нормативных актов о государственной службе. Нужно было создавать новую государственную службу – законопослушную, профессиональную, политически не ангажированную.
Российскую академию государственной службы возглавил академик Алексей Емельянов. Становление Академии шло сложно. Многие противились ее перепрофилированию. Разгоралась негласная война между правительственными чиновниками и чиновниками Администрации Президента за приоритет курировать работу Академии. Сошлись на том, что Академия народного хозяйства, которой руководил академик Аганбегян, – правительственная, Академия госслужбы – президентская. Не обошлось и без крупного разговора в самой Академии, где мы с О.Н.Сосковцом побывали на ученом совете.
Мы видели незащищенность госслужащего и то, как некоторые политические деятели, находящиеся на гос-службе, пытаются использовать служебное положения для проведения своих политических целей в жизнь. С появлением Совета по кадровой политике, который по поручению президента возглавили мы с О.Н.Сосковцом, выявилась задача подготовить законодательную базу для становления и защиты госслужбы в России. В Совет вошли представители ряда министерств; от Госдумы и Совета Федерации – их председатели И.П.Рыбкин и В.Ф.Шумейко. Мы понимали, что такая база позволит иметь не только профессиональную и законопослушную, но и законом защищенную госслужбу. Пока же такой базы нет, все будет держаться на субъективных оценках и личных связях.
Появление закона об основах госслужбы уже позволило многое сделать. Во-первых, социально защитить госслужащего и обеспечить его нормальной пенсией, дабы при рыночных отношениях не вынуждать его на продажу информации, на взятки и другие нарушения закона. Во-вторых, он становится защищенным от произвола увольнения – администрация обязана трудоустроить его или, по его желанию, направить на учебу и оплатить ее. В-третьих, госслужащие разбивались по категориям – чисто госслужащие, процедура увольнения которых определяется контрактом или трудовым законодательством, и госслужащие, обеспечивающие выполнение конституционных обязанностей государственными деятелями, избираемыми или назначаемыми в соответствии с Конституцией. Эта категория людей может быть принята и уволена по решению соответствующего государственного деятеля или органа.
Так появился Реестр государственной службы. Это. положило лишь начало становлению госслужбы в России. Я уверен, что от этой работы, от качества законодательства очень во многом зависело дальнейшее развитие России как демократического государства.
Для объединения усилий помощников и аппарата администрации были созданы аналитический центр и экспертно-аналитический совет, где рассматривались вопросы перспективы и текущих горячих дней. Это как бы служило ориентиром в работе всего коллектива.
В экспертно-аналитическом совете собрались крупные и уважаемые специалисты – журналист О.Р.Лацис, ректор МГИМО А.В.Торкунов, директор Института мировой экономики В.А.Мартынов, писатель Ю.Ф.Карякин, правозащитник С.А.Ковалев, экономист Е.Г.Ясин, академик А.Н.Яковлев, психолог Л.Я.Гозман, директор ВЦИОМ Ю.А.Левада, помощники президента Ю.М.Батурин, Г.А.Сатаров, А.Я.Лившиц и другие. Заседания совета заканчивались перечнем рекомендаций: отдельно – президенту, отдельно – структурам администрации.
В администрации на общественных началах работало более 20 консультативных советов и комиссий при Президенте Российской Федерации по самым различным вопросам, помогающих президенту выполнять конституционные обязанности: президентский совет, советы по местному самоуправлению, по судебной реформе, по кадровой политике, по делам молодежи; комиссии по воинским званиям и военным кадрам, по правам человека, по наградам, по гражданству, по помилованию, по государственным премиям и т. д.
Все это – сотни представителей деловой и творческой элиты, участие которой в делах президента помогает ему формировать общественно значимые и общественно апробированные решения.
Несколько слов о работе Комиссии по Государственным премиям в области литературы и искусства, которую по традиции возглавляет руководитель Администрации Президента. Работа комиссии в те времена проходила в атмосфере жесткой политической борьбы. И очень важно было оценивать работы, представленные на Государственную премию, не по конъюнктурным соображениям, а максимально объективно, не ввязывая сюда политические пристрастия.

Надеюсь, что в этой книге мне удалось сохранить свободным от зла и обид свой взгляд на события и их участников.

Перед отправкой отца на фронт. (Вверху – моя старшая сестра Тамара, внизу справа – младшая сестра Белла). 1942 г.

Мама и я – первые слушатели отцовских стихов.1947 г.

Я начал свой трудовой путь с завода «Серп и молот». 1965 г.

С женой Галей. 1960 г.

1996 г.

На собрании в ВНИИметмаше, поддержавшем мою кандидатуру на выборах в Верховный Совет РСФСР. Справа – О. Храпченков. 1989 г.

С М. Бочаровым перед Первым съездом народных депутатов РСФСР. 1990 г.

Очередь к микрофону в день открытия Первого съезда народных депутатов РСФСР. 1990 г.

Присяга первого Президента России 10.07.1991 г.

Б. Ельцин среди защитников Белого дома. 19.08.1991 г.

Два Президента.
На встрече с депутатами Верховного Совета РСФСР. 22.08.1991 г.

После просмотра фильма Э. Рязанова «Небеса обетованные» в Белом доме. 02.09.1991 г.

Годовщина памяти жертв переворота. Ваганьковское кладбище,
21.08.1991 г.

С Б. Клинтоном в Овальном кабинете Белого дома. 1993 г.

Беседа с послом Франции в России П. Морелем. 1993 г.

Представление Ее Величеству Королеве Великобритании Елизавете II. 1994 г.

С Г. Колем. 1995 г.

В Омском аэрокосмическом объединении «Полет». 1994 г.

Автограф на «стене подписей»
в Международном Восточно-европейском университете. Ижевск, 1997 г.

Открытие памятника С. Есенину на Тверском бульваре. 1995 г.

С академиком С. Головкиной и дирижером М. Плетневым. 1994 г.

На Тульском оружейном заводе. 1995 г.

В шахте в Свердловской области 1995 г.

С А. Яковлевым. 1996 г.

С А. Джигарханяном 1997 г.

В парламенте Франции. 1992 г.

Вручение Ордена Дружбы В. Черномырдиным 1996 г·.

С Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 1995 г.

С О. Басилашвили. 1996 г.

С Д. Лихачевым. 1997 г.

С семьями старшей дочери Марины (вторая слева) и младшей Маши (вторая справа).1999 г.

Жизнь продолжается…
Галя с младшей внучкой Наташей. 1997 г.
Мне кажется, этого мы достигли. Голосовали тайно, оставляя в итоге лишь работы, получившие не менее двух третей голосов. Если раньше оценка и отсев проходили уже в первом туре, то теперь мы изменили принцип представления материалов во второй тур – отсеивалось лишь то, что не проходило по формальному признаку. Это дало комиссии возможность представлять общественности большее число работ, претендующих на Государственную премию.
Запомнились произведения Фазиля Искандера, Михаила Шемякина, Юрия Левитанского, Никиты Михалкова, исполнительское искусство Николая Петрова, Юрия Башмета, Михаила Плетнева, Аллы Пугачевой, многие работы наших архитекторов, дизайнеров.
Когда первую премию за кинофильм «Урга» получил Никита Михалков, он попросился на встречу. И начал разговор с того, что никогда не думал получить премию от президента, против которого он выступал вместе с Руцким. Я объяснил Никите Сергеевичу, что в комиссии такой принцип: политика – отдельно, искусство – отдельно. И его «Урга» – истинно талантливая вещь. Никита Сергеевич, к моему удивлению, даже прослезился: настолько его ошеломило решение комиссии и президента:
– А что, и президент такого же мнения?
– Да, я специально обратил внимание Бориса Николаевича на фильм, когда докладывал ему результаты работы комиссии. Он все поддержал.
– А можно мне с ним встретиться?
– Думаю, можно. Я буду об этом просить.
И такая встреча состоялась, после чего Никита Сергеевич стал союзником президента и много сделал для его победы на выборах 1996 года.
Он не поверил в возможность премии и на следующий год, но удостоился еще одной – за картину «Утомленные солнцем». Это сомнение он высказал у меня на даче, во время просмотра фильма в узком кругу приглашенных. Там же мы упрекнули Никиту Сергеевича, что он свои фильмы сначала показывает за рубежом, а уж потом на родину привозит их в переводе с иностранного. Но здесь у него – своя тактика: внутренняя реклама и дорога и неэффективна, а все, что приходит из-за рубежа, да еще с тамошними премиями, уже обречено на успех в России.
В Комиссии по Государственным премиям после долгих споров была введена еще одна секция – эстрадного и циркового искусства. В музыкальной секции артистам эстрады и цирка было почти невозможно пробиться к премиям: отношение к ним всегда вызывало споры. Там они были людьми как бы второго сорта. Теперь же стали появляться лауреаты-эстрадники. И мне приятно, что среди первых – Алла Пугачева и Геннадий Хазанов.
Но был еще один принцип в комиссии, который при мне не нарушался, хотя это привносило холодок в отношениях с определенными людьми. Из авторского коллектива исключались административные работники. Конечно, многие из них помогали претендентам, особенно если дело касалась памятников, архитектурных сооружений, но лауреатом мог стать только творец. К сожалению, после своего ухода я увидел, что принцип этот стал нарушаться: среди лауреатов замелькали фамилии чиновников, и открыл такой список Ю.М.Лужков.
Не простая ситуация складывалась в Комиссии по вопросам помилования, которую возглавил писатель А.И.Приставкин. Я не знаю другой комиссии, где с таким вниманием и болью рассматривались бы вопросы. Основной из них – смертная казнь или помилование.
Как-то я побывал там и попытался понять рабочую атмосферу. За столом, кроме Анатолия Приставкина, сидели озабоченный, с теплыми и умными глазами, Булат Окуджава, писатель Аркадий Вайнер, отец Александр Борисов, правозащитник Сергей Ковалев… Работа была уже закончена, все они выглядели уставшими и даже опустошенными. Разговор зашел о том, что много стало предложений по помилованию и президент по этому поводу высказал озабоченность. Были такие «дела», что волосы на голове шевелились от ужаса, а тут – рекомендация комиссии: помиловать. Правда, понятие «помиловать» здесь не совсем точное, потому что под помилованием понималось пожизненное заключение, а в то время законодательством оно определялось в пятнадцать лет строгого режима. Не каждый из помилованных хотел этого. В общем, для озабоченности имелись причины.
Отношение к смертной казни в России всегда было противоречивое: в благополучные периоды жизни острота споров снижалась, в неблагополучные – взвинчивалась. В годы реформ криминогенная обстановка в стране стала поистине устрашающей: увеличилось число убийц-маньяков, появились заказные убийства, начал процветать терроризм. Все это способствовало сгущению атмосферы вокруг вопроса о смертной казни.
И сегодня общественное мнение – явно не в пользу ее отмены, хотя наша страна встает на путь правового государства, проводя в соответствии с новой Конституцией реформы, и прежде всего – в области защиты прав человека. Именно в эти годы Россия была принята в Совет Европы после того, как за четырьмя подписями (Президента РФ, председателя правительства и председателей Совета Федерации и Госдумы) я отвез в Страсбург Послание Парламентской ассамблее Совета Европы, согласно которому наша страна брала на себя определенные обязательства. В то время формально по отдельным позициям мы не дотягивали до членства в Совете Европы, и речь скорее шла о намерениях России достичь этих формальных признаков.
В Послании говорилось, что «…наше стремление к полноправному участию в Совете Европы является следствием проводимого курса на построение в России правового государства, укрепление демократии и реальное обеспечение прав человека. Рассчитываем, что, вступив в Совет Европы и присоединившись к его важнейшим основополагающим конвенциям и в первую очередь к Европейской конвенции о защите прав человека, будем в полном объеме выполнять принимаемые при этом на себя обязательства, сможем в сотрудничестве со всеми структурами Организации еще настойчивее и эффективнее продолжать работу по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в Российской Федерации в соответствии со стандартами Совета».
Кроме того, с вступлением России в Совет Европы появились надежда на формирование Большой Европы, с единым гуманитарным, правовым, социальным и культурным пространством и возможность совместного обустройства Большой Европы – в области защиты прав человека, экономики, системы безопасности.
Очень важный шаг – вступление России в Совет Европы, если учесть, что наша страна много лет жила не по законам, а по диктату идеологии, а значит, властного произвола. Вступив в Парламентскую ассамблею Совета Европы, мы получили возможность учиться законотворчеству, быть, как и все ее члены, подконтрольными, и дали обязательство учитывать международные стандарты при подготовке законопроектов, указов, распоряжений, а также в правоприменительной практике во всем, что касается прав человека. Нужно отметить, что по всем двадцати вопросам, которые поставили тогда перед нами представители Парламентской ассамблеи Совета Европы при наших многочисленных встречах и по которым руководство России дало пояснения и обязательства, мы за эти годы значительно продвинулись вперед.
Вступление в СЕ поставило перед нашей страной вопрос об отмене смертной казни. И здесь, как мне кажется, есть серьезные проблемы. Госдума и многие сотрудники Генпрокуратуры и МВД являются противниками отмены смертной казни. Общественное мнение находится в раскаленном состоянии и скорее не одобряет отмену смертной казни, нежели поддерживает.
Эти проблемы возникли в Комиссии по вопросам помилования задолго до нашего вступления в Совет Европы. И несмотря на то, что состав комиссии был сбалансированным (сторонники смертной казни и противники ее составляли 50 на 50 процентов), все же заключений комиссии на помилование было больше, чем противоположных. В этом плане были очень характерными 1992, 1993 и 1994 годы, когда были приведены в исполнение соответственно только 1, 4 и 19 смертных приговоров. А помиловано было соответственно 55, 149 и 134 осужденных. Тогда в региональной прессе (думаю, не без участия коммунистического руководства) начали появляться материалы, обвиняющие президента в чудовищных грехах, обостряющих обстановку в стране. И под влиянием этих выступлений президент вынужден был внести поправки в работу Комиссии по вопросам помилования.