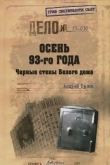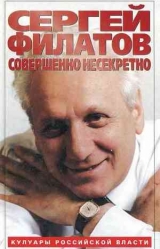
Текст книги "Совершенно несекретно"
Автор книги: Сергей Филатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Глава 1. «ТЫ ТЕПЕРЬ ОСТАЕШЬСЯ ОДИН…»
КАК Я ПРИШЕЛ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности прошедших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины…
Борис Пастернак
Отчий дом
Я родился и вырос в семье, где особо ценилось общение с людьми. Мама моя, энергичная и красивая женщина, практически всю свою трудовую жизнь занималась общественной работой, причем на низовом – на самом близком к рабочему человеку – уровне. Да и отец, профессиональный писатель, любил людей, радовался встречам с коллегами, друзьями и читателями. Он часто вспоминал слова Марка Твена: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что и вы можете стать великим».
После войны много ходило по домам нищих. Не помню случая, чтобы отец хоть раз проявил безразличие к ним: обязательно накормит, напоит, поговорит, если нужно – напишет какое-нибудь ходатайство в высшие инстанции. А один раз затащил к нам старичка с крупными, отвисшими губами, в потрепанном пальто, но – в шляпе. Наличие этой самой шляпы, поразившей меня с первого взгляда, – непременного атрибута тогдашних уничижительных анекдотов об интеллигенции – стало понятным к вечеру, когда после ужина отец попросил нашего гостя что-нибудь почитать. Поразительно! – тот знал наизусть чуть ли не всего Льва Николаевича Толстого (кто-то из нас даже проверял его по тексту). Мы в то время жили в коммунальной квартире, всей семьей – родители и трое детей – в одной комнате, но это не мешало нашему дому быть хлебосольным.
Поколение моих родителей было удивительным – оно искренне стремилось добиться процветания Родины. Это была эпоха почти мистической веры в будущее, небывалого в истории оптимизма и энтузиазма, за которые так горько потом пришлось расплачиваться.
Выпала этому поколению и жестокая война с фашизмом, самым ненавистным врагом не только нашего народа – всего цивилизованного мира. И оно победило.
Хранило это поколение и пугающую, непонятную тайну уничтожения собственного народа: призрак врага бродил от дома к дому. Шла скрытая гражданская война – как продолжение открытой войны, когда одна часть населения уничтожала неугодную ей другую.
Достались этому поколению и страшные бессонные ночи, и еще более страшные рассветы, приносившие пугающие известия об арестах и исчезновении близких и друзей – людей ярких и талантливых.
Задавались и мучительные вопросы: почему наш народ – именно наш народ! – никак не может вырваться из нищеты и несправедливости?
Были и тяжелые, изнуряющие минуты, когда уже не хотелось жить и тянуло просто-напросто отключиться от безысходной действительности и угнетающей раздвоенности.
Вернувшись с войны, отец постоянно навещал своих фронтовых товарищей, нередко и они гостили у нас. Наш дом всегда был людным. Собираясь в гости к поэтам или на литературные встречи, отец часто брал меня с собой. Я бывал с ним вместе и у Ярослава Смелякова, и у Алексея Недогонова, и – особенно часто – у Якова Шведова, автора знаменитого «Орленка», а несколько позже – у Александра Жарова, чья песня о картошке прошла через все детдомовские годы отца, хотя, конечно, Александр Алексеевич особенно прославился песней «Взвейтесь кострами, синие ночи…». Отец по-разному оценивал творчество каждого из них. Ездил я с отцом и в «Агитплакат», куда в свое время его привел Александр Жаров и где отец многие годы, и, кажется, вполне успешно, писал стихотворные тексты к разным плакатам. Приходил я и на занятия литературного объединения «Вальцовка» на Московском металлургическом заводе «Серп и Молот», – литобъединения, которому отец отдал большую часть своей жизни не только потому, что сам причислял себя к поэтам рабочей темы, но и по причине того, что вся его биография фактически с подросткового возраста была туго-натуго связана с «Серпом и Молотом». И уже после смерти отца литобъединение было названо его именем.
Может быть, во время всех этих встреч и благодаря им у меня с юности формировался свой взгляд на то, что происходит в стране, почему талантливые люди живут в нужде и столь значительные проблемы перед страной вырастают. Мы иногда, подолгу гуляя, размышляли с отцом о наших горестях. Он усиленно пытался разобраться в сложных процессах, которые проистекали в стране и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. И многое он, как и другие, сводил к личностям, к неведомым заокеанским врагам и к бездарям, заполнившим партийные и государственные кабинеты.
Я тогда впервые, находясь рядом с отцом при его общениях с людьми, в полном объеме и так остро ощутил внутренние противоречия в писательской среде, отражавшие, как в зеркале, взгляды и настроения, царившие в обществе, правда, далеко не всегда публично высказываемые. Отец с присущей ему живостью воспринимал все то, что происходило рядом с нами и окрест. Он много знал веселых и опасных по тому времени частушек, прибауток и анекдотов. Ну, к примеру:
Скажи мне, Фадеев, любимец ЦК,
Что сбудется завтра со мною.
Быть может, меня вознесет в облака,
А может – сравняет с землею.
Мне кажется, кое-что он придумывал сам: любил и умел рассказывать и петь в дружеском кругу частушки про наши непутевые российские дела. В этих припевках было больше обнаженной правды и острого взгляда на вещи, чем в обычных спорах-разговорах. После смерти отца осталось несколько блокнотов с обилием недомолвок и многоточий – он любил и часто со смаком использовал «нецензурные» слова. Но чаще встречались частушки и довольно мягкие, вроде:
Я каталася на льду,
Простудила ерунду,
А без этой ерунды —
Ни туды и ни сюды.
Наиболее интересными казались мне споры писателей. Скажем, существовали сторонники и поклонники Маяковского, но были и те, кто его вообще на дух не принимал. Полемика вспыхивала особо горячая вокруг Есенина – вокруг его поэзии, его жизни, его человеческого облика, его преждевременной и загадочной смерти. Отец отдал много сил восстановлению славного имени великого русского поэта, пропаганде его самобытного творчества. Он написал поэму о матери Есенина. В этот период его тесно связала дружба с сестрами Сергея Есенина – Екатериной и Александрой, много появилось друзей-есенинцев, среди которых был и известный литературовед Юрий Львович Прокушев.
Обсуждались порой – тогда еще как бы в завуалированном виде, но тоже довольно остро – вопросы, связанные со Сталиным и его временем. Но во всех перепалках и при всех обсуждениях отец всегда оберегал образ одного из своих кумиров – Ильича: ему долгое время наивно казалось, что все беды у нас от Сталина, который извратил Ленина – в теории, в практике, в жизни. А рядом с Лениным – что было, то было! – для отца таким же кумиром стоял Дзержинский (видимо, потому, что его в 20-е годы, как и многих других детей-беспризорников, выловили чекисты и передали на воспитание в детскую коммуну); другими – особы-ми – кумирами были Жуков и Есенин, в несть которого я и получил свое имя.
В восприятии людей многое в те сложные годы складывалось под воздействием жесткой пропаганды и партийного влияния, закрытости и цензуры в печати, в литературе и в искусстве, партийной их направленности, в результате чего трудно было определить истинную ценность той или иной личности. Но отец до конца дней своих так и не смог понять и поверить, что именно ленинская идеология разделила страну на нужных и ненужных людей, на героев и врагов народа. Он, как и большинство его сверстников, долгое время полагал, что это кто-то плохой наверху сдерживает животворные процессы (Сталин, Берия, Суслов…) и, лишь уйдет этот кто-то, – все изменится к лучшему, как в сказке.
Для меня же наиболее ценным из того, что дала мне семья, было общение с людьми, плоды которого остались надолго, они всегда существовали как бы параллельно со знаниями и навыками основной профессии, которой я отдал сорок лет жизни. Это и вывело меня в конце концов на ту активную жизненную позицию, которая подкрепляется желанием общаться с человеком – слушать его и разговаривать с ним. Может быть, поэтому я охотно работал в общественных организациях «Серпа и Молота», на Кубе и в научно-исследовательском институте.
Я начал свой трудовой путь с завода «Серп и Молот», куда пришел после окончания металлургического техникума. В техникуме был секретарем комитета комсомола. И на заводе тоже. Мне тогда еще не исполнилось двадцати. Комсомольская организация завода насчитывала тысячу четыреста человек, но ребят настоящего комсомольского возраста в ней почти не было – основной массе за тридцать. Существовало много проблем и социальных, и политических, и чисто человеческих. Люди жили трудно, именно в эти годы началась хрущевская «оттепель». Она породила новые проблемы для власти – многое нужно было объяснить и на многочисленные «почему» ответить.
Помню, как пришел я в заводское общежитие. Там долгие годы работала воспитателем моя мама. Что такое комната в общежитии, где фактически проживают несколько семей, не имея на то законных оснований, объяснить очень трудно: теснота, постоянный страх быть выброшенным на улицу, умение быстро спрятаться. Вся обстановка – четыре кровати, отделенные занавесками друг от друга и от общего стола в центре комнаты. Жили там ребята, работавшие по основным для завода профессиям: сталевары и вальцовщики, литейщики и формовщики, с женами и детишками… Захотелось им помочь, создать человеческие условия.
Именно у нас на заводе впервые зародилась комсомольская стройка жилого дома. Строителей не хватало, их заработки были низкими, условия работы – тяжелыми, условия быта – еще хуже. Охотников работать строителями было мало, в основном приходили работать за жилье и за прописку в Москве люди с периферии. Чем же хуже, думалось мне, наши рабочие, которые временно могли уйти с основной своей работы и после окончания строительства дома вернуться к ней снова? Стали по путевкам комитета комсомола направлять на два-три года на стройку жителей общежития. Меня поддержали и начальник управления капитального строительства, и директор завода. Мы организовали такую стройку, и острота проблемы была на время снята, но тогда она не могла быть решена кардинально: москвичи идти на стройку не хотели, и приходилось в техническом училище обучать периферийную молодежь основным профессиям – сталеваров, прокатчиков, литейщиков, – сразу поселяя ее в общежитие с последующим направлением на стройку. И так – по замкнутому кругу.
В те времена в столицу ежегодно приезжало около ста тысяч людей различных профессий, большинство из которых оседало в Москве. Фактически Москва в значительной степени застраивалась для обустройства лимитчиков и жителей близлежащих деревень и поселков, что порождало социальную напряженность среди коренных москвичей.
Между тем надвигался Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Подготовка к нему – это бессонные ночи, как в «лучших» сталинских традициях, это впервые приоткрытая информация о жизни нашей страны и других стран, это первые талоны на приличную одежду в специальных магазинах, это новые встречи, которые впервые открывали неведомый и долгие годы закрытый для нас мир.
К тому времени я стал секретарем заводского комитета комсомола и членом бюро райкома. Я пытался увидеть смысл любой работы в ее результатах. Здесь же я иногда терял почву под ногами, не находя ответа на многие вопросы, а самое главное, понимая, что если нас не будет, то ничегошеньки не изменится. А время уходит, его степенно перемалывает будничная мельница – то заседания, то субботники, то массовки, то собрания… И единственные ощутимые результаты – жуткая усталость и пустота. А к этому примешивается горечь от сложившейся в комсомоле чиновничьей субординации, когда ощущаешь себя сталинским «винтиком» в бюрократической машине. Очень было заметно, как комсомольская номенклатура, активно работая локтями, готовится к прыжку в партийную номенклатуру.
Пробовал учиться в институте – не получилось, ведь основное время работы – вечера и ночные рейды. Причем впервые увидел, как многие беседы «по душам» проходят за чаркой водки, – пить надо было уметь крепко.
И тут пришло осознание того, что в комсомоле только на низшем уровне сохранялись товарищеские и человеческие отношения, выше – в номенклатуре – все было иное, дорогу вверх прокладывала беспрекословная подчиненность, полная зависимость, постоянное «чего изволите» по отношению к партийным верхам, виртуозное владение демагогией. Меня же тянуло к аналитическому и логическому мышлению. Принял решение уйти из секретарей, объяснил это тем, что без высшего образования жить будет трудно. Очень помогла мне тогда мама. Она сказала: «Сын, я всю жизнь занималась общественной работой, всю жизнь уговаривала кого-то сдавать металлолом, выходить на субботники, организовывала ночные рейды по цехам – и так из года в год… Те, кого я уговаривала и кто с папочкой под мышкой уворачивался от всех мероприятий, постепенно окончили институт, получили хорошее образование и соответствующие должности, а я все продолжала уговаривать, ходить на поклон с различными просьбами теперь уже к этим людям. Смотри, как бы и с тобой того же не произошло…»
Она была права, моя мама, хотя сама продолжала гордиться своей работой, но я, пожалуй, только сейчас понимаю, как ей было обидно. Она радовалась, получив значок «50 лет в КПСС», но когда уходила на пенсию, ей положили 48 рублей. Я даже не знал, что такие пенсии бывают. Это сегодня многие из КПРФ как бы забыли, какие пенсии были при их власти. А мама была настоящей активисткой, много читала, владела чисто мужскими профессиями. Она умела водить самолет, у нее был значок «Ворошиловский стрелок», но на фронт ее не взяли – с ней оставались трое детей, Мы все в семье имеем любительские водительские права, – у нее были профессиональные. Она освоила редчайшую профессию тянульщицы (сейчас это называется «волочильщик») на проволочном волочильном стане. Я много работал на металлургических заводах, но так ни разу и не встретил женщину-волочильщицу. А потом – работа в женсовете, директором Дворца культуры завода, в библиотеке и т. д., и т. д. При такой энергии, конечно, нужно было оканчивать институт, но, видно, рядом не оказалось никого, кто бы посоветовал и помог в этом.
Мне, конечно, было лестно в двадцать лет входить в заводской «четырехугольник», лестно, что к моему мнению прислушиваются. Но тяга к учебе, к науке в конце концов победила. Московский энергетический институт я окончил в 1964 году, а через два года его окончила и моя жена Галя. Я бы, наверное, так и не дошел до диплома, если бы она не пошла учиться. У нас уже была дочка Марина, и проводить вечера без меня Гале становилось все труднее и труднее, иногда она срывалась, Нет-нет, да и у меня появлялось чувство вины, и я решительно сказал: «Будешь готовиться к поступлению в институт». Готовились вдвоем. В 1960 году она поступила в МЭИ, а в конце первого года учебы родила вторую дочь – Машу. Мы прошли свой институтский путь без перерывов, в чем нам очень помогли наши соседки – замечательные баба Саша и тетя Маруся, которые частенько оставались с нашими девочками вечерами. По могли нам и заводчане, устроившие дочерей на пятидневку сначала в ясли, а потом и в сад.
Вхождение в науку
В 1966–1968 годах мы с семьей жили на Кубе, где я работал на металлургическом заводе имени Хосе Марти. Как-то, прогуливаясь с Галей по поселку Аламар («У моря»), где мы обитали в домиках, предназначенных для туристов, заговорили о будущих планах. Галя на Кубе не работала и первое время очень от этого страдала – ведь всю жизнь она была одержима работой. Иначе она не умела – все с колоссальным напряжением и без счета времени. У меня тоже возникли проблемы: меня влекло в науку. Но останавливала боязнь безденежья – у нас росли такие «дорогие» члены семьи, как наши девчушки. Вот это я и сказал во время прогулки. На что Галя ответила:
– Пусть эта сторона тебя не заботит, делай так, как подсказывает внутреннее желание. Нет ничего хуже чувства неудовлетворенности – тогда будет плохо всем: и нам, и тебе. Я верю в тебя, а то, чего ты боишься, – временно…
По возвращении в Москву мне понадобилось полгода, чтобы выбрать новое место работы, хотя выбор был невелик: наши государственные научно-исследовательские и проектные институты – Гипромез, Тяжпромэлектропроект и ВНИИметмаш, возглавляемый академиком А.И.Целиковым. Вот туда я после недолгих раздумий и поступил на работу главным инженером проекта. Должность громко звучит, на самом деле – ведущий инженер, которому предстояло многое познать из новейшей техники и новейших технологий в металлургическом машиностроении.
Институт академика А.И.Целикова мне особенно нравился тем, что здесь, к какой бы ты профессии ни относился, нужно было хорошо знать технологический процесс того агрегата или машины, которые проектировались. К этому побуждала и традиция, установившаяся в институте, – непосредственно участвовать в проектировании, наблюдать за изготовлением и участвовать в монтаже, наладке и отработке процесса вплоть до сдачи машины в эксплуатацию «под ключ». А потом тебя частенько вызывали производственники для устранения неполадок или усовершенствования. Такая практика сильно обогащала в инженерном плане.
В институте меня хорошо приняли и коллектив, и руководство. Я очень сблизился с руководителем группы Олегом Кирилловичем Храпченковым, мы подружились семьями. Мне повезло: он оказался одаренным инженером и верным товарищем. Много мы с ним пробыли на наладках, – а это почти как в разведке. Ведь ситуации бывали разные – не все получалось так, как задумывалось в проекте.
Но, как иногда бывает в жизни, после удачного начала случаются сбои. Такой сбой произошел и у меня, что резко изменило мое положение и научную карьеру. Вмешался даже не Его Величество Случай – вмешалась наша партийно-закулисная система. Событие, может быть, и не слишком значительное, но оно позволило мне собственной кожей почувствовать умение партийно-номенклатурной системы расправляться с людьми, пошедшими в чем-то против нее. Конечно, этот случай был не первым толчком к критическому анализу происходящего в нашей жизни, и сегодня, когда мы живем в другом обществе и принципы отношений на работе иные, случай этот смотрится наивным, но…
В институте тогда существовало жесткое правило: тот, кто, на время перейдя из института на другую работу, возвращался затем обратно, должен был занять свою прежнюю должность – не выше. И это, вообще говоря, придавало чистоту и справедливость деловым отношениям, не позволяло никому и ни при каких условиях шагать через головы сослуживцев.
И вот произошло нарушение этого правила. Сотрудник, наш коллега, ушел от нас в туполевскую систему и оставался там полтора года. Затем вернулся снова к нам, но уже на оклад, значительно превышавший прежний, перепрыгнув сразу через две должностных ступеньки. А это конечно же задевало и обижало тех, кто с ним на равных должностях работал прежде, – среди них были подлинные ученые и инженеры, которым стало при этом очень неуютно. Естественно, начались шушуканья по углам, возникла напряженность. Надо было что-то делать, чтобы вернуть в нашу трудовую среду прежние деловой стиль и справедливость.
Я тогда только пришел в институт с «Серпа и Молота», пришел из той рабочей среды, где властвовала атмосфера открытости, где отношения строились без хитростей и обиняков. Там, даже если и захочешь что-то утаить от других, рабочие выведут тебя на чистую воду, вывернут душу наизнанку, да еще и потом будут тебя долго подначивать.
Мне, еще не отвыкшему наивно верить, что все больные вопросы нужно решать напрямую, посоветовали пойти в партком – тогда я уже был избран партгруппоргом. И я пошел в партийный комитет, сказал, что если мы не преодолеем подобную практику, то в коллективе утвердится несправедливость. В ответ секретарь парткома стал громко возмущаться инцидентом. Я ушел довольный, попытался успокоить и своих коллег. Но впоследствии для меня все двери оказались закрыты. Правда, через несколько месяцев всем «униженным и оскорбленным» оклады повысили, то есть вроде бы формально равновесие в коллективе было восстановлено, но и я, и многие другие уже успели пережить все это, переболеть и перегореть этим…
Пятнадцать лет я провел за «черновой» работой в командировках, занимаясь наладкой и проектированием, – без научной работы. Так продолжалось практически до момента, когда Госпожа Удача принесла мне успех в одной очень объемной и трудной работе. Но то, что в мою судьбу бесцеремонно вмешалась «великая и направляющая», заставило меня еще раз задуматься: есть ли у нее, у этой силы, основания посягать на права человека? Я думаю, едва ли не каждый, кто прожил жизнь или часть жизни в той системе, может припомнить похожий случай из своей жизни, похожую драматическую ситуацию. Для меня же это стало еще одним серьезным жизненным уроком.
В один из дней меня пригласил к себе академик Целиков:
– Я познакомился с вашей работой в журнале «Сталь», это же готовая кандидатская.
Отвечаю:
– Спасибо за оценку, она мне очень дорога. Но у меня в этой работе еще есть недорешенные вопросы с внедрением.
Он так лукаво смотрит на меня и продолжает:
– Ну, все эти вопросы вы можете в докторской диссертации домуссировать, а сейчас я даю вам на все про все три месяца, и после этого, будьте любезны, положите работу мне на стол.
Так практически была решена моя научная судьба. Правда, я представил ему первый вариант только через полгода, а окончательный – через год.
Работа заключалась в следующем. В 1976–1978 годах мы провели важные исследования в Липецке под руководством директора Новолипецкого металлургического комбината Серафима Васильевича Колпакова, впоследствии министра черной металлургии СССР. Исследование было связано с внедрением в производство наших отечественных машин непрерывного литья крупных слябов. На этих машинах очень недолговечными оказались роликовые проводки, в которых проходил и охлаждался непрерывнолитой сляб. Причину поломок очень долго не удавалось найти, а значит, машины подолгу простаивали. И Серафим Васильевич пошел на смелый эксперимент, названный тогда, между прочим, «экспериментом века». Директор фактически рискнул несколькими десятками плавок, по 300 тонн каждая, с тем чтобы исследовать все параметры литья – технологические, энергетические, силовые – и выявить слабые места и причины разрушений отдельных элементов машины.
Наша часть работы заключалась в непрерывной многочасовой фиксации на самописцах более 30 параметров разливки. Для этого работали три бригады круглосуточно – одна подменяла другую. Приборы, как избалованные дети, капризничали и требовали постоянного к себе внимания, переходящего во вмешательство в их работу. Скорость записи составляла миллиметр в секунду, и можете себе представить, сколько многокилометровых диаграмм нам пришлось обработать, чтобы получить и осмыслить результат.
В ходе эксперимента возникало немало и других проблем. Скажем, нам был выделен полугрузовой «рафик», который мы использовали, чтобы возить людей на каждую из трех смен и не прерывать процесса исследований. Но, как назло, шофер «рафика» оказался из тех, о ком говорят: «С утра дурной, а после обеда пьяный». Я отправил его «гулять» и сам возил людей, хотя у меня были только любительские права. Хорошо еще, что меня ГАИ ни разу не остановила, а то бы лишился я своих любительских прав, а наша бригада – нехитрого транспорта.
Но все это пустяки по сравнению с тем, чем оказался труд по обработке записей каждой плавки. Титанический труд. Все силы отнимающий труд. Порой у самых завзятых энтузиастов руки опускались, и казалось, что все наши четырехгодичные изнурительные усилия потрачены впустую.
В те дни одно интересное открытие сделала наша команда.
Дело в том, что в машине непрерывного литья жидкий металл подается в специальную форму (это может быть прямоугольник – для слябов, квадрат – для блюмов, треф – для круга), называемую кристаллизатором, который совершает возвратно-поступательное движение с малой амплитудой качания, чтобы застывающая корочка слитка не прилипала к стенкам. Далее слиток поступает в роликовую проводку, которая его ведет до полного затвердевания в сечении. И здесь существуют жесткие законы, с которыми необходимо считаться, если хочешь получить хороший слиток и избежать аварии.
Сечение слитка застывает за строго определенное время. Скажем, для крупного сляба это время составляет 25–30 минут, и тогда при длине роликовой проводки 25–30 метров скорость вытягивания слитка не может быть выше 1 метра в минуту. Если она будет выше, то при выходе из роликовой проводки – когда его начнет резать на заданные размеры специальная машина – из внутреннего сечения слитка выльется жидкий металл. Это крупная авария с тяжелыми последствиями. А при низкой скорости, напротив, слиток рано затвердеет и начнет ломать на своем пути роликовую проводку, если она имеет радиальную форму. На этом принципе были построены результаты нашей части исследований, описанные в журнале «Сталь».
Из науки в политику
Когда в конце 1989 года мы с Галей отдыхали в подмосковном санатории «Дорохово», у нас как-то зашел разговор вот о чем: в институте мне предложили баллотироваться в депутаты Моссовета. В душе я был согласен принять предложение и получил поддержку жены. Но когда мы приехали в Москву, ситуация круто изменилась – мои коллеги по институту решили, что я должен баллотироваться в народные депутаты РСФСР. Я принял решение самостоятельно, так как поддержки от Гали тогда не было.
После защиты кандидатской диссертации вернулся интерес к активной политике. С появлением в Москве Бориса Николаевича Ельцина мы в семье и на работе с товарищами горячо сочувствовали всем его начинаниям, следили за его передвижениями, встречами и желали ему хороших результатов. Хотя многое из того, что он делал, выглядело наивным, но, нам казалось, очень необходимым: и частые – напрямую – встречи с жителями города, и попытки насыщения товарами московских магазинов и рынков, и открытость московской прессы. Наивность состояла в том, что все это делалось через партийную номенклатуру, которая сопротивлялась и которую Борис Николаевич часто менял. Уже тогда становилось понятно, что необходимо пересмотреть саму систему и производительных сил, и производственных отношений, вводить демократические институты и строить правовое государство. И все же мы видели, как оживала Москва, как она выходила из спячки. Чувствовался канун серьезных перемен.
Мы с Галей очень внимательно следили за всем, что происходило в стране в 1989 году, переживали за смелых и ярких союзных кандидатов, а в последующем – депутатов Верховного Совета СССР; особенно волновались за Андрея Дмитриевича Сахарова, всей душой понимая его и сочувствуя ему. По всему миру прошли фотографии и кинокадры сидящего в кресле зала Дворца съездов такого, казалось, беспомощного и одинокого Андрея Дмитриевича и – бесновавшихся вокруг него народных депутатов.
И годы спустя сами депутаты оценили поступок А.Д.Сахарова, многим из них стало неловко за те мгновения, когда они не захотели услышать его голос против постыдной войны в Афганистане и покаяться. На его фоне особо стали заметны ханжество, бескультурье, полная отрешенность от жизни партноменклатуры, которая устраивала академику обструкции. А для нас каждый его шаг, каждый его поступок были огромной школой человечности, наукой просвещения. Наверное, и силы к демократам в значительной степени пришли от этой науки и от чувства великой потери, когда не стало Андрея Дмитриевича.
Тогда мы все как будто враз проснулись и увидели, что живем в нищем и бесправном государстве. Нищем, потому что государство не может быть богатым при нищих гражданах. Бесправном, потому что в стране правил не закон, правила партия – «ум, честь и совесть нашей эпохи», а вернее, кучка функционеров. Сколько унижений претерпели люди за годы партийного тоталитаризма! Сколько было уничтожено жизней, растоптано национальных обычаев и традиций! Какой воинственной пытались сделать нашу нацию! Что сотворили, словно бы в издевку, с нашими семьями, семьями родственников и друзей: жилье – в одном районе города, работа – в другом, гараж – или в труднодоступном месте, или в другом конце города, родня похоронена на разных кладбищах, садовый участок, если он есть, – за сотню километров от города, да еще пешком сквозь леса и болота километров пять – семь. И так во всем. Хочешь удобств – получай на всю катушку! Ведь, по идеям социализма, распределительная система находится в руках государства и оно должно обеспечивать выполнение лозунга «Все для человека, все во имя человека», хотя на деле все было направлено на подавление всякой инициативы. Не говоря уже о том, что социализм создал страну вечных очередей и дефицитов.
Особенно явственно все это осознавалось в заграничных поездках. В последние годы работы в институте я несколько раз ездил в Японию в командировку, где мы с японской компанией «Кавасаки Стил» осваивали новую технологию на машине непрерывного литья стали с двусторонним вытягиванием слитка. «Ноу-хау» этой технологии принадлежала нашему институту, но отработать ее до конца в нашей стране не представлялось возможным.
И вот японцы, заинтересовавшись новой машиной, предложили совместный проект и совместное изготовление машины с ее доводкой и отработкой технологии на их заводе. Это были очень интересные и познавательные поездки – мы воочию убедились в трудолюбии японцев, в их пунктуальности, дотошности и заинтересованности в работе.
В этих же поездках мы убедились и в том, что именно там, у них, больше заботы о человеке, чем здесь, у нас, в стране говорунов. На заводе, где мы были, – а это металлургический завод с полным циклом, построенный на насыпном грунте, расширившем морское побережье, – мы увидели и ботанический сад с редкими растениями, каждое из которых снабжено табличкой с описанием истории его появления, и прекрасно оборудованные стоянки у цехов для личного автотранспорта, и отличные дороги, и единый час обеда, и сам обед, который привозят прямо на рабочее место, и много-много чего еще, о чем нам можно пока мечтать. 90 процентов работников завода приезжают на работу на личном транспорте, остальных развозят заводские автобусы. Время на работе не считают – работают столько, сколько требует обстановка (не начальник). Мне не раз там вспоминался замечательный тележурналист Владимир Цветов, влюбленный в Японию и рассказывавший о ней так, как обычно рассказывают сказку.