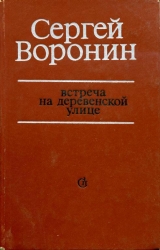
Текст книги "Встреча на деревенской улице"
Автор книги: Сергей Воронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ
На его открытие баба Нюша не смогла прийти – заболела. Но теперь, пооправившись, засобиралась. Хотела своими глазами увидеть то, что другие видели. Иного интереса у нее не было. За всю свою долгую, восьмидесятилетнюю жизнь дальше деревни она нигде не бывала. Тем более не приходилось ей бывать в музеях. И даже что они из себя представляют – не очень-то понимала. Но все же принарядилась. Аккуратно повязала голову цветастым, сохраненным еще с давних лет платком так, что два больших конца закрыли широким узлом грудь черной плюшевой жакетки, из-под которой тянулась до пят прямая шерстяная юбка. На ногах у нее были резиновые боты. Принарядилась так, как обычно одевалась, идя в клуб, на люди.
Шла не спеша, по твердой дорожке, накатанной рядом с шоссе. По сторонам от дорожки темнел подтаявший снег. Пятнами обнажалась земля с прошлогодними отмершими травами. Возле дома на припеке грелись куры. Волглый ветер овевал морщинистое лицо, выбивая из глаз пресные слезы. Баба Нюша утирала их чистым платком и шла, ни о чем не думая, устремленно вперед.
Музей находился рядом с клубом. Ему отвели небольшую комнату, отгороженную от зрительного зала стеной кирпичной выкладки.
– Здравствуй, Елена Васильевна, – поздоровалась еще у порога с заведующей музеем баба Нюша.
Заведующая отложила книгу в сторону. Она была тоже далеко запенсионного возраста. Когда-то учительствовала, а теперь занималась на общественных началах народным музеем.
– Че это у тебя такое? – спросила все еще с порога баба Нюша, оглядывая стены, занятые картами, фотографиями, и столы-витрины с разными вещами.
– Заходи, заходи, – приветливо поощрила ее заведующая и взяла указку. Видно было, что она рада пришедшему человеку и готова все ей рассказать и показать, что было в музее.
Баба Нюша, оглядев пол, чтобы не наследить, остановилась у края, от которого начиналась выставка.
Там, на большом белом стенде, виднелись археологические находки десятого века. О них и стала говорить Елена Васильевна. И баба Нюша, к удивлению своему, узнала, что на земле их деревни давным-давно жили люди, носили бусы, стреляли из лука стрелами с бронзовыми наконечниками, рубились в боях секирами.
– Скажи ты, матушка, – покачала в удивлении головой старуха. – Надо же... – И вспомнила, как прошлым летом приезжали ученые люди – двое мужчин и женщина, жили у старика Мирона и все чего-то копали в кургане возле Чудского озера. Значит, это они и старались для музея. И сказала об этом Елене Васильевне.
– Нет, никакие они не археологи, а проходимцы, – ответила Елена Васильевна. – Разрушили курган, забрали что хотели, а это уж школьники подобрали остатки.
– Да как же это, матушка, такое допустили? – всполошилась старуха.
– А потому что доверчивы больно. Пускаем в свой дом всяких, а они тут и хозяйничают.
– Может, там что и дорогое было?
– Наверно, было. Затем и приехали.
– И что же, не найти их?
– Нет. Оказывается, они даже и в сельсовете не были. А Мирон Афанасьевич паспортов не потребовал. Вот так вот...
– Смотри ты, а мы живем и не знаем, что у нас под боком такие богатства!
– Ну, не богатство в том смысле, а... впрочем, может, что было и дорогое... А вот тут уже наше дореволюционное время.
И баба Нюша увидала большую фотографию, на которой был изображен сеятель. Но в нем она никого из своих не признала. Видно, был мужик из другой деревни, из дальней.
Внизу, на полу лежали серпы, соха, стояла прялка с куделей и веретенами, воткнутыми в нее. Железные кованые удила. Тесало. Но это все старухе было знакомо, и она не задержалась, не понимая, зачем эту рухлядь натащили сюда.
Дальше шел стенд коллективизации. На увеличенной фотографии, выстроившись в ряд, стояли молодые мужики-пахари и старики с белыми полотенцами в руках. Это был первый колхозный сев. Она помнила его. И всех мужиков узнала. И первого председателя колхоза Ивана Степановича Чистякова. Хороший был мужик, хозяйственный.
– Тогда в нашем сельсовете было восемнадцать колхозов. Некоторые состояли из пяти-шести дворов, – объясняла заведующая.
– Помню, как же, помню... – ответила ей баба Нюша. – Все на памяти.
И действительно, все было на ее не замутненной годами памяти. Помнила, как возвращались с полей с песнями, особенно с покоса. То ли от молодости силы было невпроворот, то ли оттого, что жизнь ладилась, но легко было тогда. Среди баб узнала и себя, чему-то смеющуюся. Может, кто сказал что смешное, вот она и расхохоталась. Чего греха таить – любила посмеяться. Теперь-то уж и забыла, как это делается, а тогда смеялась. Веселая была. А как и не веселиться, – сама молода, муж молодой, сын подрастал – уже в школу ходил, дочка народилась. Все ладилось, вот и смеялась от беспечности...
И сразу как туча нашла на солнце. Это оттого, что заведующая подвела ее к большому стенду, на котором были три длинных ряда фотографий тех, кто погиб в войну из их деревни. И баба Нюша сразу узнала многих, да, считай, всех, и молодых и старых, и солдат и партизан, и мужчин и женщин. И как ожгло – увидала лицо своего сына. Он глядел на нее открыто и ясно, даже чуть улыбался.
– Сынок... – невольно вырвалось у нее, и она заплакала, прижимая руку ко рту. И вспомнилась война, и как среди ночи раздался тихий стук в окно, и баба Нюша, тогда еще не старая, вскочила с постели и, робея, подошла к окну, чуть сдвинула занавеску и увидала прильнувшее к стеклу лицо сына.
Он пришел раненый. Оставаться в лесу ему было никак нельзя. Начинала гноиться рана, и рука уже отекла до локтя. Как могла, очистила рану, приложила листья подорожника, завязала чистым. И он остался дома, благо немцев в деревне не было. Они только проезжали на своих машинах в сторону Пскова. Тогда Василий спускался в подпол и там пережидал, пока не проедут. Но однажды случилось так, что трое мотоциклистов зашли в дом и потребовали молока. Она напоила их, и они ушли. Затрещали мотоциклы, и сестренка крикнула в подпол, чтобы Вася вылезал. Василий вылез. И ни к чему им было, что один из мотоциклистов чего-то задержался в сенях. Но вскоре и он уехал. А через каких-нибудь десять минут все трое вернулись. Василий не успел слезть в подпол и поспешно спрятался под кровать. Там они его и нашли, и, даже не потребовав, чтобы вылез, пустили по нему несколько очередей из автомата. Один из фрицев сурово погрозил ей пальцем, и они уехали, уже по-настоящему.
Сын глядел на мать с портрета чуть улыбаясь. И рядом с ним были спокойные, открытые лица, теснившие его и сверху, и снизу, и с боков. И все же каждому из них было просторно. Все они погибли. И три брата Журавлевых на войне. И Степан Авдеевич в партизанах. И Катюшка, еще совсем девчонка, повешенная за связь с партизанами. И Николай Мельников, погибший на войне. И двое братьев-подростков – Лунгиных детей, запоротых насмерть за то, что не выдали, где находятся партизаны. А они и не знали где, – прятались от немцев в лесу и пришли за рамами для землянок в деревню. А тут их и прихватили. Подумали, что они пришли на разведку... И много, много еще деревенских, своих в этих трех рядах.
– Не все еще фотографии достали, – донесся до бабы Нюши голос заведующей. – Всех погибло сто восемьдесят семь человек из нашей деревни, а фотографий только шестьдесят восемь.
Ее сына фотография есть, чистая, большая. Ее пересняли школьники с маленькой, которая хранится дома у старухи. Он на ней такой, каким был перед войной. Баба Нюша глядела на фотографию и вспоминала, как вытаскивала его из-под кровати, всего в крови, мертвого. Как звала, заглядывала в глаза, думая, что он еще видит, но в глазах была уже закатная тусклота и ничего в них не отражалось. Даже свет от окна. Даже солнце. Кричала семилетняя дочка: «Братушка, что я наделала! Братушка, что я наделала!» – и каталась по полу возле него.
«А рука-то стала уже оживать», – вспомнила старуха, но без боли, как давно пережитое. И вдруг в таком знакомом лице не то чтобы увидала, а как-то почувствовала, что ее сын, вот на этой стене, не только ее сын, а еще какой-то другой человек, чем-то уже отрешенный от нее, слившийся со всеми, кто погиб, кого уже давно нет в живых. И все они вместе иные, чем каких она знала, – не просто деревенские, а тоже отрешенные. Кто убитый, кто повешенный, кто замученный. Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были такие близкие и такие далекие. И какая-то неуловимая грань стояла между нею и этими людьми, собранными воедино, отдавшими свою жизнь за Родину. И сын, как бы уже в святом отдалении, глядел на нее.
1977
ПРОЕЗДОМ
Василию Шукшину
Надо же, нежданно-негаданно Лешка Зайцев заявился собственной персоной. Спрыгнул из автобуса с небольшим чемоданом, в джинсах, обтянувших, как две деревянные ложки, его сухой зад, в черной кожаной курточке, с длинными до плеч волосами и бородой.
В своей родной деревне Лешка не был пять лет. И за все это время только один раз подал весть о себе – в первый год прислал матери десятку. Так что Ксения не знала, что и думать о нем. Жив ли или уже и нет на земле. И не раз, проходя мимо кладбищенских ворот, останавливалась перед кирпичными столбами, в облезлых нишах которых были изображены спаситель и мать-богородица, и шептала молитву, чтобы они сохранили ей сына, если он живой и невредимый.
И вот он явился. Стоял на родной земле и оглядывался. И вид у него был победный.
– Чего нос-то задрал, аль не узнаешь? – подошел к нему сухонький старик, прозванный в деревне Репьем.
– А, Кузьмастиныч, привет и солнце, как говаривает мой лучший друг и наставник дядя Петя. Жив еще? – оглядывая улицу поверх головы старика, ответил Лешка.
Улица была все та же, какой он видел ее в последний раз. И тополя были такими же, вроде нисколько и не выросли. И родительский дом стоял на прежнем месте. Никуда не делся.
– Чего это ты какую куделю выпустил на харю? – разглядывая Лешку, спросил старик. – Впротчем, и у твово деда была не гуще. Такая же срамная. – Это Репей тут же отплатил Лешке за вопрос – жив ли он еще.
Но Лешка на его слова не обратил внимания и, легко потряхивая чемоданом, направился к своему дому – наискосок от автобусной остановки.
Мать была дома, чистила картошку. Сидела, склонив седую голову. Лешка постоял на пороге открытой двери, подождал, пока мать своим материнским сердцем почувствует его, – не почувствовала, хотя в последнее время часто думала о нем.
– Привет и солнце! – громко, так что Ксения вздрогнула, сказал Лешка и размашисто прошел через кухню к матери.
Мать вскрикнула, вскочила, засуматошилась, увидя сына, тут же заплакала, выговаривая ему, что совсем забыл ее.
– Как же забыл, когда тебе во какой подарок привез! – доставая из чемодана целлофановый пакет, ответил Лешка. – Ну-ка, подставляй плечи. – И он накинул на нее тонкий шерстяной платок. – Оренбургский, маманя, тот самый, про который в песне поется. По дяди Петиному совету действовал. Как? – Он отошел на шаг и оглядел мать, маленькую, раньше времени усохшую женщину с голубыми, как осколки стекла, глазами.
Она сразу же обессилела и оттого, что нежданно свалился пропавший сынок, и оттого, что не забыл ее, думал о ней, коли привез такой щедрый подарок. Сама она себе давно уже ничего не покупала – не на что было. Донашивала старье.
Потом Лешка достал из чемоданчика небольшой пакет. Вскрыл его и положил на стол пачку бумажных салфеток.
– Это чтоб с полотенцами не возиться, – пояснил он, – вытер губы или руки и брось. Никаких стирок. Эх, жаль, дядя Петя не поехал со мной. Вот человек! – Он порылся в бумажнике и показал матери карточку, на которой был снят с дядькой лет сорока пяти. На дядьке была шляпа с перышком и такая же черная кожаная куртка, как у Лешки. Он приветливо улыбался всем, кто на него глядел.
– Вот он и есть дядя Петя, – восторженно сказал Лешка, – настоящий хозяин положения. Я ему заместо родного сына и вместе с тем лучший друг его и товарищ.
– Дай бог ему здоровья, – глядя на сына и дядю Петю, сказала мать.
– За его здоровье не волнуйся. Знает, как жить. – Лешка достал из чемодана кружок колбасы, батон и бутылку водки. – Давай, маманя, сразу договоримся. Я проездом. На одне сутки. И дальше.
– Да ты что, сынок! – вскрикнула Ксения.
– Учти, маманя, говорю только один раз. Таков закон у нас с дядей Петей. Сказал – отрубил. Считаю родственным долгом позвать крестного. Сходи за ним, а я пока сполоснусь с дороги.
Крестный явился сразу. Его можно бы и не звать, сам бы пришел – Репей уже сказал ему.
– Крестничка бог послал! – крикнул он еще у порога.
– Проходи, проходи, крестный! – вставая навстречу, сказал Лешка и троекратно расцеловался с ним. – Садись, отметим такое дело. Ты, маманя, тоже.
– Ой, сынок, да чего уж я-то... – но тут же послушно села.
Крестный поглядел с веселой усмешкой на крестника, на его козлиную бороду и принял стопку с водкой.
– Ну что ж, значит, с возвращением, – сказал он.
– Точнее, со свиданием, – поправил Лешка и пояснил: – Возвращения не будет.
– Это как же?
– Давай, давай, двигай. Позднее объясню.
Крестный вплеснул в широко открытый рот водку и взял кусочек колбасы. Рассмотрел его, понюхал и стал есть.
– Как живете, хлеб жуете? – деловито спросил Лешка, промокая салфеткой губы.
– А чего нам делается. Нового председателя поставили.
– А старый где?
– Сняли.
– За что?
– А нам не сказывали. Того сняли, энтого поставили.
– Свой, чужой?
– Чужой. А ты чего, разве не насовсем?
– А на кой мне? Чего у вас делать-то?
– Ну, дела-то много. Только, конечно, если у тебя свои планы...
– Точно. Надо жить, как птица! – категорично сказал Лешка и положил перед крестным бумажную салфетку.
– Это в каком же смысле? – спросил крестный, не обратив внимания на салфетку.
– А в таком, что все эти ваши дома с дворами, со всякой животиной – заблуждение. Ничего этого не надо. Человек должон быть свободным, как птица.
– Так ведь ей, птице-то, много ль надо? Поклевала, и спи на ветке. А человеку как без дома? Ты чего-то не того, крестничек.
– Того, того. Тебе бы послушать дядю Петю, он бы тебе враз все растолковал. Вон, вишь, с чем я прикантовался сюда, – Лешка показал на чемодан. – Тут и все мое хозяйство. А в нем, считай, ничего и нету.
– Так чего ж хорошего-то? Пять лет блуждал и ничего не скопил? – осуждающе усмехнулся крестный.
– Это смотря как поглядеть, – ответил Лешка и вытащил из внутреннего кармана куртки пачку бумаг. – Во, видишь?
– Ну.
– Аккредитивы. Куда ни сунусь, везде дома. Потому как деньга есть.
– Ну это само собой, если деньга. А если нету?
– А такого со мной положения быть не может.
– Если не секрет, много у тебя деньги этой?
– Хватает.
– Остался бы, сынок. Женился бы... – сказала Ксения и заплакала.
– Кстати, жениться тоже совсем необязательно, – тут же отрезал Лешка, – зачем своя баба, если на каждой стройке можно не хуже найти.
– Так это ж нехорошо, – построжал крестный и даже отстранился от стола. Но Лешка тут же налил ему в стопку, и крестный принял прежнее положение. – Это разврат называется, – все же осуждающе сказал он.
– Ну да... грех.
– Да. Ты не кобель, а человек. А человеку надо себя вести достойно.
Лешка помолчал, собираясь с мыслями, почесал бороду.
– Тут я не знаю, как бы тебе половчее ответить. Вот дядя Петя сразу бы тебя довел до ума. Вот он... ну, давай выпьем.
Выпили.
– Ешь, ешь колбасу-то. Специально взял кружок со стройки. У нас там знаешь какое было обеспечение! Вот, говорят, на БАМе еще лучше. Туда махну завтра. Дядя Петя, поди-ка, там уже. А у вас есть ли такая колбаса?
– Ну откуда же... Нам никакой не завозят.
– Ну вот, а ты говоришь – разврат. Чтоб жить по-настоящему, надо пользоваться самым что ни на есть лучшим, что есть в стране. Мы с дядей Петей самые выгодные стройки берем. – Лешка остро взглянул на крестного. – Вот ты чего видишь в нашем Кузёлеве?
– А чего? Мне всего хватает.
– Хватает, – передразнил крестного Лешка. – Чего ты видел-то в своей жизни? Бананы ел?
– Не.
– А ананасы?
– Не знаю такого.
– Тогда и молчи. А то еще тоже – шьешь разврат. Я вот гляжу на тебя, и мне тебя жалко, что ты всю жизнь проторчал здесь и ни хрена не видел.
– Ты бы не меня, а матку пожалел.
– А чего ее жалеть? У нее все в порядке.
– В порядке? А то, что ты ее совсем забыл, это как? – строго спросил крестный и подвигал седыми бровями.
– Где ж забыл, если приехал навестить? Не то говоришь, крестный, жизни не знаешь. Ты вот вроде домовой мыши, а я – как птица. Куда хочу, туда лечу. Она знаешь страна-то какая – хошь на юг, хошь на север. Везде стройки...
– А чего это ты меня домовой мышью обозвал? – отстраняясь от стола, с обидой сказал крестный. – Кака така я тебе мышь?
Лешка разлил остатки и ласково сказал:
– Ты не так понял. Это не то что ты мышь, а в сравненье, чтоб яснее было, как жить, Это дядя Петя так сравнивает. Так что не обижайся. Вот мышь и птица, – ясно, какая разница? Вот я к чему.
Крестный молча выпил, не глядя на Лешку. Видимо, обиделся.
– И что ж, ты долго так, сынок, будешь пропадать? – спросила Ксения, глядя с грустью на сына.
– А это уж на всю жизнь запланировано. Лучше не придумаешь. – Лешка опять достал аккредитивы. – Все с собой. Тут вершки, а в другом, потаенном месте – корешки. Вот пойду сейчас в сберкассу и все их в валюту превращу.
– И много выйдет? – полюбопытствовал крестный.
– Сказал, хватает, значит, хватает.
– Тогда бы хоть матке оставил толику. Чего ей пенсия? Тридцать рублев. А человек она нездоровый.
– Это можно. Я вот привез ей оренбургский платок, про который в песне поют. Ну-ка, покажи, мамань, пусть крестный посмотрит.
Ксения прошла к комоду, достала платок.
– Вот, смотри, кум, какой гостинец мне. – Ксения накинула на плечи платок и с укором сказала ему: – Не забыл меня сынок. Помнил. Так что ты зря на него...
– А я ничего, кума. Так, к слову пришлось... Значит, ты не расположен оставаться?
– Нет. Я тут проездом. На БАМ подамся.
– По какой же специальности работаешь?
– Механизатор. И на бульдозере, и на самосвале могу, на экскаваторе. Что-ничто, а в месяц триста, а то и поболе зашибаю.
– Не пьешь?
– В меру. Да и то, если только с дядей Петей, а так нет. И без водки удовольствиев хватает.
– Это каких же? – заинтересовался крестный.
– Кино, бабье, ну и сам по себе отдых.
– Это хорошо, что ты не пьешь-то. – Крестный закурил.
Закурил и Лешка.
– Чего по вечерам делаете? – спросил он.
– Передачи смотрим. Вот купил бы матке телек, сидела бы и тоже смотрела. А так скучает.
– Что ж, это можно. Надо только аккредитив сменить. В Гдове есть телеки-то?
– А как же, хоть и цветные.
– Как, маманя, тебе надо цветной?
– Да уж и не знаю, какой хочешь. А то и верно, Другой раз така хмара навалится, что не знаю, куда себя и девать.
– Ну что ж... На попутке сейчас сгоняю в Гдов, и порядок.
– Чего так загорелось? И завтрева никуда не уйдет, – сказал крестный. – Посидим еще.
– Вечером посидим. А сейчас дело надо делать. Не встанешь – не пойдешь, так говорит дядя Петя. Завтрева я дале махну. Тут нечего мне прохлаждаться. До вечера, крестный. – Лешка энергично встал и, не глядя на мать, вышел.
– Чего это он, никак и верно за телеком поехал? – растерянно сказала она.
– Деловой... Ну ладно, кума, может, и до вечера.
Когда он вышел на улицу, Лешки уже не было. Только пылился след за тяжелым лесовозом.
Через два часа Лешка подкатил на легковухе прямо к дому. Хозяин машины, молодой, тоже, как и Лешка, в кожаной куртке, помог ему внести в дом коробку с телевизором.
– Ну вот тебе, маманя, и телек. Скажешь крестному, пусть поставит антенну. И вообще подключит. А мне пора. А то время зря пропадает. Да и дядя Петя, поди-ка, ждет.
– Да что уж так... я бы баню стопила. Только приехал – и на вот тебе. Чего люди-то скажут...
– Ничего не скажут. – Он постоял, посмотрел на коробку с телевизором. – Цветной. Последнего выпуска, – сказал он. Помолчал, достал из кармана пачку денег, отсчитал четыре двадцатипятирублевых бумажки и отдал их матери. – Писем не жди. Сама знаешь, писать не люблю. Денег пошлю когда. Ну, и все.
– Да поживи, чего уж так-то... – заплакала Ксения.
– Не могу, да и машина ждет. И не плачь. Чего плачешь? Мне хорошо. Еще как! Так что радуйся. Сейчас на Псков махну, а оттуда самолетом. – Он строго поглядел на мать. – Не болей тут. Живи. – Поцеловал в щеку и вышел.
Ксения было кинулась за ним. Но машина уже выруливала на шоссе, а через минуту от нее и следа не осталось.
Налетел ветерок, потрепал седую прядку у виска и улетел.
«Так и он», – подумала про сына Ксения. Поглядела на деньги – она все еще держала их в руках, – подивилась целой сотне и поспешно убрала, хотя тут же подумала, что прятать-то их не от кого. Самое большее, если придется еще поставить бутылочку куму.
1977








