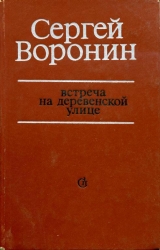
Текст книги "Встреча на деревенской улице"
Автор книги: Сергей Воронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
В ТИШИ
Все здоровые, сильные уехали за двадцать километров на сенокос, и в деревне стало пусто и тихо. И на всем Чудском не было ни одной рыбацкой лодки. Все стояли, уткнувшись в песчаное побережье. И вода была тусклой, неподвижной, размазанной светом на широкие светлые и темные полосы.
К вечеру на улицу стали выходить старухи и старики. Они садились на лавочки возле своих домов, отдыхали, положив тяжелые руки на колени. Чудское и в этот час было по-прежнему неподвижно. Легко, как восковые, сидели на воде чайки. Солнце клонилось к закату. И чем ниже оно опускалось, тем все плотнее водная даль сливалась с сиреневой небесной мглой. И от этой умиротворенности в природе на сердце становилось спокойно и ни о чем не хотелось думать, а только глядеть бы, как величаво и медленно идет вечер к ночи.
– Уже десять, – сказала жена, садясь рядом на ступеньку. Она взяла меня под руку и прижалась щекой к моему плечу, и затихла, покоряясь вечернему состоянию. – Как тихо... – И от ее слов тишина стала еще глуше.
В этой деревне мы оказались случайно. Раньше и не знали о ней. Ехали на автобусе наши знакомые, увидали из окна Чудское озеро, желто-песчаные дюны, диковатое побережье, в восторге рассказали нам, и мы поехали на все лето, потому что нам изрядно поднадоели дачные места с ревом транзисторов, с ночными кострами и громкими криками «туриков», со всем тем беспокойным, что принесло в пригороды последнее время.
И вот сидим у порога старой избы. Хозяйки нет. Она живет у сестры в другой деревне. И мы довольны, что одни, никому не мешаем и никто нам не мешает.
Здесь, в этой тиши, мы уже больше месяца. Нельзя сказать, чтобы жизнь людей открылась мне. Кое-что я вижу, узнал, но многое еще скрыто. Впрочем, я не стремлюсь узнавать, как живут здесь люди. И вообще, с тех пор как вышел на пенсию, все больше становлюсь бездеятельным и все больше созерцательным.
Если идти вправо от моего дома, то выйдешь к мысу. Он далеко врезается в озеро, усыпанный большими камнями. На мысу одинокий дом, несколько деревьев, колодец с журавлем и старик в валенках. Ему грозит никотинная гангрена.
– Курить надо бросать.
– Э, мил человек, – ответил он мне, – да разве ее, заразу, бросишь. Да и не в ней дело, знать смерть подступает. Хватит, пожил. Нагрешил вволю.
Он сидел на корме лодки и глядел вдаль на Чудское. По озеру бесконечными накатами шли небольшие волны. Иногда то тут, то там вспыхивали белым огнем их гребни, и снова все озеро становилось одноцветно-серым.
– Чем же вы нагрешили? – спросил я.
– А многим. Одной рыбы загубил тысячи. А за все, и за нее, ответ придется держать. Никуда не уйдешь. Тогда-то не понимал, а теперь знаю. К тому иду... Рыбак я был. Это теперь запреты, а ране где хошь ставь сети и переметы. Хорошо рыбы брали. Угорь попадал. Ну, судак само собой. Сиг. Снетка в Псков возили. Никаких таких моторов не было, на веслах ходили. Верст за пятнадцать – двадцать. Иной раз так прижимало, что небо с овчинку казалось. Николу-спасителя призывали. Зато и рыбы попадало. Я все места знаю, где каменные гряды, где травяное дно, где ключ бьет, где яма. Острогой на нересте щук брал. Теперь запрет. А у нас испокон веков велось щуку колоть. И всегда хватало ее. Ну а тут, значит, нельзя. А все равно колют. Иначе как ее достанешь? Приедут с рыбнадзора браконьеров ловить, а берег-то вон он, ровный, что твой стол. Начнут наши мужики бегать, остроги бросать, прятаться. Да где ж там, все не укроются. Пымают одного, другого, акты на них, штраф. Ну, остроги поломают. Рыбу, само собой, заберут. С тем в уедут. Каждый год так борются. Рыбки-то всем хочется. А ее все мене. И не в остроге дело, а в колхозе рыбацком. Вот где вред. Понаставят сетей, мережей в самый нерест, так когда вынают снасти, вся палуба на катере в щучьей икре. По лодыжку бывает. Щука-то, прежде чем угаснуть, икру сбрасывает...
– А чего ж вы не заявите?
– Будто не знаешь чего? Кто нас послушает? Никто мы для них.
– Ну, это вы напрасно.
– Да мне теперь все равно. Я так считаю – если дотяну до зимы, так и ладно. Зиму уж не осилить. Сейчас-то ноги стынут, хоть и в валенках. А там подавно околею.
– Так курить-то не надо.
– То не от курева. Так уж на роду написано. Да и хватит, потоптал землю, погрешил. Пора и отчет давать. – И такой усталой безнадежностью повеяло от его слов, что сам по себе разговор затих.
Откуда-то долетел ветерок, старые липы слабо зашелестели округлой, как детские ладошки, листвой. Стало прохладнее, и жена теснее прижалась ко мне.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
– Ни о чем...
– Тихо.
Да, вечер все больше уходил в тишину и покой, становясь вечностью. И почему-то думалось, что вот так же давно-давно, сотни лет назад, смотрел какой-то человек на такое же угасающее небо и на безмолвие воды и, наверно, испытывал то же состояние своей незначимости, как и я теперь, перед этим громадным и таинственным миром. И виделся мне тот человек неподвижным, как окаменелость.
Медленно, опираясь на палку, согбенно прошел мимо нас сосед, старик лет восьмидесяти. Он поднялся на песчаный холм и стал смотреть в сторону заката. Несколько дней назад он похоронил жену. И вот так же, после похорон, взошел на холм и долго смотрел на Чудское, опираясь на палку. О чем он думал? Не знаю. Но я, глядя на него, подумал о деревенской жизни. О том, что в деревне все на виду, все на глазах. Рождаются, растут, женятся, обзаводятся детьми, стареют и умирают. Естественный круг. Но в деревне он обозначен неумолимее. Вот так же, как умерла старуха и лежала в гробу и к ней стекались все ее бывшие подруги, ставшие старухами, и старики, когда-то бывшие парнями, ее одногодки, так и все они по очереди завершат свой круг, и к каждому из них будут стекаться остальные, зная, что и их ожидает то же. В городе смерть незаметна, в деревне – на виду.
До выхода на пенсию мне некогда было задумываться о многом, не имевшем прямого отношения к работе. Но вот теперь стал думать. Задумался и о том, что такое разум – добрый подарок природы или наказание человеку? Ведь если бы не сознавать, что смерть неизбежна, что непременно умрешь, то какая была бы в неведении этого счастливейшая жизнь! Даже осознания старости не было бы. Жил бы и жил человек бездумно, как птица... Но вот знаешь, и становится не по себе от таких дум.
Грустные мысли навевает деревенский вечер с его безлюдьем и тишиной. Ощущение такое, что те, кто уехал на сенокос, никогда не вернутся в деревню...
Жена пошевелилась и еще теснее припала к моему плечу. Самое родное, самое близкое мне теперь. Все, что-было лучшего и прекрасного в любви, связано с нею. Встретил ее молодую, красивую и влюбился. И счастлив был, когда узнал, что и она любит меня. И вот прожита жизнь. Случалось, ссорились, сердились друг на друга, угрожали разводом, а теперь даже и не вспомнить из-за чего. Впереди осталось не так уж много, по крайней мере несравнимо меньше, чем прожито. Да и то, что ждет впереди, не сулит радостного будущего... Ах, если бы у нас были дети! Какое это было бы счастье! Но по молодости не хотелось обременять себя, связывать. Когда захотели, было уже поздно. А если бы дети были, какой бы это был большой дополнительный смысл и жить и действовать. Теперь же бесцельное доживание. Поэтому все куда-то тянет, в какие-то иные места, где, думается, что-то ожидает нас радостное, но нет, нигде и ничто нас не ждет. Мы будем везде одиноки и похожи, без детей, на эту опустевшую деревню.
Солнце тяжело опускается в мглистую тучу. Синеет земля. Озеро становится совсем тихим и темным.
– Поздно уже, – говорит жена.
– Да. Пора спать...
На августовском черном небе ярко разгораются звезды. С полей тянет прохладой. И почему-то невольно вспоминаются слова старика: «За все придется ответ держать...»
1977
ОТПУСК В КУЗЁЛЕВО
Повесть
1 июня. Сегодня приехал в Кузёлево. Не был здесь с прошлого года. Как всегда, первое, на что я устремляю свой взгляд, – это Чудское озеро. Даже мысленно с ним здороваюсь: «Здравствуй, неоглядное, – говорю ему, – вот мы и снова встретились. Я рад тебя видеть, и, надеюсь, ты не будешь ко мне очень суровым. Только поменьше бы ветра, а? Это бы нам обоим не помешало, верно? Ведь ветер и тебе ни к чему. Только ерошит твои воды, как мои волосы. Но и совсем спокойно – это тоже плохо. Немножко-то надо, но только не так, чтобы уж очень сильно...» Я говорю ему и невольно улыбаюсь своей такой сентиментальности. Ну что ж, немножко можно и такого. От этого никому вреда не станет.
За то время, пока меня не было, в деревне построили новое двухэтажное здание из белого кирпича. В нем правление колхоза. Слов нет, новое здание солиднее прежнего, одноэтажного. Хотя, если говорить о колхозе, то он не блещет своими успехами. Так что шапка явно не по Сеньке. Но я стараюсь не вникать в колхозные дела. Человек я здесь посторонний, и самое правильное для меня ни во что не вмешиваться. Впрочем, для сельсовета я не посторонний, а законный житель Кузёлева – имею собственный дом. Хотя дом – это уж слишком сказано, скорее изба, старая изба, которую я купил у семидесятилетней старухи. Она «по любви» (так и сказала при оформлении купчей) вышла замуж за такого же семидесятилетнего старика в соседнюю деревню. Изба досталась недорого, всего за пятьсот пятьдесят рублей. Это потому, что мала, с подгнившими нижними венцами, с покосившимися от старости рамами, с крышей, покрытой теперь уже изгнившей щепой, и все же вполне пригодной для жилья. Нам много с женой не надо. Она уже на пенсии, сюда забирается с весны, я приезжаю в отпуск и раза два-три за лето на выходные. Ей нравится огородничать, мне – рыбалить. Неподалеку от деревни лес, а это значит – грибы и ягоды. До пенсии мне осталось три года, и надо теперь уже подумывать о том, чем себя занять, когда буду «на заслуженном отдыхе».
Изба стоит неподалеку от дюн, на краю деревни. У хозяйки был огород по ту сторону шоссе – там земля хорошая. Здесь же песок. Старухин огород, естественно, отошел кому-то из колхозников, и мы решили завести свой, возле дома, на песке. Для этого привезли три самосвала полевой земли, пять телег навоза, – все, конечно, за деньги. Только после этого на нашем огороде стала расти разная зелень вроде петрушки, укропа, морковки и несколько кустиков земляники. Со стороны поглядеть – все это выглядит довольно убого – и дом, и огород, но мы довольны. Со временем я покрою шифером крышу, обошью вагонкой дом. Вдоль забора посажу деревья. Жена мечтает развести цветы.
На Чудском крупная волна. Ветер северо-западный. Гонит тяжелые тучи. Они несутся низко над водой, лохматые, рваные. Такое часто бывает в этих местах. И все равно хорошо! Настолько, что даже боюсь, как бы что не омрачило...
2 июня. Моя лодка лежит на берегу, опрокинутая вверх дном. Она подрассохлась. Надо будет ее прошпаклевать и покрасить. На это уйдет три дня, прежде чем спущу ее на воду. Главное, чтоб хорошо высохла краска. Для шпаклевки я приобрел замазку – она вроде пластилина. Ею удобно замазывать щели, и не надо ждать, пока высохнет, – сразу же можно красить. И я с удовольствием приступаю к работе.
К вечеру лодка прошпаклевана и покрашено дно. Я курю и гляжу на воду. Ветер затих, похоже, что завтра будет погода, и меня неудержимо тянет порыбалить. И я иду к старику Моркову. Думаю, не откажет – даст лодку либо сам поедет со мной.
Прошлой зимой у него сгорел дом, и теперь он живет в стандартном, который получил от колхоза. Предполагалось, что в этом доме будет столовая для механизаторов, но затея эта не пришлась им по вкусу – ездили на обед к себе, и два года дом простоял пустым. Постоял бы и больше, пока его не растащили бы по частям, – рамы уже вынули и порушили печь, но вот несчастный случай у Моркова, и дом уцелел.
– Заходи, заходи, Павлуша, – приглашает Морков, как только я переступаю порог. – Посмотри, как живу, как устроился.
Внутри современная планировка: сначала прихожая, из нее вход в комнату, в кухню – отдельно. В комнате светло – четыре больших витринных стекла. По стенам два дивана, на них спят хозяева. Сервант с вазочкой и цветами. Все современно. Только на полу по-старому – самодельные дорожки.
– Ну что ж, хорошо, – говорю я.
– Так ведь и совсем неплохо. Вполне достаточно нам с женой.
– Зимой не замерзали?
– Что ты! Топил так, что кирпич трещал. Дров занимать, что ли. Вона кака стена еще сохранилась. Пожар-то не тронул. – Он показал трясущейся рукой в окно на поленницу дров. – Хорошо жили.
Он очень жизнелюбивый, этот старик, хотя ему и подваливает к восьмидесяти. Это, пожалуй, оттого, что он за многие годы, пока руководил колхозом, привык к энергичным действиям, к активной жизни. Но те, кто знал его по прежним годам, отзываются о нем не очень-то лестно.
– Да ведь как же – с меня спрашивали, а я с них. Так уж наша жизнь устроена. Со всех спрашивают. А иначе, без требовательности, и поле сорняк одолеет. Я и бригадиром был, и председателем сельсовета, и вот здесь председателем колхоза больше двадцати лет, в самые трудные времена. И выговора получал, и в окружком выбирали. И воевал. Вот теперь живу со старушкой своего возраста. Отдыхаю. По своей натуре я, вообще-то, человек мягкий. В детстве плакал, если видел мертвого птенчика, а вот во взрослом состоянии был поставлен в такие условия, что бывал и без жалости. Таковы создавались условия жизни. Я и теперь, бывает, осуждаю.
– Кого же?
– А всех, кто ведет себя недостойно. А такие есть, которые пить стали крепко. Главное – на работе хлещут. Такого ране никогда не было. А теперь вот так. Куда такое дело годится! А все председатель – распустил народ. А в нашем деле послабления давать никак нельзя. Чуть ослабил струну – и уже звук не тот. Не тот... Я был непримиримый. Ну, остерегались...
Он маленький, безбородый, безусый, бел как лунь. Руки у него трясутся.
– Это от жизненных условий. Все нервы порваты. Бывало, белый свет в глазах кругами идет. А как же, тут себя не жалеешь, весь выкладываешься, а другой дуру валяет. Да еще ухмыляется на мои замечания. Какой нерв выдержит? Вот отсюда и трясучка. Все здоровье унесла руководящая работа. Вон мой брательник – старше меня, а клюквы с болота по мешку таскает, да без отдыху. А тут стараешься, ночи не спишь, а тебя на бюро райкома, да выговор. Так аж до слезы доходило, до того досадно да обидно. Плюну, думаю, уйду! И плюнул бы, да куда денешься – коммунист. Это тебе не беспартейный. С того какой спрос. А с меня ого еще как!
Старик рад поговорить со мной. С местными не с каждым поговоришь, а с кем бы и поговорил, так все уже сказано-пересказано, а тут свежий человек.
– Хлеб-то уж больно у нас дешев. Сам посуди – буханка четырнадцать копеек. Задарма, считай. Чаю напился да ее спорол – и на весь день сыт. Можно и тунеядничать. А то и еще чище того – хлебом стали скотину кормить. По десять буханок берут каждый день в лавке. Куда им столько? Есть, что ли? Ясно куда, скотине. Поросей стали хлебом кормить. Не откармливать, а выращивать. Нет, что ни говори, а добрая у нас советская власть, добрая. Она, конечно, и должна быть доброй. Для кого и завоевывали ее, только ведь добротой надо умеючи пользоваться. Да так, чтоб каждый для всех старался, а не под одного себя греб. А сейчас, как я наблюдаю, многие под себя гребут. И никто не остановит. А от этого советской власти худо.
Мыслями и проблемами он набит, как мешок зерном. Все его заботит.
– Да, вот с нонешнего года первый класс закрывают в школе.
– Почему же?
– Ребятишек нет. Молодежи-то нету. Один Ленька пришел с армии, вот вернулся. А другие, как уйдут, так и все. А ране-то было много ребятни. Много...
Слушать его интересно, но я дал себе слово не влезать туда, куда меня не зовут. Было время – высказывал свои мнения, только ничего путного из этого не вышло. Так что уж лучше подальше, а вот насчет рыбалки договориться бы надо.
– Не собираешься на рыбалку? – спрашиваю я.
– Дак куда же с моей силой. Вот если б ты погреб, так чего ж не порыбалить.
– Да ради бога! – радостно соглашаюсь я.
– Тогда давай завтрева к пяти выходи на берег, к моей лодке.
Рядом с Морковым живет Николай Иванович Рогозин. Он из тех – кто к нему хорош, к тому и он неплох. Увидал в окно, машет рукой, зовет к себе.
– Слыхал, а как же, слыхал. Репей уже оповестил: приехал, говорит, Павел Сергеич. Здравствуй, здравствуй, захаживай!
– Откуда ж это Репей узнал?
– А он все знает. Ему сорока на хвосте новости таскает.
В доме у Николая Иваныча все добротно. Правда, мебель вперемешку, и старая и современная. Есть и старинный буфет резной работы, и цветной телевизор, и спальный гарнитур. И в кухне хорошо, светло, просторно.
– Сейчас мы это дело отметим, – оживленно говорит он и лезет в подпол.
Отговаривать бесполезно, потому что он рад-радешенек доброй причине, чтоб выпить. Жена не очень-то позволяет ему. Ну а тут, как говорится, сам бог велел.
– На-ко, держи, – он протягивает из подпола банку с огурцами. Нагибается и еще подает банку с грибами. – Во как, лето, а у меня еще прошлогодние огурцы и грибы. – Он открывает крышки, и воздух тут же наполняется запахами чеснока и укропа. – Как, а? – и лукаво поглядывает на меня. – Одна беда, водки маловато...
– Так я схожу. Я приехал, с меня и приходится.
– Ну, если так, тогда так, а то по стопке-то у меня найдется.
Лукавит, у него и бутылка найдется. Но зачем же свою, если можно чужую.
В сельмаге, как всегда, народ. Терпеливо стоят в очереди. Больше женщины. Говорят свое. Старухи увидали меня, заулыбались.
– Приехал?
– Приехал.
– И как это только тебя жена одного оставляет в городе?
– Да вот не оставляет, коли приехал, – отвечаю я. И это им в самый раз. Засмеялись, словно обрадовались.
– Это уж верно, наш брат без веревки у подола держит.
– Правильно Авдотья Николавна делает, что надолго не отпускает. Ну-ка пусти, как он тут же свои усы накрутит. Чего ж без нее явился?
– Она по хозяйству.
– А ты чего, купить или как?
– Да вот бутылку надо бы.
– Ну дак и бери. Дайте ему без очереди. Чего будет томиться. Это наше дело разного набирать, а ему чего время попусту тратить.
У Николая Иваныча все уже готово. Даже успел яичницу на свином сале спроворить. Впрочем, теперь что – газ, поднес спичку и жарь.
– Ну, вот и еще год прошел, – говорю я.
– Пролетел, будто и не было. А ты, значит, опять в отпуск?
– Опять.
Мы уже выпили, закусили – и огурцы, и грибы и впрямь хороши – теперь самый раз поговорить. Николай Иваныч доволен. Жена на огороде, да если теперь и заявится, то уже не помешает.
– Ну, давай-давай. Набирайся сил. А я в этом году на пенсию выхожу. Но работать, однако, не брошу. Чего дома-то околачиваться. К тому же у нас стройку затеяли. Жилой комплекс называется. В этой пятилетке шесть двухэтажных домов должны построить.
– Кто же там будет жить?
– С Маловки в первую очередь переселят. Ну, они рады. У них что? Ни озера, ни леса. А тут эка, само Чудское. Так они с полным удовольствием.
– Ну а что же потом – и вас вселят в такие дома? – с некоторой тревогой спросил я, потому что косвенно могло коснуться и меня.
– Ну до нас очередь далека. Это из других деревень станут свозить, а мы и так здесь. Чего нас селить. Не, нас не будут. А если и будут, так не скоро, – он налил еще по стопке, – может, и не доживу.
– А что, уж так не хочется в новый дом? – У меня появился прямо-таки какой-то болезненный интерес к этому вопросу.
– Да ведь как тебе сказать, Павлуша. Сначала попробовать надо. Вот газ тоже не хотели. К чему вроде он, если есть печка, а теперь так привыкли, что отними, так и жаловаться станем. Все дело в привычке. Там, в новом-то доме, тоже будут свои приятности. Дров не надо, опять же воду не носить с улицы, будет водопровод, как в городской квартире. Ну и другие какие удобства. Но опять же и недостатки. Скажем, на кой мне жить вместе с Морковым? Надо же, дом сгорел, так он теперь под самый бок ко мне подвалился. Нужен он мне, как мороженый лук.
– А чего ты так к нему?
– А как же еще? Или, думаешь, я забыл, как он после войны командовал мной? Все помню! Ну да к тому времени уж и Моркова не будет. Вон как его трясучка бьет. А это верный признак – долго не протянет.
– Что, обижал?
– А как же? Я только с фронта явился, так он тут же меня на лесозаготовки наладил и не выпускал подряд два года. А харч-то какой был? Ведь не заяц, чтоб кору жрать. И слова не скажи. Под суд за сопротивление власти. Знаю я его... – Николай Иваныч сердито посмотрел на меня. От выпитой водки на лбу у него выступила испарина.
– До сих пор не можешь простить?
– А за что прощать-то? Чего я видал от него доброго?
– Ну да ведь и с него спрашивали, – сказал я, вспомнив разговор с Морковым.
– А это нам неизвестно. А то, что меня гонял да обижал, так это доподлинно... – Помолчал и уверенно сказал: – Да нет, в своих домах будем жить. Чего нас сселять. – И это было сказано так твердо, что я успокоился за свою избу. Если Кузёлево останется, так и меня не тронут.
Выпили еще. Николай Иваныч покрутил плешивой головой, заглянув в окно. Анна Дмитриевна, его жена, все еще поливала гряды.
– Вот тоже, хоть и жен взять, – заговорил снова он. – Всегда они правы, таракан тебе в нос, а мы, мужья, завсегда виноваты. Выпьешь – виноват, мало рыбы поймал – виноват. Кругом виноват. А то еще на днях говорит: «Я выходила за тебя замуж, надеялась на совсем другое, а ты обманул меня». Это теперь, когда ей под шестьдесят, вздумала корить, а? Обманул! А чего обманул-то? Чего? Как у Христа за пазухой жила. Да ну их к лешему! – Это он сказал уже с сердцем, и я понял, что он готовится к бою с женой. Может, не столько атакой, сколько обороной.
Бутылка подошла к концу. Николай Иваныч проворно рассовал вилки и стопки по своим местам, сполоснул тарелки из-под огурцов и грибов, вытер сковороду после яичницы, убрал хлеб, сунул банки с соленьями куда-то в глубь буфета, будто ничего у нас и не было. И, когда управился со всем этим ликвидационным маневром, закурил и философски заметил:
– Вот так вот и живем, Павлуша. – Вздохнул, но тут же винная волна снова подняла его на гребень обиды, и он воскликнул: – Чудило этакое, все думает, что сто веков будем жить. А того не понимает, что теперь уже надо каждый час ловить да радоваться, что он твой. Дура, ей-пра, дура!
И тут вошла Анна Дмитриевна. С засученными до локтей рукавами пестрой кофты, в платке, надвинутом на выцветшие, но еще красивые, дугой, брови.
– Ань! – тут же вскочил Николай Иваныч. – А у нас дорогой гость!
Анна Дмитриевна быстро, по-хозяйски окинула взглядом пустой стол, и лицо ее стало страдальческим.
– Хо-зя-ин! – чуть не плача заговорила она. – Расселся, а нет того, чтобы человека угостить. Ну, чего стоишь-то? Накрывай стол да вино поставь, а я сейчас яишню сготовлю.
– Нет-нет, спасибо, Анна Дмитриевна, – тут же стал я отказываться. – Мне домой пора. Жена ждет.
– Только пришел, уж и пора. Как бы не так. Ну, чего стоишь-то, говорю! Ведь обидел человека, обидел!
– Я что... Я всегда, – засуматошился Николай Иваныч и снова поставил на стол наши стопки, но тут что-то, видно, разглядела в его лице Анна Дмитриевна, потому что взяла одну из стопок, понюхала и остро взглянула на мужа.
– Да ты уж никак приложился? Ну да! И нос скраснел, и глаза лупятся. Да когда ж ты это успел? А? Ну ты скажи! Вот, Павел Сергеич, как тут с ним жить? Смолоду таким не был, а теперь на старости совсем от рук отбился. Только и думат, как бы этой заразы нажраться!
– Да чего ты, чего? Если хошь знать, так это меня Павел Сергеич угостил. По рюмашке всего и выпили...
– По рюмашке, – передразнила его Анна Дмитриевна. – Вот и говорю, только в позор вводишь. Нет чтоб угостить самому, так все норовишь на чужой счет, да и то втихомолку да за углом.
– Да нет, напрасно вы на него, – вступился я за совсем растерявшегося Николая Иваныча. – Все хорошо.
– Да чего уж тут хорошего-то! Доставай вино-то! – прикрикнула на мужа Анна Дмитриевна.
Николай Иваныч кинулся к буфету, достал целую бутылку водки, показал ее мне и засмеялся.
– Садись-ка, садись с нами, – сказал он жене, – а я сам тут все сделаю. – Он быстро поставил тарелки, нарезал хлеб, тут же достал из глубины буфета банки с грибами и огурцами и все приговаривал: – Это верно Анна Дмитриевна сказала, чего это мы втихаря. Мы можем и в открытую. – И подмигнул мне требовательно, чтобы я садился за стол.
Появилась яичница.
Анна Дмитриевна сидела строгая и неприступная для мужа. Он же заискивал перед ней – подвинул налитую стопку, чтобы ей было удобнее ее взять, положил вилку, подумал, и кусок хлеба положил у вилки. Все это видела Анна Дмитриевна и все равно не оттаивала.
– Ну что ж, значит, давайте со встречей, – сказал Николай Иваныч, но потянулся со своей стопкой не ко мне, а к жене. Анна Дмитриевна небрежно чокнулась с ним, деловито обтерла губы рукой, выпила и стала закусывать. После чего и Николай Иваныч приложился, но так нехотя, будто это ему было в тягость. Вяло потолкал вилкой в грибок и опустил голову, задумался.
– Чего ты? – спросил я его.
– Да так, вспомнил... Болезнь у меня была с осени. Упадок сил. Температура тридцать четыре и пять. Сердце еле трепыхалось. И есть ничего не хочу. Яблоко возьму – не хочу яблока. Упадок сил. Вот-вот упаду и умру...
– Чего уж вчерашнее-то вспоминаешь, – взглянув на мужа, с жалостливой ноткой сказала Анна Дмитриевна.
– А к тому, что сколько ни живи, а солнышка не переживешь, – еще грустнее ответил Николай Иваныч. И неожиданно запел: – «Бывали дни веселые, гулял я, молодец. Не знал тоски-кручинушки, как вольный удалец...» – слабо махнул рукой и заплакал.
– Да ладно, полно уж, полно, – и сама чуть не плача, жалея Николая Иваныча, сказала Анна Дмитриевна. Налила нам по стопке, причем мужу первому, но сама пить не стала. – Вы уж посидите, а я пойду. Дело-то стоит, – и ушла на огород.
– Вот так и живем, – весело сказал Николай Иваныч. – А иначе никак. Да и то подумать, для чего нам дадена жизнь? Иль только для работы? Да хоть бы ее и век не было. Много ль мне теперь надо? Выпить рюмашку для настроения да побеседовать с умным человеком.
– Да ведь ты только что говорил, что хоть и на пенсию выйдешь, а работать все равно будешь.
– Мало ль чего скажешь. Ты тоже каждому-то слову не особо верь. Может, буду, может, нет, может, дождик, может, снег. Давай еще выпьем, Анна Дмитриевна теперь перечить не станет.
Но я отказался.
По пути к дому встретил Леньку, недавно отслужившего в армии. Он как бешеный промчался на коне, поддавая в бока голыми пятками. Несся так, словно что случилось, хотя можно было с уверенностью сказать – ничего не случилось. Просто показывал свою удаль.
Дома сидела соседская Ангелина, маленькая, суховатая женщина, мать двух сыновей и трех дочек. Вырастила она их одна. Муж после войны пожил недолго, сказались ранения. Умирая, все говорил: «Как ты будешь без меня?.. Не учел, что умру, не учел. Тяжело тебе будет». И верно, жила она трудно. Не вылезала из колхозного свинарника, из этой вони, которой была пропитана вся: и одежда, и волосы, и тело, и дом. И от ребят отворачивали носы. И все же вырастила, хотя и не смогла дать даже среднего образования. Но, как показало время, жалеть ей об этом не пришлось. Жизнь у ее детей наладилась не хуже, а еще и получше, чем у сыновей ее соседа Евграфова. Те инженеры, а ее – один грузчик, другой шофер. Грузчик работает на большой городской базе. Шофер – в строительной организации. И теперь дом у Ангелины один из лучших в деревне. И с едой у Ангелины хорошо. Одна из дочек работает в продмаге и каждый раз привозит то парное мясо, то цейлонский чай или блинную муку. Другая дочка зав промтоварным магазином. У этой свои возможности: шерстяные ткани, обувь, которая не залеживается, хлопчатобумажное белье. Третья – экспедитор. Тоже кое-чего добывает. Все они семейные, живут дружно и ни в чем не нуждаются. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ангелина в разговоре с деревенскими, да хоть и с нами, цедит слова и держит себя так, будто устала от такой «хорошей» жизни. Нам она принесла палку копченой колбасы – салями.
– Я сама-то не ем ее, не люблю. Да и зубов у меня нет, чтоб грызть. Привезла меньшая, а все и уехали. А мне куда она.
– Чем же тебя отблагодарить? – говорит жена.
– А ничем. У меня все есть.
3 июня. На озере тихо. Западный успокоился, и теперь вся вода лениво покачивается, тускло отражая блеклые облака. Еле приметно тянет с берега восточный. И от этого клев хуже некуда. Изредка рвут червя ерши. Другой раз и сам-то с сантиметр, а червя заглатывает в два раза больше себя. Вытащишь, а у него от изумления глаза на лоб лезут.
– Ты вот думаешь, я старый и, значит, вроде не гожусь. А это совсем неверно. На самом-то деле я не так уж худо соображаю и многое вижу. Вот, скажем, такая мысль, – Морков вытащил ерша, поглядел на него и выбросил за борт лодки. Ерш шустро вильнул хвостом и пропал. – Да, вот такая мысль. Народ стал культурнее, верно? Еще как верно-то! Моя правнучка в двенадцать лет знает то, чего я и в тридцать не понимал. Отсюда какой вывод? А такой, что с каждым годом все труднее будет работать с таким народом. Тут уж руководителю нужны будут ого какая культура и знанья. Потому как это же далеко не те мужички, которым я самолично читал «Крестьянскую правду». Тогда слушали, а теперь сами тебя заставят слушать...
Я молчу. Давно понял, что все эти разговоры бесполезны. Да и мало ли у кого какие мысли бродят в голове. Но и мешать не мешаю. Пусть выговаривается, если ему это нужно.
– Все дело в том, что у каждого из нас разное отношение к общему делу. Одному нравится лодырничать, другому пьянствовать, третьему языком во время работы трепать. А четвертый, который вкалывает как надо, вроде дурака выходит, хотя и передовым его называют. И так можно понимать старательного. Иль не так?
– Можно и так...
– Э-хе-хе, говорю тебе, а вижу – не зажигаешься. Как погляжу, вот у тебя тоже нет настоящего интереса к нашему общему делу. А надо бы вникать... Так и председателю нашему говорил, Дятлову, когда он пришел сменять меня. Так ведь не стал слушать. А разве у меня мало опыта? Ведь я тут вырос, каждую ямку в поле знаю. Так нет, не пожелал. И вышло, что стал не продолжать мое дело, которому я жизнь отдал, а начинать свое. А дело-то у меня хорошо шло. В первой десятке по району колхоз числился. Ну, если б меня сняли за непригодностью или за какие дурные дела, а то ведь по старости. Думается, и позвал бы для совета. Так нет...
– Так ты бы в район съездил.
– Был, да ведь и там теперь новые люди. Не знают меня. Ответили: не жаловаться надо, а помогать. Да еще ему сказали, что я был у них, так он с той поры ко мне стал особо раздраженно относиться... А чего это у нас совсем перестало клевать? Может, на Яму податься? Давай, а?








