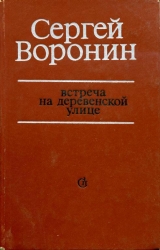
Текст книги "Встреча на деревенской улице"
Автор книги: Сергей Воронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
– Я назову картину «Ветеран БАМа». Все! Завтра прошу вас ко мне к двенадцати часам. Раньше не могу. Буду спать.
– Везет же людям, – сказала Лиля. И я не понял, ко мне это относится или же к художнику, потому что завтра он может долго отсыпаться.
– А тебя я тоже напишу, – сказал Викторов Лиле. – Я бы тебя написал в ромашковом лугу, и чтоб были березы. Молодые. И чтоб немного ветра...
– Ну, мне пора! – сказал секретарь и встал.
– Вызвать такси? – предложил Валерий.
– Найду. Теперь это действительно не проблема.
– Тогда вместе, – сказал Викторов и стал прощаться, красиво выбрасывая свою руку. – Смотрите, она у меня как лебедь. – Все посмотрели на его тонкое запястье и сложенные в щепоть пальцы, и на самом деле напоминающие голову птицы. Третий при этом почему-то опять неестественно захохотал. Но на него никто не обратил внимания. – Этой рукой я напишу тебя, – сказал он Лиле. – Ты не возражаешь, Валера?
– Напротив, буду рад.
– По этому поводу давайте посошок! – крикнул третий. Он налил себе коньяку и, не дожидаясь других, выпил. Бросил в рот дольку лимона и прошел к телефону. – Надо сообщить жене о моем отъезде. – Набрал номер. – Галочка, все отлично. Еду! – положил трубку и захохотал.
В сопровождении этого-диковатого хохота все и ушли. Валерий открыл форточку. Свежий весенний воздух стал вливаться с улицы, и это напомнило о том, что зима прошла, что наступает благодатная пора, и подумалось, что все будет хорошо.
Клава пришла в начале второго. Раздеваясь в прихожей, спросила:
– А ты чего не спишь? Я же взяла ключ.
– Боялся, разбудишь. Такой стал чуткий сон.
– Ну, я легла бы в столовой. А ты давно?
– Да, я их еще застал.
– Ну, как прошло?
– Не знаю. Но, по-моему, все хорошо. Как Анна?
– Да ничего, как всегда.
– Ребята?
– Тоже.
– Ну, ладно, пора и нам спать.
Второй час ночи. Но на улице еще движение. Грохочут трамваи. Иногда от тяжелых «ЗИЛов» содрогается дом, и тогда в книжном шкафу дребезжат стекла. Только в два часа затихает шум. И наступает покой. Но и то, если за стеной не шумит сосед. Молодой мужик. Овдовел. Пьет и крутит магнитофон, хотя и негромко, но все так слышно через современные стены блочных домов. И оттуда доносится голос Высоцкого: «...Лошади, лошади...» Бывает, я не выдерживаю и стучу в стену, и сосед снижает громкость. Но все равно слышно.
Всего четыре часа ночной тишины. С шести утра улица вновь оживает. Проносится первый трамвай. Грохот сотрясает шкафы, буфеты, в них звенят стекла, посуда. И с этой минуты уличный гул не прекращается. И я с сожалением вспоминаю свою палатку где-нибудь на берегу таежной реки, шум ветра в ветвях деревьев, который никак не нарушает покоя, и утро, озаряющее солнцем крышу палатки.
В эту ночь я долго не могу уснуть. В голову лезут разные думы. И все больше, конечно, о себе. Ведь мог бы еще поработать на изысканиях хотя бы года два-три. Мог бы... Молодые, бесспорно, энергичнее. А у меня ведь это заменяется опытом. Правда, тот, который сменил меня, толковый инженер. В тридцать лет – и уже начальник партии. Пожалуй, и я так бы поступил на месте начальника экспедиции, заменил бы старого молодым. Только разве уж настолько я стар?.. Мог бы еще быть полезным, мог бы...
Все уже спят. А я все ворочаюсь на постели, все перебираю разное. Думаю о сыне, – впрочем, что о нем думать? Он уверенно налаживает контакты и, как видно, добивается чего-то своего.
– Когда же ты пишешь? – как-то спросил я его.
– Совсем нет времени. Союз отнимает много. Но ничего не поделаешь, надо. Нужно закрепиться, чтоб имя стало авторитетным. Потом легче будет издаваться.
– А разве это не от книги зависит?
– Ну, и от книги, конечно. Но и положение тоже помогает.
– Контакты, положение...
– Что?
– Да нет, так, ничего...
И на самом деле ничего. Что я могу ему посоветовать, если все это литературное хозяйство мне совершенно незнакомо.
Думаю о дочери. Она искусствовед, замужем. У нее двое ребят, муж – редактор издательства. Работает Ирина вроде бы и по специальности, связана с художниками, но занимается только технической работой.
– А как твоя искусствоведческая? – как-то спросил я ее.
– Не до нее.
– Жаль. Ты ведь хотела о Пластове написать монографию.
– Хотела.
– И не пишешь. Говорят, на выставке в Московском манеже было две тысячи его картин. А это всего пятая часть им сделанного.
– Да.
– А почему же не показали все?
– Для этого потребовалось бы пять манежей.
– Пять манежей! Вот это работник! А может, ты все же взялась бы за монографию, потихоньку хотя бы. Исподволь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты принялась за нее. Ведь ты же училась в академии, и успешно. И диплом защитила на «отлично». Так в чем же дело? Если хочешь, я буду собирать материалы о нем, чтобы тебе было легче.
– Ну что ты... Я и сама, мне надо только выкроить время. А его у меня, как всегда, не хватает... А знаешь, я только теперь начинаю тебя узнавать. Сколько помню, ты всегда был в отъезде. Приедешь, навалишь нам с Валеркой подарков и опять куда-то исчезнешь. Но сколько было радости, когда ты приезжал... А потом мы стали скучать, ждать тебя. И вот теперь ты никуда уже не уезжаешь, и как жаль, что я не живу с тобой.
– Ну, об этом жалеть, может, и не стоит. Не всегда дети уживаются с родителями, тем более когда уже свои семьи.
– Может, ты и прав. Тогда жаль, что мало с тобой жила в детстве... Ты знаешь, почему-то мне представлялась твоя и мамина жизнь безоблачной. И когда выходила замуж, думала, что и у меня будет так же.
– Безоблачной? Ну, это тебе только казалось. Такой у нас не было. А что, разве у тебя не очень с Митей?
– Нет-нет, все хорошо. Скоро мы поедем на Юг. Он специально взял одну большую работу на дом, закончит ее, и поедем. На самое синее в мире... А как ты с мамой?
– Ну как? Нормально. Ты вот сказала, начинаешь только теперь познавать меня. То же самое происходит и у меня с матерью. Ну и, естественно, кое-что открывается, чего я не знал. И, к сожалению, не очень-то радующее меня.
– А что именно?
– Ну, такого ничего нет. Все по мелочам, но набирается. Знаешь, как мозаика.
– Надо быть снисходительнее.
– А я ничего. Ты спросила, я тебе и ответил. – Я ждал, она спросит: «А ты как живешь?» Не спросила, наверное, думает, хорошо живу. Еще бы, на заслуженном отдыхе, ничего не делаю. – У тебя что-то усталый вид, Ира.
– Работа, дети, дом – конечно, устаю. Но с Дмитрием мы живем дружно... Ничего, вот поедем, я и отдохну.
За окном спящий город. А мне никак не уснуть. Думаю о жене. Я совсем не хочу ее обижать, да и не в моей натуре это. Но так уж усложненно складываются у нас отношения. Собственно, той любви, о которой пишут в романах, у нас, пожалуй, и не было. Познакомился я с ней на вечеринке у товарища. Небольшого роста, миловидная, веселая. Мне она понравилась. Тем более что я только вернулся из тайги. Что-то говорю ей, она смеется, и вижу – нравлюсь ей. Тут уж у меня голова совсем пошла кругом. К тому же на вечеринке были еще два инженера из нашей конторы, а она предпочла меня. Мне почему-то думалось, в таких случаях девчата должны в первую очередь обращать внимание на инженеров. Глупость, конечно, но так думал. Через месяц и свадьба. Ну, а теперь выясняется некоторое несоответствие, но не разводиться же. В Валерии она, как говорится, души не чает. Что бы он ни сделал, всегда прав.
– Он не очень-то уважает меня, – говорю я.
– Это тебе кажется. Валерий очень воспитанный человек. Ты многого в нем не видишь и не понимаешь. Он очень остроумный. Ну, бывает и раздраженным. Так это понятно, он большой, серьезный деятель. К тому же перспективный. Надо тебе быть снисходительным. (Опять – снисходительным!) Где-то и уступить. И потом, мне непонятно – ты не гордишься им. Почему?
– Ну, я пока не вижу к этому оснований.
– Вот-вот, в этом все и дело – не видишь!
Времени уже три, а сна все нет. Думаю о невестке, но тут же и перестаю, – тогда совсем не уснуть. Невестка меня не любит. За что? Этого я не знаю. Мы ни разу с ней не поговорили спокойно, все на рапирах. Может, надо и к ней быть снисходительным? Может, и к ней...
Кое-как уснул, но спал чутко. Несколько раз просыпался, и в шесть утра уже совсем сна не было. Встал. Против всякого желания сделал зарядку. Вышел на улицу. Было безлюдно и светло. И, как всегда бывает весной, в воздухе сквозила отрадная чистота. На карнизах утробно ворковали голуби.
Я вышел на набережную, прошел по ней до парка и вернулся домой, к завтраку.
Только сели, как раздался телефонный звонок. Валерий быстро подошел, снял трубку.
– Да! – раздался его голос, и тут же: – Отец, тебя.
Я хотел было взять трубку, но он задержал мою руку.
– Ты скажи своим приятелям, чтобы звонили после двенадцати, когда меня не бывает дома, – сказал он и только после этого допустил к телефону.
– Олег? Привет! Это я, Кунгуров Игорь. Слушай, ну как, не говорил с сыном насчет того, чтобы он обработал мой материал?
– Нет. Я же тебе сказал, чтобы ты сам с ним договаривался.
– Разве? А мне почему-то подумалось, что ты согласился заинтриговать.
– А... Нет, я не говорил с ним.
– Ну, а можно его к телефону?
– Сейчас узнаю, – я прикрыл трубку ладонью. – С тобой хочет поговорить Кунгуров Игорь Петрович, – сказал я Валерию.
– Зачем это?
– Насчет своей книги.
– Какой книги?
– Поговори с ним. Он тебе скажет.
– Меня нет, я в Союзе, – отрывисто ответил он, не подымая головы от газеты.
– Его нет, – сказал я Кунгурову, – он в Союзе писателей.
– А когда будет дома?
– Не знаю.
– Ты скажи ему – если он не согласится сразу, я другого искать буду.
– У тебя что, склероз? Я же тебе русским языком сказал – толкуй с ним сам.
– А ты чего, в контрах с ним?
– Да нет, все в порядке. Просто я не лезу в его дела.
– Ну, вообще-то, правильно. Но мог бы и поговорить... Ты как сегодня, к Табакову не собираешься? Сыграли бы «пульку».
– Буду дома.
– У телевизора. Ну, давай-давай, облучайся. У тебя цветной?
– Да.
– Вот-вот, он-то и облучает. Я вечерком позвоню твоему классику, может и согласится. Как думаешь?
– Звони. – Я положил трубку, и тут же снова зазвонил телефон.
Валерий вскинул голову.
– Да, – сказал я.
– Ты что, никак обиделся? – раздался голос Кунгурова.
– Да нет, с чего ты взял.
– Ну, тогда ладно, а то я подумал...
– Нет-нет.
– Ну, будь здоров! А может, все же надумаешь «пульку» сгонять?
– Нет.
– Ну, ладно. А если надумаешь, я буду у Табакова. Я оттуда и позвоню Валерию. Как его, можно так или по имени-отчеству?
– Лучше по имени-отчеству.
– Добро. А материал, честно тебе говорю, богатый. Только надо привести его в порядок, обработать. Все же как-никак, а сорок лет изыскательской жизни, это тебе не баран чихнул, верно?.. Чего молчишь-то?
– Да нет, слушаю.
– Я говорю, сорок лет изыскательской жизни, это тебе не баран чихнул, верно?
– Конечно. А я и не знал, что ты столько лет собирал его, – сказал я, и зря. Кунгуров словно только и ждал этих слов. Обрадовался, что еще поговорить может. Наверное, один сидит.
– Ну как же, как же! Все изыскания. С первых дней и до пенсии. Теперь-то уж точка. Дальше река не течет. Богатейший материал. А он сделает большую ошибку, если откажется. Сейчас какую газету ни открой, только о БАМе и гудят. Тут недалеко и до лауреатской премии. Скажи, я в случае чего согласен и на соавторство.
– Да не буду я говорить. Сам говори! – Я скосил глаза на Валерия. Видел его хмурое лицо, поджатые губы. И знал – никакого проку не будет, если я сунусь к нему.
– Сам-то сам, но и твой голос не помешал бы. Что ни говори – отец. Послушал бы.
– Вряд ли.
– Неужели?
– Извини, но я дома один, а на кухне уже давно кипит чайник.
– Как один, а кто же тогда подходил к телефону?
– Это был племянник жены. Он ушел. А чайник кипит.
– Ну, ладно. Я потом позвоню, позднее. А чего ты сам кухаришь-то, или больше некому?
– Некому. Ну, пока. – Я положил трубку.
– Это черт знает что такое! – тут же взорвался Валерий. – Почему ты не сказал ему, чтоб он больше по утрам не звонил?
– Совсем из головы вылетело.
– Так вот, пожалуйста, чтоб твои друзья не занимали телефон по утрам.
– Но ведь он хотел с тобой поговорить.
– Не о чем мне с ним разговаривать.
– Ну почему же? У него интересные материалы о БАМе.
– Ну и что?
– Хочет, чтобы ты обработал их.
– Вона чего! Тоже нашел литобработчика.
Он позвонил в два-три места и ушел по делам. С ним вместе ушла и невестка. Николка давно уже убежал в школу.
– Сходи за картофелем, – сказала мне жена, – И по пути купи баночку сметаны.
– Может, на рынке купить картошку, а то уж больно плохая в магазине.
– Ну что ж, лучше, конечно, на рынке. Хоть дороже, зато отходов мало. Так на так и выйдет. Только что вкуснее будет.
Самое тягостное для меня – это утро. Я бываю рад всякому занятию. Хожу по магазинам. Устраиваю какие-нибудь полочки в ванной или на кухне, передвигаю мебель, чтобы было удобнее. И жду не дождусь вечера, когда можно включить телевизор или засесть за книгу, чувствуя себя как бы уже после рабочего дня. И тем более рад был телефонному звонку Викторова.
– Что ж это вы? Я вас жду. Уже первый час, а вас нет. Ведь договаривались в двенадцать.
– Да я как-то подумал, что это не всерьез.
– Почему?
– Ну, вчера были в подпитии.
– На то была ночь, чтобы проспаться. Подъезжайте, я вас жду.
Я тут же и поехал.
На улице апрель. В этом году он теплый, солнечный. На мостовых и тротуарах давно уже сухо. Но деревья еще спят, хотя на них и горланят грачи. После гнилой, затяжной зимы люди рады теплу. Их много на улицах, особенно на солнечной стороне. Идут не торопясь, отогреваются.
Мне надо ехать в конец города. Там в одном из новых домов, на самом верхнем этаже, мастерская Викторова.
Ехать надо долго. Я сижу в трамвае у окна и с удовольствием смотрю на городскую сутолоку в магазинах, на остановках. Сколько народу! Разного: и молодого, и старого. Гляжу на них и вспоминаю свою жизнь. Когда-то давно-давно, вместе с ребятами-пионерами, я распевал задорную песню про картошку, гордо вышагивая с красным галстуком на груди. Вместе со всей комсомолией шел в юнгштурмовке с поскрипывающей портупеей. Работал на заводе. Уезжал в экспедиции, но, как бы далеко ни был от города, всегда помнил о нем, и, если разлука затягивалась, скучал и томился, и как же был рад снова войти под своды вокзала, выйти на площадь и поздороваться с городом. Я помню, как с каждым приездом менялся он, становился все лучше, светлее. Помню его и послевоенным, с разрушенными домами, с фанерой вместо стекол... Но как быстро он восстал! И теперь уже не найдешь никаких следов военного бедствия...
– Проходите, проходите, – по-деловому суховато говорит Викторов. В нем сейчас мало общего со вчерашним Викторовым. Может, и на самом деле такой серьезный, а может, наигрывает, исправляет впечатление.
До этого дня мне никогда не приходилось бывать в мастерских художников, поэтому мне все интересно. На стенах, как на выставке, множество картин, и больших и маленьких. Много портретов. Есть и пейзажи нашей северной природы. Натюрморты. Посредине мастерской – а она просторная, метров пятьдесят, да еще антресоли – стоит мольберт, и на нем чистое полотно.
– Тут много раннего, – показывая на стены, сказал Викторов все тем же суховатым тоном. Нет, он определенно человек серьезный. Ну, а то, что вчера немного выпил лишнего, что ж – случается. И не с ним одним... – Нынешнее покупает Худфонд в музей, на передвижные выставки, для лотереи. Но не все, кое-что и остается.
Викторов легко поднялся на антресоли и принес оттуда три холста. Поставил их в ряд. Триптих. На первом был изображен человек лет тридцати пяти, о чем-то глубоко задумавшийся. Он стоял в тамбуре вагона у окна. Курил. За окном простиралось озеро с нависшим над ним низким северным небом. На средней картине были изображены двое в купе. Один сидел за столиком, уронив голову на руки. Молодой парень. На него в горестном раздумье глядел пожилой, откинувшись к стене. И за окном простиралось то же озеро с нависшим над ним небом. На третьем полотне был изображен парень в куртке с капюшоном, – похоже, геолог. И за ним были то же озеро и то же небо.
Было в этом триптихе что-то такое, что не позволяло бездумно поглядеть и равнодушно отойти. Этого, видимо, и хотел Викторов – чтобы постояли, подумали.
Чем больше я смотрел на эти три полотна, тем больше возникало желание вглядываться в изображенных на них людей и пытаться разгадать их состояние. К тому же, чем больше я вглядывался, тем сильнее создавалась иллюзия, что поезд идет и озеро проплывает за окном. И почему-то все горестнее становится взгляд у пожилого, глядящего на молодого парня, и все задумчивее у того, кто курил. И от этого совсем бесхитростным становилось открытое лицо геолога.
– Ну, давайте работать, – убирая триптих и ставя его лицевой стороной к стене, сказал Викторов. Похоже, что он и не ждал моего мнения о картине. Знал свое и был уверен в том, что сделал.
Я все же спросил его, почему не взяли триптих.
– Говорят, грустная штука... Ну, ладно, давайте-ка садитесь сюда. – Он посадил меня неподалеку от большого, чуть ли не во всю стену, окна. – Я вас не буду долго мучить. Некоторые копируют натуру. Меня интересует другое. Создать образ. Поэтому натура только как вспомогательное. Так что если не будет полного сходства, не взыщите. Но ваше характерное я, конечно, передам.
– А у меня есть характерное? – полушутя спросил я.
– Вы же не безликий. У каждого есть свое характерное. – Он велел мне повернуться так, чтобы свет падал сбоку. Чуть развернул корпус, приподнял голову. – Вот так сидите.
– Это называется позировать?
– Почему вы иронизируете? Неловко себя чувствуете? Держитесь свободно.
– Нет, это я к тому, что фотографы снимают теперь в непринужденных позах. Стремятся к естественности.
– Ну, это их дело, – отрывисто сказал Викторов.
– То, что я разговариваю, не мешает?
– Нет. Но, чтобы у вас не было монолога, я, пожалуй, включу магнитофон. – И он включил какую-то испанскую музыку с гитарой и кастаньетами. Я слушал и время от времени глядел на художника. А он то прижмуривался, бросая на меня острые, энергичные взгляды, то отходил от мольберта и склонял голову набок, сверяя меня с тем, что изображал. И снова быстрые движения кистью, смешивание красок на палитре, вытирание кисти тряпкой и острые, энергичные взгляды.
Сидеть неподвижно было утомительно. И я пошевелился.
– Что, устали? – тут же спросил он.
– Немного есть.
– Еще полчаса.
И работа продолжалась. И я старался больше не шевелиться. Но от этого стало еще тяжелее: заломило затылок и стало стучать в висках.
– Ну, ладно, – сказал он, вытирая кисть. – Можно и отдохнуть.
Он подошел к маленькому столику, достал из тумбочки бутылку коньяку, рюмки и лимон.
– Вообще-то, надо бы с этого начать. Приблизиться друг к другу. Чтобы и я вас получше узнал. Образ-то ведь рождается из характера. Но после рюмки я не работаю. А если не работать, то пропадает день. А теперь давайте выпьем, и расскажите о себе.
– О себе трудно говорить, – высасывая лимон, сказал я.
– Кем вы работали в экспедициях?
– Двадцать лет беспрерывно начальником партии. А до этого старшим инженером.
– Значит, вы умеете командовать, распоряжаться? Наверно, требовали беспрекословного подчинения. Не так ли?
– Не так. Ни командовать, ни распоряжаться не люблю. Изыскатели – это такой народ, которому приказывать не надо. У нас каждый знает и любит свое дело. И делает его всегда добросовестно. Иначе нельзя, подведешь всю партию.
– Вот как! Ну а в чем же тогда ваше начальническое положение проявляется?
– В организации работы. В создании максимально хороших условий. Ведь изыскатели всегда работают в самых трудных и, как правило, медвежьих углах.
– Но все же у вас есть субординация?
– Есть. Но у нас не было в партии ни больших, ни маленьких. Все уважаемы, если каждый на своем месте. Хорошая партия годами собирается.
– Вас, наверное, любили подчиненные?
– Уважали. А любить я не давал повода.
Он засмеялся.
– Вы не лишены остроумия... Вот видите, как полезно получше узнать человека. А ведь я представлял вас совсем иным. Этаким суровым землепроходцем, который замерзает в снегах, задыхается от жажды в пустыне, а вы, оказывается, совсем не такой.
– Не знаю, каким я вам кажусь, но приходилось и замерзать; когда жили в палатках при пятидесятиградусных морозах, и мучиться от жажды в пустыне. Всяко бывало. Но у нас ведь пока шла речь только о начальнике и подчиненных.
– Да-да... Уважение и любовь. Эти штуки часто путают. И на самом деле, как можно любить начальника? Уважать – да. И то, если есть за что... У нас, художников, все по-другому. Впрочем, я стараюсь больше сидеть в мастерской. Главное – работать. Чтоб ни одного дня не пропало... Вам бывает грустно?
– Да, конечно. Естественное человеческое чувство.
– Вот именно, естественное. Особенно у нас, русских. Оно в человеке заложено со дня его рождения. Ибо тут же определен и предел его жизни. Он не знает, когда. Но предел уже определен... Впрочем, извините, это у меня все из-за триптиха. Казалось бы, пора к таким неприятностям привыкнуть, а вот не могу.
– А как же это получилось, что у вас его не взяли?
– Кому-то не понравился, только и всего. Ну, ладно. Расскажите еще что-нибудь о себе.
– Ну, ей-богу же, трудно о себе говорить. Вы лучше уж спрашивайте, а я буду отвечать.
– У вас погибали люди в партии?
– Бывало.
– Как вы относились к их гибели?
– Однажды сорвался со скалы техник. Славный парнишка. Так я не находил себе места. Привыкаешь к людям. С некоторыми десятки лет работаешь. Становятся близкими.
– А что, хотелось бы съездить на изыскания?
– Сделать последний заход? Конечно, хотелось бы. Но теперь это уже невозможно.
– Жалеете?
– Конечно. Вот если бы вас лишить любимого дела, как бы вы?
– Я не представляю себя без живописи. Это была бы трагедия.
– Ну, у меня, конечно, в меньшей степени, чем у вас, – живу. Но тоскливо... Пожалуй, и хватит об этом.
– Да, у вас есть награды?
– Два ордена, медали.
– В следующий раз наденьте их.
– Стоит ли?
– Обязательно.
Он налил еще по рюмке. Выпили и договорились о следующей встрече.
– Я позвоню вам, – сказал Викторов.
Он проводил меня до лифта.
Дома я застал Кунгурова.
– Извини, что пришел без спроса. Но решил, будет лучше, если я с ним сам с глазу на глаз переговорю. Лично вручу ему свои материалы. А так ведь, заглазно-то, знаешь, может и недооценить. – Он раскрыл портфель и стал вынимать оттуда объемистые папки, перевязанные бечевками. – Вон сколько! Что ни говори, а не баран чихнул. В основном тут все письма к брату. Несчастный был парень, так уж я, как мог, скрашивал ему жизнь... Тут и пояснительные записки есть. Ты же знаешь, я их хорошо писал. Отмечали. Ну, все пронумеровано, так что полный боевой порядок. Даже опись составил, чтоб легче было разбираться. Фотографии. Вон какая куча! – Он стеснительно засмеялся. – Это все брат сберег, а теперь, может, и сгодятся. Если б Валерий Олегович согласился, то, кто знает, и роман в документах мог бы сообразить. Тут у меня и про любовь есть. Помнишь Галю Сироткину? Так ведь роман у меня с ней был, да еще какой! Тут все есть для хорошего писателя.
Он сидел передо мной большелобый, грузный, с короткой, открытой шеей, изрезанной, как у младенца, поперечными розовыми складками.
Пили чай. Говорили о разном, как бы обо всем и ни о чем. Я старался не очень влезать в разговор, Кунгуров же горячился, махал толстыми руками, наваливался на стол, приближаясь то ко мне, то к Клаве, и возбужденно говорил, хотя никто с ним не спорил.
– Гибкости, понимаешь, гибкости нет. Вот в чем беда! Отсюда и нехватка разных бытовых мелочей. И тут же производят то, что никому не нужно. Отказаться бы, прекратить выпуск, да нельзя, планом утверждено. И дуют продукцию, а она не нужна. Чего молчишь?
– А чего говорить? От этого кетовая икра не появится.
– Во-во, значит, и говорить не надо. Я понимаю, мы ничего не решаем, но мнение свое у нас может быть?
– Может, только ведь его на хлеб не намажешь.
– А это, брат, зря! Общественное мнение – великая сила, и недооценивать это – плохо! Так жить нельзя. Это я тебе точно говорю. Как вы, Клавдия Петровна, согласны со мной?
– Полностью. Действительно, Олег совершенно не интересуется торговлей.
– Минутку, – остановил я ее, – сейчас возьму магнитофон. Это ж здорово – записать такой серьезный разговор!
– Ну вот видите, как он относится, – развела руками жена.
Но Кунгуров не поддержал ее, засмеялся:
– Вот, черт, действительно, лезем в обывательское болото. А все потому, что занять себя нечем. Ну, просто ведь выбросили – и все! Неужели уж так и ненужны мы? А наш опыт? Да я бы на месте правительства сунул бы хоть половинный оклад к пенсии, и порядок.
– Ну, в таком виде вы на изыскания не годитесь. Очень уж полный, – обиженным тоном сказала Клава. Еще бы – не поддержал ее. – Отчего вы так располнели?
– Да вот, за него отрабатываю, – кивнул он на меня, – килограммов шестьдесят, наверно, не больше весит?
– Семьдесят два, – сказал я.
– Все равно сухарь.
– Есть надо меньше, – сказал я.
– А чего ж и делать, как не есть? Жаль, гречи нет.
– Вот еще гречневой каши хочешь.
– Потому и хочу, что с нее не толстеют.
– Если понемногу.
– Да, помногу вам и гречневой каши нельзя, – сказала Клава. – Вообще нужен режим. Я бы даже вам советовала голодовку.
– А зачем, я никаких требований не предъявляю. Я всем доволен, – захохотал Игорь.
– Вы меня не так поняли.
– Так, так! А вот за то, что вы мне не велите есть, я съем вот этот бутерброд с колбасой.
– Ой да ешьте, мне же не жалко, – сказала жена и подвинула тарелку с колбасой.
– Кстати, говорят, в колбасе много химии. Как думаешь, верно это? – спросил Кунгуров.
– Так ведь химия во всем. И ты весь из химии.
– Это я и без тебя знаю. А вот ты знаешь, сколько в водке этилового спирта? Не знаешь? Так вот – две десятых, а его совсем не должно быть. Вот почему мужики и балдеют. Раньше выдуют два стакана – пляшут, а теперь с кулаками лезут.
– Значит, надо поменьше пить или совсем даже не пить, – сказала жена.
– Умная вы женщина, а сказали, извините, чепуху. Как же это мужик – да чтоб без водки? И речь не о водке, а о том, что не очищают ее как надо. Две сотых еще можно допустить этилового спирта, а тут две десятых. Понимаете?
Не знаю, о чем бы еще мы говорили, но, слава богу, пришел Валерий и разговор сам собой тут же прекратился.
Валерий был в техасах и модной куртке на молнии. У него были длинные волосы, но в меру. Так что выглядел он современно и в достаточной мере солидно.
Я познакомил его с Кунгуровым. Игорь встал и поклонился. Валерий чуть усмехнулся, окинув взглядом его мощную фигуру.
– Ветераны БАМа! Приветствую вас и не откажусь от чашки чая. Ты был у Викторова? – спросил он меня.
– Был.
– Ну как, начал он твой портрет?
– Да.
– Значит, с тебя коньяк. Маман, ты никуда сегодня?
– А что?
– Да мы с Лилькой хотим сходить в кино.
– Ну что ж, идите. Только я хотела на часок отлучиться. Ну, тогда отец с Колей посидит.
– А не загуляют мужики? – Он с улыбкой поглядел на нас. – Ветераны, они могут, а?
– Да, загуляешь у твоего отца. Чаем поит, – сказал Кунгуров.
– Ай-яй-яй, какой отсталый человек. Ты бы еще самовар поставил.
– Во-во! – подхватил Кунгуров.
А Клава засмеялась. Видимо, посчитала, что сын очень удачно сострил.
– Ну, я вижу, у вас уже установился контакт, так что и без меня обойдетесь. Тем более у Игоря Петровича к тебе есть дело, Валерий.
Сын остро и раздраженно взглянул на меня. Я встал и ушел. Но не прошло и десяти минут, как Кунгуров явился ко мне оживленный, даже раскрасневшийся.
– Слушай, он толковый малый. Заинтересовался, да еще как!
– Ну вот, я рад за тебя.
– Да, есть надежда. Посмотрел фотографии, полистал письма. Сразу понял, какой это материал.
– Ну, очень рад, очень рад! – Я и в самом деле был рад. Мне не хотелось, чтобы Валерий оттолкнул Кунгурова. Зачем лишать человека даже малых надежд.
– Нет, он толковый. Понимает конъюнктуру. Ну, теперь дело за небольшим: подождать немного, пока ознакомится. Не знаю, кому как, но моему брату письма нравились. А он, знаешь, начитанный был. Понимал что к чему. Ну, ладно, не буду больше задерживать. Пойду. А ты тут все же посматривай. Он может закрутиться в своих делах и забыть, так ты напомни.
На другой день Валерий, как бы между прочим, сказал:
– А знаешь, книга-то может получиться. Я полистал вчера его письма. Ничего, ничего. И работы там не так уж много. Надо только пройтись по-редакторски. Интересный этакий гибрид может получиться. Документальная лирическая повестуха.
– Ну что ж, я рад за Игоря. Может, позвонить ему?
– Не сразу, не сразу. А то, чего доброго, подумает, что мне и делать там нечего. А я с ним меньше чем на три пятых гонорара не сойдусь.
Я с удивлением поглядел на него.
– Если работы немного, почему же тебе три пятых?
– Да только хотя бы потому, что без меня он и двух пятых не получит.
– А это честно?
– Ну, а как же? Ведь я же там свое имя поставлю. А это ответственность. Мое имя сейчас на виду. К тому же у нас существует градация в гонорарной оплате. Кто получает по полтораста за лист, а кто и по триста. Он же не писатель. Так что тут все в порядке. Кстати, а чего ты не попробуешь написать про свою изыскательскую жизнь? Наверно, немало было интересного?
– Всяко бывало, да не награжден я таким даром. Как говорится, бог таланта не дал.
– Ну вот видишь, все закономерно. Кто-то пишет, кто-то читает. Читать легче, чем писать, не правда ли? А я вот гляжу на тебя и думаю, какие мы с тобой разные. Все же на тебя тайга, тундры и пустыни подействовали.
– В каком смысле?
– Ты где-то остался в том времени.
– А оно что, плохое? То время?
– Оно в прошлом. Поэтому тебе кажутся некоторые мои поступки, вполне естественные в настоящее время, непонятными.
Я хотел ему сказать: «Да, кое-что мне кажется непонятным в твоем поведении. Например, мне непонятно, как можно выставлять за дверь отца, когда приходят к тебе гости? Я бы никогда так не поступил со своим отцом. Я бы не стал жадничать и насчет гонорара в соавторстве с Кунгуровым. Ведь если бы не было его писем, ты бы не написал книгу. Точнее, не сделал бы ее без готового материала». Но я молчу. Как-то напомнил ему о его детстве. Привез однажды коня-качалку. Как он был рад! Глазенки блестели, глядел на меня и кричал: «Спасибо, спасибо!»
«А к чему ты это?» – спросил он меня.
«Да так, просто вспомнилось. Теперь ведь я на приколе. Вот и перебираю от нечего делать».
Это я сказал подчеркнуто горько, чтобы он возразил: «Ну что ты, папа, ты еще молодцом! Рано себя списываешь». Но нет, не сказал. Даже горечи не услышал в моих словах. Видимо, отнес меня к той категории людей, которым только и осталось дожевывать государственный хлеб. А может, и вообще не думает обо мне. Что я для него? Человек безо всякой перспективы. И только. И на самом деле, что я для него, если каждое утро отправляюсь в молочный магазин за сырками, творогом, сливками. По пути захожу в булочную, и если приношу хлеб или батон черствые, то слышу упреки. Даже внук относится ко мне равнодушно. Дети – это открытая страница отношений между взрослыми. Я делаю ему подарки, пытаюсь сдружиться, но он все равно сторонится меня. И это ясно почему. Сын ко мне равнодушен. А невестка, Николкина мама, не стесняется даже при нем принижать меня. Стоит мне что-нибудь сказать, как она иронически замечает:








