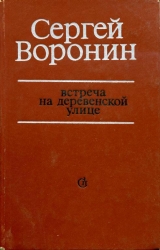
Текст книги "Встреча на деревенской улице"
Автор книги: Сергей Воронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
УБИВЕЦ
Теперь он уже старик. К тому же больной. Все жалуется на печень. Сидит у своего дома на лавке и, неподвижно уставясь в землю, о чем-то думает. Может, и о том, как давным-давно убил человека. А скорее всего думает о другом и совсем не вспоминает тот день и час, когда порешил в драке Кольку Сорокина. Того давно уже нет, с полсотни годов будет. А он все живет, дожил до старости, в свое время женился, вырастил детей, – теперь растут внуки. Все как надо, а того давным-давно нет. А тоже мог бы и стариком стать, и внуков иметь. Но не пришлось. А вот этому убивцу выпало все, что приходится на долю доброму человеку. И радостное испытал, и горькое. Впрочем, горькое только в то время, когда отбывал срок за убийство. Да и то вместо пяти лет проработал немногим больше трех. За ударный труд с зачетами был досрочно освобожден.
Рассказывали – когда Игнат вернулся, то первое время совсем не совестился, что убил человека, а как бы еще и задавался. И угрожал. Ходил пьяный по деревне и орал: «Кто дорожку перейдет, того ножичек найдет!»
«Теперь уж чего, – говорили старики, – теперь уж он после тюрьмы всему обученный. Вон как выкобенивается. Так что уж лучше его и не тревожить. А то еще и ножом пырнет. Теперь это ему запросто». И Игнат, слыша такие суждения, еще больше набухал злой силой и ходил по улице с вывертом, бесстрашно глядя любому в глаза.
Случалось, доставал колоду затрепанных карт и предлагал сыграть «на интерес». Но желающих не находилось. Тогда он садился на виду у всех возле избы-читальни и играл сам с собой. Наверно, полагал, что заинтересуются его игрой мужики, станут любопытствовать и тогда он предложит метнуть банчишко. Но никто, кроме сопливой ребятни, не любопытствовал. И постепенно Игнат перестал играть сам с собой. Постепенно перестал и хорохориться и распевать блатную устрашающую припевку. Стал серьезнее. И вскоре женился. В жены ему досталась девушка тихая, робкая – сосватали из дальней деревни, – свои сторонились его. Феня всю жизнь боялась его, хотя он ни разу ее даже пальцем не тронул. Правда, пьяный орал на нее и сквернословил так, как могли только урки. В трезвые дни этот лагерный осадок со дна души не подымался и Игнат был человек как человек. Но в пьяные откуда что бралось! Тогда не только Феня, но и все, кто находился поблизости, даже отец, спешили уйти от него подальше. «Чего и ждать от убивца», – говорили соседи. И он, сознавая свою страшную силу, как и раньше, выходил на улицу и оглядывал всех, кто проходил мимо, диким взглядом широко открытого глаза, в то время как другой был прижмурен. Но это только в праздники, если пил по нескольку дней кряду. Зато после гульбища не было мужика тише, чем он.
Так дожил до войны. В первые же дни был призван в армию. Уходил серьезный, совершенно трезвый, в отличие от многих деревенских. Посадил к себе на колено старшего Витьку, которому шел шестой год, и поставил возле себя Нюську, четырехлетнюю. Долго смотрел на них и, ни слова не сказав, даже не приласкав, пошел к выходу. С Феней не попрощался. А когда она кинулась к нему, отстранил ладонью. «Не погибать еду, так что неча и прощаться». Писем с фронта не слал. И Феня не знала, что и думать о нем, – жив или нет. Так всю войну. И только уж в сорок пятом получила треугольник, в котором Игнат сообщал, что скоро вернется. И вернулся с двумя орденами Славы и многими медалями.
После войны уже никто не слыхал от него угроз, далее и во хмелю. Словно никогда подобного за ним и не водилось. И год от году стали забывать про его преступление. Впрочем, в те далекие времена не очень-то и осуждали в деревне за такие дела. Драки частенько случались, особенно в престольные праздники, доходило и до убийства. Правда, Игнат убил Николая в будний день и не так уж чтоб и пьяный был. Ну да со временем все сглаживается, особенно злое. Да и мало ли чего не бывает в молодости. Тем паче теперь-то мужик в зрелых годах, так чего и ворошить прошлое. Да и отбыл наказание. И не ворошили.
А Николай Сорокин лежал в могиле.
Как-то незаметно подошло время, и Игнат проводил сына в армию. И пока тот служил на флоте, выдал замуж дочку. И никто уже не мог бы сказать, что ее отец тот самый страшный убивец, который в парнях ходил по деревне и распевал частушку с угрозой любого зарезать, кто станет на его дорожке. Степенным стал. В колхозе уважали его, постоянно избирали в состав правления. Когда подошло пенсионное время, удостоили его званием – почетный колхозник.
За все эти долгие годы Игнат не раз встречался с сестрой Николая. И хотя не терзался угрызениями совести, но всегда проходил мимо, будто и не замечая ее. А тут как-то встретился и неловко было отворачивать голову. Глянул на нее и поздоровался. Но она даже и не кивнула в ответ. «Значит, не прощает», – тут же подумал он, но на сердце ни легче, ни тяжелее не стало. Словно убил Николая а какой-то другой жизни, которая как бы привиделась чуть ли не во сне.
От дочки пошли внуки.
И вот старость. Да к тому же еще и хворобы. Болит печенка. К врачам бы съездить, да ведь что врачи! Насуют всяких лекарств, а будет ли прок? Лучше уж своими средствами. Мята хорошо помогает. Да и зверобой тоже. Спасибо внучке – насобирала трав. На всю зиму хватит. Может, и полегчает. Другим помогало, почему же ему не поможет. Должно помочь. Обязательно должно. Жить-то ведь хочется...
1978
РОДНЯ
Леонарду Емельянову
Валентина Николаевна Симакова приехала в деревню под вечер. До того как сойти с автобуса, она и была Валентиной Николаевной, но только стоило ей ступить на родную землю, как тут же стала Валькой, Валентинкой, Валюшей. Это уж кто как называл ее из своих деревенских, кто помнил ее еще, знал. Мать же звала Валечкой, и плакала, и улыбалась, не сводя с дочери глаз.
Валентины не было дома больше десяти лет. За это время много стариков переселилось на кладбище. Много молодежи уехало устраивать свою жизнь в другие места, где хоть и не так чтобы очень, да зато работа полегче. И осталось в деревне мало кого, и то больше старухи. Старики почему-то вымирали раньше.
– Так вот и живем, век коротаем, – сказала мать и стала сморкаться в концы платка. Когда-то было у нее в семье шестеро – муж да она, да три сына и дочь. Но муж умер, сыновья не вернулись после армии, поселились в других местах. Дочка по справке уехала в город, там ее вместе с каким-то отрядом наладили на целину, где она вышла замуж, а потом уж вместе с мужем уехала к нему на Украину. Откуда и приехала наконец-то проведать мать.
– Прямо не знаю, что тебе и сказать. Может, к нам поедешь жить? У нас три комнаты. Правда, на пятерых-то не ахти как просторно, но и тебе найдется место.
– Нет уж, Валечка, никуда я не тронусь. Тут все свое, привычное. А там и лица знакомого не встретишь. Тут уж прожила жизнь, тут и умирать надо.
– Ну, неволить не стану, только я тебе – искренне.
– Знаю, да не смогу я. Куда от своих могил уйдешь.
– Да не ради же могил жить.
– Так-то так, да ведь и кроме могил тут все свое, а там и лица знакомого не увидишь.
– Лица, лица... Что тебе лица-то?
– А как же? И поговорить будет не с кем. А тут все словом перемолвишься.
– Кто хоть в живых-то остался?
– Кто-кто – Фекла Петрова живая, Клавдия Кустова, хоть и прихварывает, а все то я к ней, то она ко мне заглянет. Да и Матрена с Лушей еще живы, дай бог им здоровья...
– Из моих товарок-то кто тут?
– Твоих-то мало, но все же есть. На ферме Катя Ступина да Надюха Желудева, да еще в конторе Настасья Фокина. Есть, если поискать-то.
– У Насти, помнится, была дочка, как ее звали-то, забыла?
– Валерией.
– Верно-верно. Теперь-то уж большая. Как она, где?
– А вон ее мальчонка ползает возле дома.
Валентина глянула в окно и увидела в зеленой траве, среди ромашек светлую головенку мальчугана. Неподалеку от него сидела на лавочке его бабка – Настасья Фокина, толстая, еще не старая женщина.
– Чего это так Настасью-то раздало? Всего на пять годов старше меня, а вон какая.
– На обмен жалуется. И ест немного, а вот все в тело идет. Я уж и то говорю, сахару меньше ешь да хлеба, да она и не ест. Так пьет чай-то. А все равно прет ее и прет. Уж такая комплекция, видно. У нее ведь и матка была тучная, как вот она теперь.
– Мужа-то нет у нее?
– Нет.. Как уехал, так и след затерял. Сказывают, видали его в Сибири, на Ангарской стройке. Да кто как говорит. Кто – он, кто – не он. Может, его уже давно и в живых нету. Это ведь в деревне человек на виду, а в миру затерялся, и все. Так-то мужик он был самостоятельный, из наших сродственников, правда хоть и не близких, дальних, а все равно одних кровей. Не думаю, чтоб уж бросил. Все бы прислал каку-никаку деньгу дочке. А то пропал и пропал. Думаю, с ним неладное приключилось.
– Это верно, Иван не такой, чтоб обманывать.
– Про то и говорю.
– Хотя кто его знает. Нынче мало за кого можно поручиться. А кто же у нее в зятевьях?
– А никто.
– Как это никто? – быстро вскинулась Валентина, и в глазах у нее прострочило любопытство.
– Да так.
– Что же, пригуляла, что ли?
– А как хошь считай, – с невеселой усмешкой ответила мать. – Мы не допытывались, а она сама не объявляла.
– Хороша девица, – осуждающе сказала Валентина. – Чего ж Настасья-то смотрела?
– Так чего, за подол, что ли, держать? Ей уж двадцать исполнилось. Самостоятельная.
– Куда уж там самостоятельная. Вертихвостка.
– Ну зачем уж так? Хорошая девушка, работящая. На ферме она.
– Раньше-то за такие дела ворота дегтем мазали.
– Ну раньше, мало ли чего было раньше.
– Да ты никак ее оправдываешь?
– А чего? Родила ребеночка, и ладно. Хороший мальчонка. А улыбнется – ну хоть какое дурное состоянье, а и сама улыбнешься. По вечерам другой раз соберемся у Настасьи, так с рук на руки и переходит мальчонка.
– Кто это соберемся? – настороженно спросила Валентина.
– Да вот такие, вроде меня.
– Сразу видно, что с внуками не нянькалась.
– Так ведь и верно не нянькалась. Только по карточкам и знаю.
Валентина спохватилась и достала из сумочки несколько фотографий.
– Вот какие они теперь стали, – передавая карточки матери, сказала она.
Мать взяла фотографии и, прищурясь, отдалив их от себя, стала рассматривать. На карточках были две девочки и мальчик. Мальчик постарше, девочки вровень друг другу.
– Вот и не знаю, какая них Оленька, какая – Шурочка. Николашу-то, понятно, отличаю, – сказала мать.
– Вот это – Оля, а это – Александра. Александра постарше на год.
– Ну да, ну да, это я помню... Ни разу не видала. И на руках не держала. – Голос ее дрогнул, и на глаза навернулись слезы. Она задумалась и стала глядеть в окно, и тут же встревожилась. – Погодь-ко, погодь... Где ж это Настасья? Смотри-ка, ай-ай, к дороге идет. А ну машина! – И Прасковья Степановна кинулась на улицу. Но не успела и добежать до ребенка, как увидела Настасью, ковылявшую к лавке. – Ты чего ж это оставляешь мальца-то! – крикнула она, – Ведь он к дороге налаживался!
– Да я на минуту.
– На минуту, а ему больше и не надо. – Она подошла к ребенку и вскинула его на руки. – Ты куда это направился, а? Ты что это, а? Ишь какой самостоятельный. Или в матку пошел? Вот взять крапивы да и нахлестать. Прыткий какой!
Настасья глядела на них и мягко улыбалась.
– Чего Валентинка-то рассказывает? – спросила она.
– К себе зовет.
– Так что?
– Да ну. Чего я там делать-то буду? Живу уж тут, доживу свое. А то еще помешаю, так не приведи господь.
– Да все же лучше вместе.
– Знамо, лучше, да уж теперь-то привыкла одна. Раньше бы, а теперь уж по внучаткам и то не скучаю. Не знаю их, так как скучать буду. – Она опустила на землю мальца и вздохнула.
– Чего ж она не привезла внуков?
– Не знаю... Может, не пожелали. Да и дорога дальняя.
– Так ты бы съездила.
– Да и для меня дальняя. Да и не знаю, как зять примет. Вдруг не понравлюсь. Ведь они знаешь какие теперь. На свадьбу и то не позвали. Так чего я поеду. Я и внучек не знаю, спутаю еще... Без меня все идет. Так пусть и идет. Как и у сынов. Тоже вот старший прислал карточки, а что они, внуки, мне на карточке-то. На руки не возьмешь, не покачаешь. – Она вздохнула еще печальнее и вдруг неожиданно улыбнулась: – Смотри-ка, Лукерья к тебе направляется, и в руках чего-то у нее, не иначе гостинец Руслану несет. Ты не очень-то разрешай ей. А то у мальца все зубы испортятся от сладкого.
– Ладно, – засмеялась Настасья. – Скажи Валентинке-то, пускай зайдет, попроведает. Валерия будет рада. А то и мы гуртом зайдем, если не возражаешь. Вот вместе с Лушей и зайдем. Верно, Луша?
– К Вальке, что ли? А чего, зайдем. Пускай нас угощает, коли приехала. И Руслана представим ей. Пускай знает, какие парни у нас растут.
– Не вдруг, – поспешно сказала Прасковья Степановна, вспомнив, как осуждающе отнеслась дочь к Валерии. – Пусть отдохнет с дороги. Да и приготовиться надо.
– Ну-ну, давай готовься. Мы тоже подготовимся, поспрошаем ее, как это так маму родную бросать да без внуков навещать ее. Поспрошаем. Откуда такие новости завелись? Или по-старому не годится? – доставая из кулька конфету и угощая ею ребенка, сказала Лукерья.
– Ты бы поменьше сладкого-то давала ему. Ведь от сладкого золотуха может быть, – сказала Прасковья.
– Не будет. Это когда на патоке, а тут чего, тут шоколадная. Ладно уж, иди домой-то. Вон Валька-то от окна не отрывается. Иди, иди, а уж мы тут, мы с Русланом, не знаю, как по батюшке, посидим. А то, поди-ка, бабке-то и до туалету не сходить. Так, что ль, Руслаша?
Руслан посмотрел на нее и широко, во все лицо, улыбнулся, показав полный рот мелких белых зубов. И враз все три женщины улыбнулись. И Прасковья Степановна, улыбающаяся, пошла к своему дому.
1977
АЛЕКСАНДРИНА
Господи, как она тяжело просыпается! Это для нее так мучительно, что пробуждение сразу начинается с крика. «А-а-а!.. А-а-а!..» – кричит она во всю силу своего маленького горлышка. Крик пронзительный, приводящий в смятение. Он все заглушает, требовательный, зовущий на помощь: «А-а-а! А-а-а!..» Допускает она к себе только мать и бабушку. Всех остальных – «на вулицу». В том числе и меня, ее деда. И отца тоже: «Иди, иди на вулицу!» Почему «на вулицу», а не «на улицу», этого никто не знает.
Не сразу она успокоится, если даже подойдет мать или бабушка. Еще порыдает, видимо считая себя покинутой, брошенной, обманутой.
– Ну успокойся, ну не плачь, моя ланюшка, – утешает ее мать.
Но Александрина не хочет успокаиваться, она плачет навзрыд. Что-то с ней происходит в эти минуты. Что-то невыносимо тяжелое для нее, чего никто никогда не узнает. Можно лишь догадываться. Может быть, это связано с ее появлением на белый свет? Когда она была грубо выброшена из небытия в ослепительно яркий мир и он напугал ее. И вот теперь каждый раз, когда пробуждается, ее охватывает страх, и она кричит, зовет.
– Александрина моя, Александриночка, – приговаривает бабушка, моя жена. Она умеет утешать не только маленьких. У нее доброе сердце, и дети, как никто, чувствуют это.
Я, конечно, в стороне, хотя мне очень хочется подойти к внучке и тоже внести свою лепту в успокоение. Ведь так ее жаль. Но только стоит мне высунуть голову в проем дверей, как тут же раздается раздраженно-злой крик: «На вулицу!» И я исчезаю, не понимая, почему она так ко мне. Ведь я же люблю ее. Но чего-то во мне, наверное, не хватает, если она даже не хочет видеть меня...
Бедняга, она искусственница. Теперь таких детей много. У матери почему-то нет молока, и она кормит Александрину кефиром. В руке у внучки чекушка с соской. Стыдно сказать, уже третий год Александрине, а она все не расстается со своей соской. Проснется ночью и, если бутылка пуста, требует с гневным криком, чтобы ее наполнили. Но теперь уже не кричит, подросла и, как бы извиняясь, просит бабушку: «Налей кефирчику». Насосавшись, засыпает. Знаем, что давно пора бы ей покончить с соской, но ее мамочка считает, что ничего плохого в этом нет. У нее их четверо. Старшей семнадцать, Александрине – третий год. Маленькая, жалко.
Игрушек у нее тьма. От старших остались, и еще новые по ее желанию покупаем. Маленькая, последняя. И мне так хочется, чтобы она меня поменьше «на вулицу» выгоняла, что пытаюсь завоевать ее то одной, то другой игрушкой. Случается, Александрина бывает милостива ко мне, но только днем. По утрам же, просыпаясь, по-прежнему гонит из комнаты. Бывает, бабушка уходит в магазин, когда Александрина еще спит. И я настороженно и даже со страхом прислушиваюсь к ее сонному дыханию и желаю ей самого крепкого сна. Но, как нарочно, не проходит и десяти минут после ухода жены, и вот уже по всему дому разносится пронзительное: «А-а-а!» Я начинаю метаться у двери, ведущей в ее комнату. Войти не решаюсь. Знаю, стоит лишь показаться, как тут же раздастся крик: «На вулицу!» – и начнутся такие рыдания, что хоть затыкай уши.
«Скорей, скорее бы пришла она! Скорее бы пришла!» – заклинаю я. Ну что бы ей остаться дома, а меня послать. Я бы с удовольствием простоял в очередях хоть целый час. Это куда приятнее, чем слушать пронзительный крик. Но у жены свои доводы: «Я и так с ней целыми днями и ночами, дай хоть в магазин сходить». А Александрина кричит, кричит так, словно сверла запускает в уши. Я не могу переносить ее страдания. Она вся в слезах. Я гляжу в щелочку. Вижу, она сидит, сложив калачиком голые ножонки, прижала к щекам ладошки и зовет, кричит: «Мама! Мама! Мамочка! Моя мамочка!.. Бабуля! Бабуленька! А-а! А-а!»
Что делать? Что мне делать? Ждать? Чего мне ждать? Чтобы сорвала голос? Это у нее уже бывало. Но и войти к ней невозможно. Как только увидит меня, так сразу же поймет, что бабушки нет, и тогда уже не крики, а вопли на всю вселенную. Но и бездействовать я не могу.
– Шурочка... Александриночка... – произношу я. Такого слащавого голоса никогда у меня не было. И чуть-чуть приоткрываю дверь.
– На вулицу!
Я тут же отскакиваю. Боже мой, что делать? Рев, несусветный рев раздирает сердце и уши. В кого она такая? Может, в меня? Было когда-то и мне три года. Жил я у бабушки, а потом мать взяла меня к себе. И как только я вступил в городскую квартиру и увидал на стене картину, сразу же потребовал ее себе. Мать не разрешила. Тогда я завалился на пол – так всегда делал у бабушки – стал стучать ногами и истошно кричать. Бабушка обычно снимала со стен все, чего я хотел, даже икону из красного угла, лишь бы я не плакал, приговаривая: «На-ко, батюшка». Мать же молча взяла ремень и крепко вытянула меня по попе. И я сразу затих. Наверное, понял, что мать – это не бабушка. И, еще немного похлюпав, успокоился. Но ведь не пороть же мне Александрину, мою маленькую Дюймовочку. Тем более что и дочь, и жена в один голос твердят, что у нее плохие нервы. Да, вот так, у трехлетней – и уже нервы. А кто знает, может, в наш век облучения и на самом деле нервы даже у детей никуда?
Но что же делать? Она не успокаивается. Кричит и кричит. Зять в таких случаях приоткрывает дверь и бросает ей на постель горошину драже. Конфет бедняге нельзя. Обмен. На первую горошину она никакого внимания не обращает. Тогда он бросает ей вторую. Она затихает, но все еще непримирима с внешним миром. Тогда он бросает ей третью горошину... Розовая горошина лежит на зеленом одеяле. Неподвижно лежит. Но вот к ней медленно тянется маленькая рука, осторожно берет горошину, зажимает в кулачок. И рев затихает окончательно, потому что горошина уже во рту. За этой горошиной исчезают остальные, и Александрина успокаивается. Теперь к ней можно входить. И он входит.
Как назло у меня горошин нет. Но есть конфета. Что ж, лучше она, чем такой крик. И я просовываю руку в дверную щель и трясу конфетой. Александрина затихает. Тогда я бросаю конфету. Ага, она разглядывает ее. Берет!
– К тебе можно войти? – униженно спрашиваю я. Да-да, тут уж ничего не поделаешь. Именно униженно. С точки зрения воспитательной, может, это и худо, но иного выхода у меня нет.
– Да, – сухо произносит она.
Победа! Я не вхожу, а влетаю, торжествующий, радостный, полный ликования.
– Здравствуй, Александрина! – И я тут же начинаю перебирать двумя пальцами – указательным и средним, изображая ноги идущего человечка. В то время как Александрина разворачивает конфету. – К вам идет человечек, – говорю я тонким голосом. – Он идет к мизинчику. (Господи, до чего же мал у нее этот мизинчик!) Тук-тук-тук! Здесь живет мизинчик? Здравствуйте, мизинчик!
– Драствуйте! – неожиданно толстым голосом отвечает мизинчик. И это так смешно, что я хохочу, и смеется легко, жизнерадостно Александрина.
Контакт установлен.
– Ну что, будем одеваться? – сажусь я поближе к ней.
– А где бабуля? – И сразу в рев.
Тьфу ты! Ну зачем мне нужно было заводить разговор об одевании? Так все шло хорошо. Ну, теперь уже не унять. Теперь надолго...
– Шура... Александриночка...
– Уйди!.. Уйди!..
Что делать, ума не приложу. А плач все сильнее, навзрыд, с перехватами. Задыхается.
– Да вон, вон она идет!
А жена и на самом деле идет. Я думал, Александрина метнется к окну, увидит ее, засмеется. Но нет, еще сильнее кричит.
– Что такое? Что такое? – суматошливо вбегает жена, будто не знает, что происходит. И скорее к Александрине, чтобы утешить ее. Но нет, Александрина и тут не успокаивается. Она отталкивает бабулю. Оказывается, бабуля виновата. Зачем она бросила маленькую Александриночку? Как это она могла сделать? Оставить ее одну во всем доме? Я, конечно, не в счет.
– Александрина моя, Александриночка, – приговаривает бабуля и все нежнее прижимает ее к себе, и Александриночка успокаивается.
Я отхожу в сторону. Теперь я совершенно не нужен. Александриночка одевается, моется, завтракает. И вдруг бежит ко мне и прижимается. Что такое? Почему такая нежность? Я глажу ее по шелковистой головенке. До чего же нежны у нее волосы! И она, получив, что ей было нужно – ведь что-то, наверно, почувствовала своим сердечком, – убегает во двор.
Там давно ожидает ее смешной белый соседский щенок. Как только она появляется, он начинает давать круги. Носится так, словно за ним гонится волк. И останавливается перед Александриной, звонко тявкает, скаля острые белые зубы, и снова срывается в бег. Внучка за ним. С визгом, со смехом. Они отлично понимают друг друга. Тявканье, смех. Смех, тявканье. Визг. Но дружба у них не длиннее щенячьего хвоста, до тех пор пока щенок не вырывает из рук Александрины резиновую куклу. Она ему, конечно, не нужна. Он даже сморщился от ее запаха. Но надо отнять, и он несется к своему дому, уцепив куклу за ногу зубами. В заборе выломана штакетина. Раз, и он уже там, на своем огороде. Александрина пытается пролезть в щель, но то, что легко дается щенку, ей не подходит. И тогда она кричит: «Отдай! Отдай!» Щенок держит куклу в зубах и весело поглядывает на Александринку. Он все понимает, но даже и бровью не ведет, чтобы отдать куклу.
– Ну, отдай же! Отдай!
Нет, он и не думает. Александрина, всхлипывая, медленно идет к своему дому. Ужасно! Разве так поступают друзья? И вдруг мимо нее стремительно, как брошенный комок снега, проносится щенок. И она радостная бежит за ним. Смеется, кричит. И он выпускает из зубов куклу. Больше она ему не нужна. Но, оказывается, не нужна и Александрине. Это выясняется всего через минуту. Кукла валяется на земле. А они носятся друг за другом. И опять визг, тявканье, смех.
Но всему приходит конец. Щенок устал. Устала и Александрина. И они без сожаления расстаются. Щенок идет к себе спать, а Александрина направляется к песочнице. Там у нее игрушки, формочки, совки. Тут ей работы хватит на целый час. Потом обед. И сон. После сна она рисует. Всего два-три росчерка карандашом, и готов мой портрет. Еще два росчерка – и портрет любимой бабули. Тут же щенок. И наш дом. И все игрушки, которыми Она играла днем. И никому не тесно, все умещается на одном листе. Теперь нужны ножницы. И через минуту от картины остаются одни кусочки, которые так хорошо смахнуть на пол.
Но вот пора и спать. Александрина забирается в постель. Во рту у нее соска. Днем забывает, но на ночь без соски трудно. И она сосет, сосредоточенная, серьезная. Без улыбки глядит на меня и засыпает.
А утром начинается все сначала.
– На вулицу!
Господи, продлилось бы это подольше!..
1978








