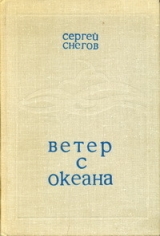
Текст книги "Ветер с океана"
Автор книги: Сергей Снегов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Встреча с Куржаком положила предел колебаниям Крылова.
Алексей с Крыловым приехали в одну из крохотных артелей, прикрепленных к МРС – девять дворов, четырнадцать мужчин, способных тянуть сети: команда на два траловых бота. Всего таких артелей было четыре по обоим берегам залива, двадцать восемь дворов, от первого до последнего – сотня километров по суше, километров двадцать водой. А рядом обстраивались полевики и животноводы – переселенцы занимали отремонтированные дома, в конюшнях ржали кони, по полям бродили крупные породистые коровы – люди оседали всерьез.
– Вот где новая жизнь устраивается, – сказал Крылов. – Разве выманишь кого на воду?
Над неспокойным заливом неслись хмурые тучи, то моросило, то переставало. На бревне у воды сидел рыжий человек и не отводил глаз от пустого простора. Алексей спросил, на что он загляделся.
– Красотища какая! – тоскливо сказал переселенец. – И есть кому-то счастье – плавают, рыбачат…
– И вы можете плавать. Рыбы здесь хватает, рыбаков мало. Идите к нам в рыболовную артель.
– Кто же меня теперь отпустит? – с унынием сказал переселенец. – Аванс взял, корову, жилье дали… Судьба наша – земля, а не море.
– Переменим судьбу! Вас как? Петр Кузьмич? Просите моего товарища, Матвея Ивановича Крылова. Он человек влиятельный и богатый – и направление переоформит, и аванс вернет, и с коровой и жильем наладит.
– Матвей Иваныч! – сказал переселенец. – Сделайте одолжение!
Он даже умоляюще сложил руки. Алексей с усмешкой посмотрел на Крылова. Тот пробормотал, что подумать можно.
– Люди на рыбу нужны, – сказал он неопределенно. – Бросаем людей на рыбу, бросаем людей…
– И меня бросьте, Матвей Иванович, – просил Куржак. – А к вам куда идти?
Крылов беспомощно оглянулся на Алексея. Инструктор коварно посмеивался. У Крылова не хватило духу признаться, что он пока не имеет никакого отношения к рыбным делам.
– Идти?.. У вас Добролюбово? Следующий поселок – Некрасово. Вот там откроем контору, туда и приходите.
После Крылов сердито выговаривал Алексею:
– Женил!.. Влиятельный, богатый! Где богатство? Где влияние?
– Все будет, Матвей Иванович. – Алексей не переставал смеяться: так хорошо получилось. – Сам видишь, с рыбаками устроится. А что контору надумал открывать в Некрасове, одобряю. Место хорошее, там и колхозную пристань возведем.
С того дня прошло немало лет. В открытое море лесовика не выпустили, но в заливе Куржак стал лучшим промысловиком. А в памяти Алексея навсегда запечатлелось лицо немолодого переселенца – умоляющее, растроганное красотой водного простора. Он не изменился, рыжий рыбак. Море по-прежнему было страстью души, не рабочей площадкой, как у его сына. И Алексей понимал, как жестоко Кузьма оскорбил отца. Все, что не удалось совершить самому, достигнет сын, так думалось отцу. А Кузьма нашел в море лишь профессию, саму по себе неприятную, но годящуюся для самовозвеличения. Отец – мечтатель, сын – честолюбец… Мечтатель и честолюбец? А, может быть, лучше сказать по-другому? Люди разных времен, эти двое, отец и сын. Кузьма – практичен, он ищет в своей работе, неважно, какая она, только пользу для себя лично. А что польза эта не деньги, не высокие должности, а почет среди товарищей, возможность погордиться перед ними, возвыситься над своим окружением – вопрос характера, такой уж это человек, Кузьма Куржак, что лишь превосходство над другими его влечет. С неменьшей охотой он пошел бы не в рыбаки, а в шахтеры, рудари, металлурги, сельские механизаторы, если бы увидел, что и там быстро заслужит такой же почет. Для этого человека его труд – средство возвышения. А для отца работа – призвание. Этот старый рыбак в труде своем нашел осуществление глубоких порывов души. Может, и не надо так выспренно говорить, слишком уж получится по-газетному, но ведь это правда: его труд – творчество. Завтра, наверно, труд каждого будет творчеством, каждая работа будет совершаться по призванию, а старик требует, чтоб это уже произошло сегодня, негодует на сына, что он не таков. Нет, пока еще рано требовать этого ото всех. Сегодня профессия не всегда подбирается по душе – часто идут, куда требуются работники, а не куда хочется. Да и всем ли заранее мечтается, кем быть? Слесарем или летчиком, агрономом или врачом? Всякая профессия хороша, если нужна, выполняй только, честно дело свое. А завтра, возможно, занятие не по душе, случайно выбранная профессия, станет странностью, будет прегрешением перед собой и обществом – проступком, а не работой, вот таким же прегрешением и проступком, в каких обвиняет Куржак своего сына.
Мысль, захватившая Алексея, в сути своей была проста, но ее надо было додумать до конца, чтобы точно представить себе все практические выводы из нее. Но обеденный перерыв кончился, надо было принимать посетителей. Алексей отошел от окна, вслух сказав себе:
– Вечером поговорю с Кузьмой дома.
18Работа на метеостанции оставляла Шарутину много времени и для того, чтобы послоняться потом в одиночку по улицам, отделывая рождающиеся каждый день и каждый день с огорчением бракуемые стихи, и для встреч с друзьями. Друзей у малообщительного, но доброго по натуре штурмана было немного, зато все были верные, без ссор и размолвок – мрачный, угрюмо басящий Шарутин в любом споре предпочитал уступить, чем рассердить друга. Миша, сам не понимая, почему, стал одним из тех, кого Шарутин одарил своей дружбой и кого, на правах старшего, заботливо опекал.
– В субботу готовься к вечерку, – сказал он однажды Мише, забежав к нему на минутку. – Пригласительные билеты у меня в кармане. Нейлоновая рубашка у тебя есть? Без нейлоновой моряку нельзя, принесу свою. И галстук сменим, твой не смотрится. Чтобы в шесть был дома!
На другой день перед тем как идти к Мише, Шарутин заглянул на квартиру к Тимофею. Сергей Шмыгов, закончив свой, как он всем называл, «сухопутный ремонтный срок», уходил в океан на «Ладоге» Доброхотова. У Тимофея на столе стояла водка, кувшин кваса и разная закуска. Сам Шмыгов был уже изрядно навеселе, у Тимофея от выпитого тоже раскраснелось лицо. Между Тимофеем и Шмыговым сидел паренек лет восемнадцати – с первым пушком на румяном лице, застенчивый, угловатый.
– Мой моторист, Костей зовут, знакомься, – важно сказал Шмыгов. – Отчество тоже есть, даже и фамилия, только это для отдела кадров, на судне величания ни к чему. Салажонок! Я его в мастерской нашел, обучил двигателю, теперь буду в моряки выводить. Жуткое дело, каким станет человеком! Ты меня знаешь, Паша, у меня слово – гиря. Теперь давай прикладывайся, и мы с тобой.
Шарутин не заставил себя вторично просить: Закусывая, он показал на Костю – тому ничего не налили:
– А моториста почему обходят?
– Нельзя, – строго сказал Шмыгов. – Пока две тонны морской волны не выхлебает, хмельного не разрешу. Так и меня батя когда-то учил: «Испей досыта соленой водички, там можно и на водочку приналечь».
– Сегодня уходите? – спросил Шарутин.
– Завтра утром. И Тимофея возьму, пусть посмотрит каюту стармеха. Двоим там не лечь, а сидеть могут с полдюжины.
– Прогноз на завтра неважный, – предупредил Шарутин. – С запада накатывается ветерок. Как бы вам на денек не задержаться.
– Завтра уйдем! – уверенно сказал Шмыгов. – Ведь послезавтра что? Понедельник! Чтобы такой старый морской волк, как Борис Андреевич, в понедельник вышел? Да ни в жисть! Теперь слушай мой наказ, Тимоха, – обратился он к Тимофею. – Два пункта. Исполнение обязательное. Первый. Чтобы к моему приходу обженился с Анной. Ставлю тебя в известность: сегодня утром, тебя тогда не было, поставил ей ультиматум: либо пусть съезжает на другую квартиру и живет там сама по себе, либо прекратит издевательство над тобой.
Тимофей даже побелел от огорчения.
– Какие издевательства, побойся бога, Сережка!
– Пусть выходит за тебя. Так и приказал: к моему возвращению из рейса чтобы забраковались. И добавил: говорит тебе, Анна, Сергей Шмыгов, а слово Шмыгова веское – по пуду буква.
– Сколько вы о вашей соседке рассказываете, а я ее ни разу не видел, – сказал Шарутин. – Какая она все-таки из себя?
– Уже говорил тебе – невредная. Кто говорит, даже красивая. В общем, все на месте, что требуется. Тимофею будет жена подходящая.
– Что же она ответила на ультиматум? – полюбопытствовал штурман.
– Смеялась. Что с нее возьмешь? Сказала: что-то Тимофей мне пока не объяснялся. Короче, Тимоха, бери быка за рога, а корову за бока. Завтра объяснись: хочу тебя, Анна, и точка на твоей одинокой судьбе. По-другому говорить запрещаю.
– Подсуропил ты мне, Сергей! – Тимофей все качал головой. – Чтобы так разговаривать с ней!
– Только так. Шмыгов друга в беде не оставит, это знай твердо. Теперь второе. Готовься ко второй перемене судьбы. В следующий рейс возьму тебя с собой. Хватит землю топтать, сделаю из тебя моряка.
– Да у меня голова кружится, чуть волну увижу! И плавать не умею. Какой из меня моряк?
– Неважно, что голова кружится и что не плаваешь. Научим. Тебе скоро жену содержать, а у нее дочь подрастает. Не на сухопутные же свои барыши! И потом знай: я к тебе второй год присматриваюсь. Будет из тебя моряк!
Шарутин выпил еще рюмочку и пошел к Мише. Нейлоновая рубашка, принесенная штурманом, пришлась Мише впору. Штурман сам вывязал другу галстук. Миша покрасовался перед зеркалом.
– Аполлон! – восторженно воскликнул Шарутин. И уже обыкновенным голосом добавил: – Хватит вертеться перед зеркалом, а то сам в себя влюбишься. Был такой печальный случай в древности с неким Нарциссом, хорошего ничего не получилось.
Праздничный вечер с танцами был устроен в клубе вагоностроительного завода. Миша с Шарутиным на торжественную часть опоздали, а к танцам успели. Миша встал в стороне и осматривался, все были незнакомые, он уже стал досадывать, что согласился пойти в клуб. Шарутин, пропавший в толпе, привел к нему Катю.
– Танцуйте, дети мои, – сказал он великодушно. – Уступаю тебе, Миша, первенство и не требую за это чечевичной похлебки, как сделал в старину один известный исторический деятель. Но второй танец мой, помни это.
Миша танцевал плохо, но Катя с таким увлечением кружилась, что его неумение не мешало. Она очень рада с ним встретиться, о том совместном воскреснике у нее остались самые лучшие воспоминания. У них в клубе часто бывают вечера, она приглашает Мишу приходить. В дни, когда нет танцев, показывают кинокартины, тоже захватывающе интересно.
Первый танец закончился, и Катю перехватил Шарутин. По залу шла Анна Игнатьевна, Миша пригласил ее на танец.
– Век вас не видел, – сказал он, танцуя.
– Всего три недели, – поправила она весело.
– Неужели три только недели? Как же медленно шло время!!Вы не заметили?
– Нет, не заметила. У меня время всегда идет одинаково. А вот у Кати, с которой вы только что танцевали, время тоже замедлилось, она с нетерпением ждала этого вечера. И она часто вспоминала, как вы хорошо с нами работали. Мне кажется, вы произвели на нее впечатление.
– Мне это все равно, – сказал он равнодушно. – Я о ней не думал. Другая у меня на уме.
– У вас есть другая девушка? – сказала Анна Игнатьевна с сожалением. – Жаль Катю, она огорчится. А почему вы не привели с собой свою подругу?
– О вас я думал! С того дня, как повстречались у памятника, все о вас думаю. А когда вы посмеялись надо мной на воскреснике, так особенно!
Анна Игнатьевна попыталась освободиться, он не пустил. Танец был в разгаре.
– Почему вы меня не уважаете? – сказала она с упреком. – Чем я заслужила такое обращение?
Он смешался.
– Вот еще – не уважаю! Нет, серьезно – очень думал о вас.
Музыка кончилась. Анна Игнатьевна быстро отошла. Настроение Миши вконец испортилось. Катю окружили заводские пареньки. Шарутин опять где-то пропал. «К чертовой матери, – думал Миша, – наплюю на все и потопаю домой, нечего мне делать на чужом празднике.» Он пошел к выходу.
В вестибюле Анпилогова принимала от гардеробщицы пальто.
– Надо бы докончить разговор, Анна Игнатьевна, – подойдя к ней на улице, сказал он с угрюмой вежливостью. – Кстати, провожу. Ночью небезопасно, сами знаете.
Она кивнула головой. Несколько шагов они прошли молча. Потом он заговорил. Что она имеет против него? Слова его всегда мягкие…
Она сказала с досадой:
– Да не в словах дело. Вы нехорошо на меня смотрите.
– Смотрю, как на всех женщин.
– Именно. Как на всех женщин, за которыми ухаживаете. Для ухаживаний я вам не гожусь.
Нет, он и не думал за ней ухаживать. Ухаживания ему не по характеру. Пережиток, смешной в век равноправия. У мужчин с женщинами сейчас норма – договоренность, а не ухаживания. Он к ней – ты мне нравишься, давай встречаться. Она ему – можно встречаться или – не хочу, проваливай поздорову. И всё. Идеальная простота.
– Та самая простота, которая хуже воровства.
Он с насмешкой посмотрел на нее. Идеалов ищете? Между прочим, в любви и воровство – законно. Поцелуй украдкой, а если серьезное свидание, так запершись, по принципу: бог послал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел.
– Это не мой принцип. Я женщина старой школы.
– Где вы, кстати, живете?
– Уже надоело провожать?
– Приятно идти, хочу продлить удовольствие.
– Живу в бывшем доме.
– Почему в бывшем?
– Разрушен очень. Третий год обещают приступить к восстановлению и третий год откладывают.
С проспекта Победы свернули на Кутузовскую. Анна Игнатьевна сказала, что с завода обычно возвращается этой дорогой. По зеленой, в цветах, Кутузовской прогуливаешься, как по саду. Миша согласился: улица хорошая, хотя на ней ни магазинов, ни кафе – для веселья такие улицы мало пригодны, а к прогулкам располагают.
Анна Игнатьевна свернула в плохо освещенную улицу. Сперва шли восстановленные дома, затем стали попадаться развалины. В руинах промелькнули две мужские тени. Анна Игнатьевна ускорила шаг. Миша сказал:. – Вы, оказывается, трусиха?
– Ужасная! Ночью иду домой, дрожу от каждого шороха.
– Со мной не боитесь?
– С вами я побаиваюсь другого.
Если бы она не сказала так, он вежливо довел бы ее до дому, чинно раскланялся. Вдруг озлившись, он схватил ее, стал целовать. Она вырвалась, побежала вперед.:
Он молча смотрел ей вслед. Болван, дубина безмозглая! На старуху польстился. Нужна тебе старуха! Он зашагал назад, удивляясь и негодуя. Вот уж невозможная баба, отбивалась, будто ее душили. Радуйся, что молодой парень тобой увлекся, ноги мне целовать надо, а не отбиваться, дуреха ты!
У дома, где мелькали тени, он остановился. Сдурел, совсем сдурел! Отпустил женщину одну в развалки. И она, идиотка, неслась, не помня куда!
Он побежал обратно по темному переулку. Липы шумели раскидистыми кронами. Он остановился, прислушался. Издалека донеслось испуганное восклицание. Он кинулся на крик. К Анне Игнатьевне приставали два подвыпивших парня, один низенький, другой повыше. Высокий схватил ее за руку, она вырывалась.
– Ладно, не кочевряжься, мы хорошие! – услышал Миша пьяный голос. – Ну, поцелуем, ну, обнимем, пятна не останется!
– Пустите, я позову на помощь! – крикнула она и вырвала руку.
Она побежала, они, захохотав; припустились за ней. Миша нагнал низенького, ударил его в плечо. Парень пошатнулся, позвал товарища.
– Наших бьют! – закричал высокий, оставив Анну Игнатьевну. – Что такое? Кто позволил?
Он бросился на Мишу. Миша едва успел ответить на удар, как налетевший низенький боднул его головой. Миша пошатнулся, низенький ударил кулаком в живот. Охнув от боли, Миша свалил низенького на землю; Теперь остался один высокий, он после крепкого удара отступил. Миша услышал отчаянный крик Анны Игнатьевны – низенький выхватил нож, она, вцепившись в его руку, пыталась не пустить его к Мише. Миша с такой яростью вывернул локоть нападавшего, что тот, завопив, выронил нож и опять повалился на землю. Миша ударил его ногой, схватил нож и кинулся на высокого – в руке у того тоже сверкнуло лезвие. Высокий помчался к ближайшему разрушенному зданию, за ним удрал и вскочивший второй. Миша кинулся было вслед, но Анна Игнатьевна обхватила его и твердила:
– Не пущу! Не пущу!
И лишь почувствовав, что ярость в нем утихает, она перестала кричать: «Не пущу!» и разжала руки. Миша со смехом показал трофей:
– Храбрецы! К одинокой женщине сильны разбежаться, а мужика побоялись.
– Выбросьте эту мерзость! – с содроганием попросила она.
– И не подумаю! Или на память оставлю, или в милицию занесу. – Он взял ее под руку, заглянул в лицо. – А вам не везет, Анна Игнатьевна! От меня убегали, а на кого угодили? Как же теперь прикажете мне держаться?
– Проводите меня, Миша. Одна я и шагу побоюсь сделать. От пережитого испуга она ослабела, шла медленно. Они приблизились к большому дому.
– Вот те на! – сказал Миша с удивлением. – Знакомое местечко! Тут же Тимофеевы хоромы.
– Тимофей – мой сосед.
– Ах, вот оно что! Что же он вас не встретил? Он же всегда встречает с завода соседку – вас, вероятно.
– Он сегодня провожает в море Шмыгова. А я сказала, что дойду с друзьями без приключений.
– И, точно, дошли. Правда, не с друзьями, да и приключения были.
Она поднималась с трудом, на каждом этаже отдыхала. Перед дверью ее квартиры он сказал:
– Бледны вы – страх! Не вызвать ли врача?
Она покачала головой, силилась улыбнуться, но дрожащие губы не складывались в улыбку.
– Тогда поднимите дочку, пусть заварит чаю покрепче.
– Варя выпросилась ночевать к подруге.
– Может, остаться? Нехорошо покидать вас одну в таком состоянии. Я могу пристроиться на диване или на полу.
Она кивнула.
– Посидите несколько минут, я успокоюсь…
– Я не тороплюсь, можете не волноваться. Да придите же в себя!
Он дружески положил ей руку на плечо. Рука была в крови.
– Вы ранены! – вскрикнула она. – Боже мой, вы ранены!
– Не моя, того низенького. Он поранил себя, когда я вырывал нож.
Она протерла ему полотенцем руку. Раны на руке не было. Она с облегчением сказала:
– Я не простила бы себе, если бы вы пострадали из-за меня. А теперь, пожалуйста, уходите.
Он стоял и смотрел на нее, дыхание, у него опять стало неровным. Она хотела отойти. Он обнял ее, целовал лицо и шею. И сейчас у нее не было сил и не было желания отбиваться.
19Он лежал, утомленный и довольный, и все говорил. Анна Игнатьевна положила руки под голову, смотрела в потолок. На потолке бегал зайчик от уличной лампы, лампа раскачивалась – опять с моря налетел ветер. А березка, выросшая на балконе, так перегибалась, что порой закрывала мятущейся кроной все окно. То, что произошло у Анны Игнатьевны с Мишей, было и хорошо, и плохо – она не знала, чего больше, хорошего или плохого.
Миша говорил о ней. Она покорила его с первого взгляда – он сказал с «первого глаза». Он закрывает глаза и видит, как она идет вдоль братских могил. После второй встречи дошло до того, что дня не проходило без мысли о ней. Про себя твердо постановил: добуду Анну! А что он задумает – все! Из-под земли достанет, из облака утянет!
– Ну, и как – добыл Анну? – спросила она.
Он захохотал, притянул ее к себе. Он делом доказывал, что добыл ее. А было непросто, ох, непросто – признавался он, счастливый. Как же она отваживала от себя! Но он знал – рано или поздно они подружатся. Такими парнями женщины не разбрасываются. Она ведь одинокая, а свято место пусто быть не должно.
– Вот как? Чем же ты заполнишь мою пустоту? В мужья себя предлагаешь, что ли?
Он смеялся еще счастливей. Зайчик на потолке уже не метался оголтело, а перебегал неспешно из края в край. И от того, где находился зайчик, мрак в комнате то густел, то разреживался. Временами Анна Игнатьевна отчетливо видела Мишино лицо, временами оно пропадало в темноте. Что общего между этим молодым шалопаем, бесцеремонно хвастающимся своими сердечными победами, и тем храбрецом, ринувшимся на двух хулиганов? Это были разные люди, она не могла соединить их, а соединить непременно надо было, иначе становилось совсем плохо.
Миша отсмеялся и заговорил. Что ж, Анна в жены подошла бы, да разницу в возрасте не перечеркнешь. От одних приятельских смешков изведешься.
– Спи, четвертый час! Разве можно так с женщиной говорить?
Он разволновался, ему не хотелось ее огорчать. Он привлек ее к себе, она отвела его руку.
Зайчик, покачиваясь на потолке, сумрачно, как лампада, озарял комнату. Балконная березка билась в окно, как огромная черная птица. Нет, он ничего не понимал, он все больше сбивался на игривый тон. Не надо же сердиться, Анечка, я же без обиды. Все, что нужно тебе – скажи только! Пыль буду сдувать с тебя, колесом вертеться вокруг, охраню так, что и близко никто не сунется! Такая уж судьба свободных парней – заполнять одиноким женщинам житейскую пустоту. Поддаемся требованиям жизни.
– И много раз тебе приходилось поддаваться требованиям жизни? Спи, Михаил, я устала.
Он еще поболтал и уснул внезапно. Анна Игнатьевна слышала его дыхание, ощущала жар его тела. Она положила руку ему на грудь, под рукой гулко билось сердце. Она закрыла глаза, чтобы не видеть мебели, тускло выступавшей из мрака. Сколько раз, и не только зимой, она мерзла под этим одеялом, ей всегда не хватало собственного тепла. Сейчас тепла с избытком, одиночество кончилось – временно прервалось. Она зябко передернула голыми плечами, набросила на себя одеяло. Еще никогда она не была так обидно одинока, плохого много больше, чем хорошего. Так мало нужно, чтобы покорить тебя – быть человеком, а не подлецом… Ты схватила его, не дыша, ты умерла бы, если бы он побежал за теми двумя, он поддерживал тебя за локоть, когда ты оступалась, ты вздрагивала, ощущая пальцы, сжимавшие твою руку. Вот он лежит рядом, на время полностью твой – ты счастлива?
– Не удалась, – сказала она вслух о своей жизни. Миша, вздрогнув, что-то промычал во сне. Она повторила как приговор: – Не удалась!
Она тут же молчаливо запротестовала. Несчастной она не была. Жизнь ее, если вдуматься, скорее счастлива. Все было в жизни – и друзья, я здоровье, и дочь Варенька – чего еще? Ей не в чем упрекнуть себя, нечего стыдиться – жизнь шла по-хорошему!
– Моя жизнь, – сказала она горько. – Она была не хуже жизни моих сверстниц, рожденных в тысяча девятьсот двадцать четвертом.
Она вспомнила школу в Ленинграде – пятиэтажное здание, широкие окна, светлые классы и коридоры. Школу построили в тридцать пятом году, в конце сорок первого учению пришел конец, – чуть ли не всей жизни конец, – так иногда в тот год казалось. Она видела выпускной вечер, в их классе было поровну мальчиков и девочек – четырнадцать девочек, четырнадцать мальчиков. Оля, Светлана, Кира, Маша, еще Маша курносая, еще Оля беленькая, Татьяна, Галя, Липа, Рая, Фатима… Кто еще? Тамара, Фроня, нет Тоня… девочек она уже забывает, лиц уже не помнит, лишь имена звучат. А мальчиков видит всех. И низеньких Лешу и Гошу, и забияк Васю с Семеном, и высоких Петра и Павла, и остроумного Мирона, развязного Оскара, рыженького Мишу и Костю с Давыдом, и Федора с Тришкой, всегда хохочущим Тришкой… Их давно нет в живых, а она видит всех, боже мой, живые забываются, себя забывают, а мертвые вечно живут, им уже не измениться, все в них – навеки. Одним навеки – нет двадцати, другим навеки за двадцать, как написал кто-то в режущем сердце стихе! И Тришке, и Николаю, и Федору, и Павлу, и твоему Косте – всем им навеки за двадцать, остальные не преодолели этого рубежа, им навеки до двадцати!
Не плачь, глупая, на все горе в мире не хватит слез. Тебя вывезли в марте сорок второго, почти все вы, девочки, выжили, а мальчики погибли, те, кого ты навеки помнишь. Так странно, так невозможно горько – все они погибли, мальчики твоего класса, сверстники двадцать четвертого года. Вы уговаривались встретиться после войны в школе, многие девушки явились, другие прислали письма – ни один мальчик не прибыл и не написал, с того света не возвращаются… Говорю тебе, не плачь. Да и потом, поговорим рассудительно, не было там твоего любимого. Это были друзья, не возлюбленные. Ни одного ты не ждала в свой дом.
Но они не пришли с войны, и дом твой остался пуст. Люди, любившие тебя, погибли, и еще миллионы погибли, среди несвершившейся любви была и та, которой не хватило тебе и еще двадцати миллионам женщин, оставшихся, как и ты, одинокими. Милый близорукий Костя подарил тебе стихи в выпускной вечер, рифмованное предложение руки и сердца, – помнишь? Я все помню, я все вечно помню, я ответила ему: «Никогда, Костя!» Я тогда никого не любила из своих мальчиков-сверстников – соученики, друзья, не больше. Что осталось от моего «никогда»? Только то, что никогда мне не забыть этих слов, лучших в моей жизни не было, а я не понимала, я ничего, дура, не понимала!
В моей душе исходит кровью рана,
И я кричу, кричу вам: «Анна! Анна!»
Но глуп мой крик. Ведь я же первый дам
Пример беспомощности и боязни.
Нет, к дому вашему не зарасти следам.
Я вас хочу. Фанатик хочет казни.
Странно. Костя говорил мне ты, и в письмах тоже писал ты, а в стихах я были для него – вы. И лишь в том письме, от восьмого апреля, впервые появилось ты: «Тебе, дорогая Анна», а на конверте он надписал: «Доставить Анне Анпилоговой, моей подруге». Просто доставить, а не «доставить, если не вернусь», он знал: будет то, что он напророчил. И больше ничего уже не было от него, только конверт с надписью и эти шесть строчек, последние шесть строчек в его жизни:
Рассвет и разведка. Короткий бой.
На всякий случай – простимся с тобой.
Рассвет превратится в пожарище дня,
И, может, уже не будет меня.
Но будешь ты, когда кончится бой.
И буду я – в тебе и с тобой.
Ты читала эти прощальные строчки, замирая, у тебя не хватало сил на слезы – слезы пришли потом. Сколько лет ты не вынимала того конверта, все ты в нем помнишь, каждую букву, каждый штришок карандаша… Костя навеки во мне и со мной – очень тихий, близорукий, всегда один и тот же, ему уже не измениться…
И Николая я помню, отца Вари – он вечно во мне. Николай погиб в сорок шестом от пули бандеровца, через полгода после его смерти родилась Варенька. Уезжая, он просил тебя расписаться в загсе. Почему ты отказалась? Неужели, и вправду, ждала Костю? Подождем, сказала ты, подождем, Коленька, тебе скоро демобилизовываться – тогда распишемся. Пулей демобилизованный, он не оставил даже фамилии в метрическом свидетельстве дочери, у тебя даже фотографии его не сохранилось. Все равно, я его помню, он похож на Варю: те же кудрявые темные волосы, вздернутый нос, полные губы, широкие брови. Он плохо выговаривал «л», «хвеб» говорил он вместо «хлеб». Варя тоже не выговаривает «л», и ты не учила ее говорить правильно, так тебе милее. «Хвеб», говорит Варя, и ты смеешься, а она обижается. Даже голоса похожи, те же милые вскрики и звонкий смех, звенящий металл, если что не по нраву – копия отца.
Нет у нее отца, откуда взяться отцу, если мать, одинокая женщина, так и не выбралась замуж – в метрике черный прочерк. Двадцать миллионов одиноких женщин – а сколько детей без отцов? Наши несбывшиеся мужья унесли в могилы военных лет свою любовь к нам и свои несовершившиеся росписи в загсовских свидетельствах, нам остались вот эти – временно холостые. И нельзя им грозить карою алиментов, укоризной общественного осуждения! Двадцать миллионов женщин нельзя преждевременно списать в тираж! Столько десятилетий, столько веков так презрительно, так осуждающе звучали слова «одинокая женщина», чуть ли не иносказание для блудниц и обманутых дур, а сейчас столько сочувствия в этих словах, они вызывают такое желание помочь, облегчить твою участь, иные одинокие матери требуют чуть ли не уважения к своему одиночеству – почти как к почетному званию… Нет, я понимаю, иного выхода нет, будь я всем народом, я действовала бы только так. Но я не весь народ, я только маленький человек, у меня болит мое маленькое человеческое сердце. Скоро, скоро природа сделает свое дело, тогда и падут загсовские запреты – Варе они уже не грозят, ее поколению мужей хватит.
Запреты, говоришь? Кому запреты, а кому привилегия. Вот он лежит рядом с тобой, красивый, молодой, упоенный своим маленьким мужским успехом, ничего в тебе не понимающий – кто ты, в сущности, для него? Ты для него – часть естественной его добычи. Он владеет ненаписанной, но всем подразумеваемой лицензией – эти охотники за одинокими женщинами, так и называют свое занятие, рабочий любовный термин – добыть… Обычная, обычная для сегодняшних условий добыча, не легкая, конечно, даже означенную в лицензии добычу нужно еще выследить и одолеть в борьбе – очаровать улыбками, задурить словами, прийти в трудную для тебя минуту на помощь…
Нет, ты не смеешь так думать! Он кинулся спасать тебя, чтобы спасти, а не заполучить в постель. И он рисковал собственной жизнью! Он платил огромную цену за твое доброе расположение, будь честна – ты не стоишь этой цены! Ах, я не знаю, чего стою и чего не стою! И почему я действую так, а не иначе, я тоже не знаю. Ты возвратилась после войны в Ленинград, в Ленинграде ты жить не смогла, здесь погибли от голода твои родители, все напоминало об утратах. Надо было ехать на Киевщину, там родители Николая, они любят Варю, даже не освященную официальными бумагами – просто Варю, Вареньку, Варьку, дорогую внучку, так похожую на их сына… И ты уже собиралась перебраться к ним, но вдруг помчалась сюда, на пепелище крепости, под фортами которой погиб Костя, в этот медленно нарождающийся Светломорск. И здесь ты разыскала фамилию Кости, одну из тысячи двухсот фамилий, выгравированных на гранитных плитах братской могилы, стояла перед ней, стоишь перед ней, не можешь оторвать от нее заплаканных глаз. Живого ты отвергала его, к мертвому прибегаешь каждый свободный час… Его нет, твоего Кости, никогда не бывшего твоим – он вечно с тобой, вечно в тебе!
Она встала, накинула на себя халат, подошла к окну. Березка так отчаянно билась кудрявой головой в стекло, словно за ней гнались и она умоляла впустить ее. Отчаяние грызло Анну Игнатьевну.
Еще никогда, в самые трудные часы своей жизни, ей не было так безысходно худо. И отчаяние происходило от того, что она понимала, почему худо и почему нельзя ничего сделать, чтобы стало хорошо.
Она присела на подоконник, продолжала терзать себя трудными мыслями, продолжала молчаливо спорить с собой. Ах, к чему негодовать на парня, которому удалась легкая связь! Все мужчины любят хвастаться победами. Будь честна с собой – в сотню, в тысячу раз все было бы лучше, если бы оно было таким, как ему вообразилось! Так просто его понимание – мне удовольствие, тебе удовольствие, а придет час – без обиды расстанемся. Нет, не так все повернулось! И не нужно вспоминать о Косте, не любила ты доброго, великодушного, умного Костю, ты только память свою о нем любишь. Николая лишь начинала любить, до настоящей любви не дошло, она была бы, правда, настоящая любовь, но Николай погиб – любовь не созрела, ты не умела быстро влюбляться. Ты влюбляешься рассудком, не одним сердцем, уж такова твоя натура, так ты раньше думала о себе. А в этого сорванца, смелого и грубого, нежного и наивного, влюбилась! Влюбилась сразу, беззаветно и безответно, влюбилась безрассудно. Только так и назвать твое чувство – любовь без ума!








