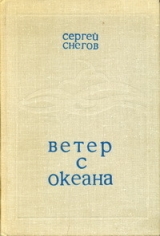
Текст книги "Ветер с океана"
Автор книги: Сергей Снегов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
В местной рыбацкой газете «Маяк» всю третью полосу отвели стихам Шарутина. «„Большой воды мечтатели“ – новая книга поэта-моряка» – возвещал заголовок. А в левом углу полосы красовался и сам Шарутин – нахмуренное лицо, фуражка с «крабом», трубка в зубах. Карнович насмешливо заметил своему штурману, когда тот явился на вахту:
– Вы же не курите, милорд. Откуда достал эту деревянную рухлядь? Трубочка эпохи корсаров Дрейка.
Штурман ответил, что без трубки нельзя, у читателей не будет веры в морскую профессию автора. Он с ликованием показал на туго набитый портфель – туда были впихнуты пятьдесят экземпляров газеты.
– Семь газетных киосков опустошил! Одна сиделица пожаловалась, что постоянных читателей граблю. Теперь буду наклеивать каждое стихотворение на отдельный лист.
Для расклейки стихов понадобилось пачка бумаги в пятьсот листов. Салон траулера на день превратился в подобие переплетной мастерской. Мишу, заглянувшего после вахты в салон, Шарутин немедленно завербовал в помощники. Стармех Потемкин, мирно обедавший на уголке стола после обследования забарахлившего «вспомогача», тоже увлекся наклейкой газетных вырезок на бумажные листы. Шарутин пообещал помощникам по стихотворению с таким автографом, что тот один удвоит ценность стиха. «Другу-соратнику, славному любимцу Нептуна» – вот так он распишется на листке.
– Тебе – описание наших трудов в океане, Миша! Будешь помнить, как рвали рекорды в Северном море и у Ян-Майена. И будь покоен, даже древний Гесиод так не расписывал труды и дни! Шедевр, не меньше!
И швырнув на стол пачку газет, Шарутин мощно продекламировал:
Звездное утро полночи пуще,
Вал надвигается – гора…
Затемно трал в пучину пущен,
Затемно отданы ваера.
Солнце выглядывает на планшире.
Тралом недолго песок скрести.
Море рычит. От зеленый шири
Взгляда – и хочешь – не отвести.
Волны и волны – вечным эскортом.
Штурман вызванивает аврал.
Кто не на вахте – цепью у борта.
Все по местам – выбираем трал!
Тянем-потянем – и вот оно, вот оно
Льется чешуйчатое серебро!
Бочки наполнены, сети смотаны.
В трюмы майнаем морское добро.
Синею солью вздубела рубаха,
Даль неоглядная все пуста….
Море, озлобленная собака,
Воет, бросается на борта.
Стармех не был уверен, имеется ли здесь поэзия, но признал, что производственная картина точна. Шарутин заверил Потемкина, что с поэзией тоже все в порядке, пусть сомнения на этот счет не тревожат механослужбу. Миша попросил, чтобы штурман подарил ему и то стихотворение, какое читал, когда они шли на воскресник. Шарутин помнил и воскресник, и женщин, с которыми тогда трудились!
– Как же, Катенька и та, постарше, имя забыл, но женщина красивая! – воскликнул он с воодушевлением. – Хочешь поднести мой стих? И, конечно, старшей, я ведь видел, что ты на вечере в клубе, чуть увидел ее, вмиг изменил Кате. А как ее зовут?
– Анна Игнатьевна Анпилогова.
– Анна Игнатьевна? Тю, да это не соседка ли Тимофея? Помнишь, у кого жил Сережа Шмыгов?
– Она самая, – ответил Миша, краснея.
На листке, где было наклеено стихотворение «Меридианы по курсу множатся», Шарутин размашисто начертал: «Анне Игнатьевне, соседке безвременно погибшего стармеха Сергея Шмыгова от горестно его оплакивающего друга и автора стиха. Павел Шарутин».
– Бери! – Он отдал Мише листки с обоими стихотворениями. – И сразу неси по адресу!
Чтобы не давать повод к насмешкам, Миша еще повозился с клеем и бумагой, а когда Шарутин предложил отдохнуть и подкрепиться, убежал с судна.
Время шло к вечеру, морозная погода, державшаяся три дня, сменилась оттепелью, снег чавкал под ногами, по мостовым струились ручьи. С неба сыпалась смесь дождя и града – что-то мокрое и колючее. У огромной руины на Кировской Миша остановился. В окне Тимофея было темно. Окна, выходившие на балкон, где росла березка, светились. Миша поднялся наверх, постучал. Дверь отперла сама Анна Игнатьевна. Она в испуге отступила, увидев Мишу. Он вошел в комнату, протянул руку. Анна Игнатьевна еле пожала ее.
– Даже сесть не приглашаете, – упрекнул он. – И смотрите, как на мертвеца. Между прочим, я был за бортом, но выкарабкался.
Она пододвинула стул. Он сел.
– Что вы живы, я знала от Тимофея. Я рада, что вы вернулись здоровым.
В комнате был беспорядок переезда – увязанные тюки, выставленные наружу чемоданы.
– Где ваша дочь? Что-то ни разу ее не видел.
– Она ночует у подруги, пока я управляюсь с переездом.
– Могу помочь.
– Спасибо. Я заказала грузовое такси.
Он помолчал. Она ждала объяснений, он заговорил:
– Две есть причины, почему пришел. Первая небольшая. Наш штурман Шарутин стихи пишет. Настоящий поэт.
– Я читала подборку в «Маяке» из его нового сборника. Мне очень понравилось.
– Один стих Павел просил передать вам.
Она взяла листок, прочла надпись, с грустью сказала:
– Так жаль Сергея Севастьяновича! Такой удивительный был человек. Поблагодарите от меня Шарутина за стихи.
Они помолчали. У Миши стеснилось дыхание. Его тревога передалась ей. Она заметно побледнела. Он сказал вдруг охрипшим голосом:
– Теперь вторая причина. Большая! Сказать, что ли?
– Скажите, конечно.
– Хочу жениться на вас! – выпалил он. Она покраснела, потом опять побледнела.
– Давно надумали?
– В океане. Думал о вас каждый день. И понял, что выхода нет – надо жениться.
Она нехорошо улыбнулась – надменной, злой улыбкой.
– Хотите покрыть грех загсовским благословением? Напрасная затея. Не было греха! Ничего не было! – Она подошла к нему, ожесточенно прокричала: – Ничего не было! Уходите!
Он поднялся, недоумевающий. Она отошла и села, отвернув лицо.
– Анна Игнатьевна, давайте же поговорим, – попросил он. – Надо же выяснить отношения…
Она положила локти на стол, обхватила лицо ладонями.
– Что еще выяснять?
Он опять заговорил о встрече у памятника. Любовь его началась с той минуты. Он помнит ее грустное лицо, там, вероятно, похоронен близкий человек, наверно, муж. Она прервала его:
– Не было у меня мужа, я одинокая женщина. А похоронен там мой друг. Я ни разу при жизни не поцеловала его, а после смерти поняла, что одного его любила. Вот такая скучная история. Что вас интересует еще?
Он сказал с обидой:
– Одно интересует – почему вы меня ненавидите? Она покачала головой. В глазах у нее стояли слезы.
– Нет, Миша, ненависти! Все гораздо, гораздо сложнее!
– Расскажите, что за сложности.
– Хорошо, расскажу, хотя не уверена, что станет просто. Вот вы тогда обиделись, что я вас прогнала, думали даже, что чем-то не угодили. А я любовалась вами, когда вы заснули, такой вы были красивый и такой непозволительно для меня молодой. И думала, что совсем вы не мой, украла я вас из какого-то чужого счастья в свое маленькое счастьице. Это трудно объяснить! Есть свое счастье, хоть его и не всегда достигаешь, а есть не твое, и его нужно урвать, трястись над ним, ибо оно краденое, его могут отобрать.
– Десять лет разницы – вот что вас останавливает!
– Да, и это, но не это главное. Будь вы на тридцать лет старше или больной, никому не нужный… Нет, вы поймите, Миша! Дело не в замужестве. Своего счастья нет, а ворованного не надо. Сестрой, другом могла бы вам быть, но не женой и не любовницей. Вы меня облагодетельствовать собираетесь, а я благодетелей не терплю.
Все, что она говорила, чудовищно противоречило тому, что он думал в море о ней и о себе. Разговор у обоих шел об одном и том же, но как бы на разных языках. Она не понимала, с чем он пришел, он не мог понять, чего ей надо от него. И хоть не произошло того, чего он больше всего страшился – она не считала его распутником, добившимся легкой связи, обманщиком, задурившем голову льстивыми словечками, легче ему от того не стало. Наоборот, стало тяжелее, ибо стало темней. Он с отчаянием чувствовал, что не сумел объясниться, что надо было найти какие-то другие слова, не обычные, не повседневные, но таких необыкновенных слов, единственно верных и убеждающих, он не имел, а все остальные, что он мог сказать, уже не годились. Она таким, у всех людей одинаковым словам все равно не поверила бы.
Он встал. Она, замолчав, тоже поднялась. Она вдруг сильно побледнела. И по тому, как изменилось ее лицо, он какой-то как бы посторонней и смутной, пришедшей как бы издалека мыслью, понял, что ее что-то испугало в нем самом. Думать о том, что это такое, он не мог. Ничто не имело значения в сравнении с тем, что чистосердечное его признание не нашло отклика, какого он ожидал. Он молча повернулся и пошел к двери. Она схватила его за руку.
– Постой! Что с тобой? Что ты надумал?
Он вырвал руку и, ничего не ответив, вышел из комнаты.
7На улице моросило, дуло с моря. Нежданно нагрянувшая оттепель все усиливалась. Миша вышел к реке. Земляную набережную недавно начали одевать в бетон, на берег навезли блоков. Миша привалился спиной к груде цементных плит. Он все возвращался мыслью к разговору с Анной Игнатьевной. Его все сильней одолевали недоумение и печаль. Как получилось, что она не разобралась, с какой чистой душой он пришел? Почему она не поверила ему?
По темной набережной нетвердо двигался человек. Миша издали узнал Тимофея. Меньше всего сейчас надо было встречать Тимофея! Мише захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы Тимофею стало больно: все странности Анны Игнатьевны находили объяснение в этом человеке, что бы он сам не твердил о себе и о ней. Миша неприязненно следил за медленно приближающимся Тимофеем. Тимофей остановился.
– Миша, ты? И один? Или ждешь кого?
– Жду, пока ты уйдешь. Набрался, так вались спать.
– Точно, выпил, – виновато сказал Тимофей. – Сорок дней сегодня, как погиб Сережка… Такой же человек был, такой человек! А ты…. Миша!.. Я же для тебя – все, жизни не пожалею, прикажи! Все знают, как их спасали, себя не щадили, спасали, а Сережку – судьба не вышла, не сумели… Самый ты мне теперь дорогой, Миша! Это я тебе – как на духу!
Он присел рядом с Мишей. В голосе Тимофея прорывались слезы, он всхлипнул. Миша сказал, силясь сохранить неприязнь, которая стала таять от слов Тимофея:
– Не на духу, а на дождю! Погодка не для признаний. И не для прогулок. Снова повторяю – иди-ка спать!
Тимофей махнул рукой.
– Какая разница, Миша, дождь или солнце? Последние дни хожу на земле, всякая погода приятна.
Миша, повернувшись, с удивлением посмотрел на Тимофея. Тот вытирал ладонью слезы.
– Как тебя понимать?
– Сережкино завещание выполняю. Век себе не простил бы, если бы пренебрег… Последние его слова: «Готовься, Тимоха, вернусь, возьму в море». Сегодня отнес документы в отдел кадров. Там набирают команду на китобойный промысел. Сказали – подхожу…
Миша воскликнул, пораженный:
– Да ты же смерть боишься воды!
– Боюсь, – скорбно подтвердил Тимофей. – А что делать? Нет мне больше жизни на берегу!
Миша с минуту колебался, прежде чем задал новый вопрос:
– И все из-за того, что Сергей Севастьянович велел тебе стать рыбаком? Это ли вся причина?
– Ты же знаешь, Миша, – грустно сказал Тимофей. – Что говорить? Не вышла моя задумка насчет Анны Игнатьевны!
– Хотел мужем ей стать?
– Хотел, хотел… Мало ли что хотелось! Ты не подумай, Миша, я не упрекаю! И мысли такой нет – тебя винить! Сам понимаю – недостойный я этой женщины. Ну, а все же… Могло и по-другому стать, кабы она в тебя не влюбилась.
– Влюбилась! – горько сказал Миша. – Откуда ты вбил себе в башку, что влюбилась? Навоображал себе невесть чего! Придумываешь все!
Тимофей покачал головой.
– Нет, Миша, не придумываю. Другая она стала, как познакомилась с тобой. И раньше у меня надежды – не очень чтобы… А нынче – никаких! Да и не стараюсь… Она переезжает, больше соседями не будем. В хорошем доме станет жить, не в развалке, охранять ее с Варькой от всякого происшествия не нужно. А ты… если понимаешь, какой она человек… В общем, надо уходить подальше.
Он снова провел рукой по лицу – стирал то ли капли дождя, то ли слезы.
Миша молча смотрел на него и колебался, говорить ли о том, что он был недавно у Анны Игнатьевны и какой произошел разговор. Тимофей был соперник, Миша долго приучал себя к этой мысли. Соперников ненавидят, им грозят, чтобы заставить их убираться подобру-поздорову, так повелось издавна, Миша всегда думал о себе, что только так и обойдется с соперником, если тот у него появится. А сейчас, выслушивая признания Тимофея, он не чувствовал ни гнева, что они влюбились в одну женщину, ни желания причинить Тимофею зло. Такое чувство налетело кратковременно, когда Миша увидел, как Тимофей приближается, теперь от него не осталось и следа. Зато была жалость к нему, печаль, что так все неудачно складывается у обоих, и еще одно чувство, до того неожиданное, что еще минуту назад Миша не поверил бы, что оно возможно: желание признаться в своей неудаче с такой же искренностью, с какой признавался в своих горестях сам Тимофей.
И Миша сказал, стараясь говорить спокойно:
– Не теряй надежды. Не все для тебя потеряно. Сейчас я был у Анны… Разрыв окончательный.
Мише казалось, что Тимофей обрадуется такой вести. Но Тимофей испугался.
– Миша, побойся бога! Какой может быть у вас разрыв? Или сказал ей что нехорошее?
– Не знаю уж, хорошее или плохое, – угрюмо ответил Миша. – Просил стать моей женой. А она отказала наотрез.
– Рассердилась, что ли? Может, ты как-нибудь не так?.. Миша нетерпеливо возразил:
– Все было как надо, не придумывай себе опять всякого!.. Чин-чином, – люблю, всю жизнь буду любить, одна ты у меня на душе… Разве на такие слова можно сердиться?
– И она отказалась?
– Один был ответ: нет и нет! Что было делать? Я ушел. Вот под дождиком прохлаждаюсь.
Тимофей старался в темноте разглядеть лицо Миши.
– И чем объясняешь ее отказ? Миша ответил не сразу:
– Думаю… Разница лет – одно объяснение. В общем, не пара, так она считает. А отсюда вывод – ты ей в пару подходишь. Не стар и не молод. Ее годков или постарше?
– На четыре года старше, – ответил Тимофей.
– Нормально, значит. Так что можешь забирать документы из отдела кадров. Нет тебе нужды идти в море. И на берегу устроишь себе счастливую жизнь.
Некоторое время оба молчали. Дождь с легким шумом обрушивался на реку. На дне, посередине реки, проступало что-то темное, камень или плита. На противоположном берегу смутно высилась руина разрушенного в войну древнего собора. Тимофей заговорил первый. Теперь его голос был трезв и ясен. Хмель слетел с Тимофея, словно и не пил он сегодня ничего.
– Нет, Миша, нет! Не устроить мне счастливой жизни с Анной Игнатьевной. Тут ты ошибаешься, Миша. А почему она тебе отказала – разница лет или еще что – не знаю. Другое знаю, голову дам на отсечение – любит она тебя! Одного тебя любит, ни о ком не думает и не хочет думать. Вот такая правда.
– Правда, правда! – раздраженно передразнил Миша. – Она, что ли, тебе об этой правде говорила? Сам ее открыл? Мне что-то в любви она не признавалась.
– И мне ничего прямо не говорила, врать не буду. Чувствую! Знаю я ее, Миша, так знаю, как и она себя не понимает. Восемь годков рядом с ней живу, все разбираю – как дышит, как ходит, как глядит, когда сердится, когда довольная… А с того вечера, помнишь, я Сережку на судно провожал, ты ее домой привел… Другим человеком стала! Ты не думай, я без попреков. И мысли такой нет, чтобы тебя винить. А все же, Миша… Скрывать не буду, приучилась она ко мне, друга видела, ну хорошего соседа, так скажу. А Варенька, дочка, та просто ко мне тянулась. В общем, мечты у меня были, я тебе уже говорил… И все теперь! Нет меня для нее больше. Пока сосед, а завтра самое большее – вспомнит без удовольствия, что был такой Тимофей, который все для нее – на пол бы бросила, ковром бы для нее стал. Пока сердце у ней было пусто, ну, какая-то надежда, сам понимаешь… А сейчас в ее сердце – ты. А что отказала она тебе или сразу согласилась – несущественно…
– Для меня очень существенно, – хмуро сказал Миша и встал. – Давай-ка по домам, Тимофей. Поговорили по душам, выяснили, что все темно. Тебе отсюда направо, мне прямо. Будь здоров!
Он ушел, не оглядываясь. Вначале быстро, чтобы Тимофей не остановил его, потом, убедившись, что тот пропал позади во тьме, замедлил шаг.
Черная река тихо плескалась в берега. Нудный зимний дождь стал нуднее. Миша поднял воротник, уныло побрел к руинам замка. На повороте в порт у фонаря на мосту он чуть не столкнулся со Степаном. Боцман радостно закричал:
– Мишка, ты? Вот уж кого мне надо! Чего такой расстроенный?
– Чего, чего! – передразнил Миша. – Значит, есть причина расстраиваться. Душа летнего тепла требует, в крайности, хоть настоящего декабрьского снега. А на дворе что? Дождь! За воротник льет.
Степан посмотрел на темное небо.
– Погодка – хуже немыслимо. Едем в «Балтику», там потолкуем.
Миша поплелся за Степаном. По улице ехало свободное такси, Степан остановил его. Был еще тот час, когда в ресторан входили свободно. Степан выбрал самый дальний столик, заказал ужин, пиво, графинчик водки.
– Ох, и расскажу я тебе кое-что, Миша! – объявил он восторженно. – Но раньше примем по сто грамм, без этого язык на всю откровенность не повернется. Ну, давай, на первое наш морской тост – за благополучное возвращение!
– Сколько раз пили за благополучное возвращение, – мрачно заметил Миша, принимая рюмку. – Возвращение есть, а где благополучие?
Степан радостно подмигнул. Он явно еще не пил сегодня, но держался, словно был основательно нахмеле.
– Само возвращение и есть благополучие. Подлинное рыбацкое счастье – ходим по твердой земле. Кузьма говорит, от этого одного каждый будний день – праздник. Согласен безоговорочно.
– Ты хотел мне что-то важное рассказать? Степан налил по второй рюмке.
– Не важное, а важнейшее. Алевтина и Кузьма разводятся. Миша отодвинул рюмку.
– За горе товарища не пью. И тебе не советую.
– Горе? – насмешливо переспросил Степан. – Раньше условимся, что за штука горе, а что будет счастьем. Горе – то, от чего бегут, верно? А счастья добиваются. Возражений нет? Так вот, Кузьма бежит от Алевтины! Все делает, чтобы она ушла. Значит, нет ему горя от ее ухода! Значит, увидел в ссоре с ней счастье, если подбивает на ссору. Сообщаю – вчера Алевтина ушла из дому и объявила, что подает на развод. Теперь выпьешь?
– И теперь не выпью. Повод не тот, чтобы радоваться. Степан залпом опорожнил свою рюмку.
– Для тебя – не повод. Для меня – причина. Алевтина при Куржаках и Сергее Нефедыче сказала, что пойдет замуж за меня. После развода с Кузей, само собой.
– Ничего, не понимаю. Объясни толком!
Степан рассказал, как сидел у Куржаков, когда пришли Соломатины с грубой радиограммой от Кузьмы, тот остался на промысле на второй срок и потребовал, чтобы в семье им поменьше интересовались. И как Алевтина объявила, что уходит из дому к подруге, какой-то Полине Андреевне. И как старый Куржак укорил ее, что на одиночество идет, а она закричала, что выйдет за него, за Степана, он Тане будет лучше родного отца.
– И можешь не сомневаться – буду! – с ликованием закончил Степан. – Танечка это же чудная девчонка! На руках обеих стану носить! Через годик Таня и не вспомнит, что кто-то другой ей отец, а не я. Даже алименты не разрешу брать, чтобы никаких прав Кузе не осталось.
Миша недоверчиво сказал:
– Ну, допускаю, Алевтина вышла из себя, разводом пригрозила, на тебя указала, что станешь мужем. А ты? Так прямо и бухнул, что отбираешь ее от Кузьмы?
– Не осмелился. Гавриловна, знаешь, как смотрела, Петр Кузьмич тоже… Страх напал. Не помню, что и выговорил… Лина трусом назвала, что сразу не отозвался. Только это значения не имеет.
– Объяснялся с ней когда?
– Объяснений не было. Только это, говорю тебе, без значения. Она меня понимает!
Миша мрачно глядел на стол.
– А ты уверен, что она ушла из дому? Что Куржаки не уговорили ее остаться?
– Ушла и Танечку увела. Днем был у них. Гавриловна плачет. Просила завтра пойти с ней к Алевтине, вместе уговаривать ее вернуться, одна она боится.
– И ты пойдешь?
– Пойду, конечно.
– И будешь уговаривать Лину вернуться?
– Для чего же Гавриловна просит меня с собой?
– Я спрашиваю – будешь уговаривать Лину вернуться? Искренне? От души?
– Искренне, от души! Буду уговаривать Лину вернуться! Никогда бы себе не простил, если бы стариков обманывал. Что другое, а это не по мне.
– Не понимаю тебя, Степа. Странный ты человек.
– Нормальный. Сколько бы ни уговаривал вернуться, вот голову даю на отсечение, режь ее тут же – не поддастся! Я Лину на три метра в глубину вижу, она человек удивительный, другой такой женщины на свете нет и не будет, доподлинно говорю. Одно дело, сам Кузьма пришел бы упрашивать, хоть бы радиограмму прислал…
– Кузьма простые нежные слова перед радистом постесняется написать, не то, чтобы о прощении просить.
– Об этом и речь. И как бы я Кузю ни хвалил…
– А ты будешь Кузю хвалить?
– Да, Миша, буду хвалить Кузю. Все хорошее о нем вспомню – как работает, как дружит с товарищами, как себя не пожалеет, чтобы кому помочь… Ни одного слова не совру.
– И не боишься, что Лина прислушается к твоим уговорам?
– Прислушается, значит, не судьба мне… Обманом завоевывать ее – нет, Миша! И раньше бы мог таким способом, только зачем? Говорю тебе – это не по мне! Честно возьму ее. Уверен – что бы ни говорил о Кузе, она еще крепче ожесточится! И снова откажет вернуться. И тогда придет мне доля сказать – вот он, я, Лина, – весь твой!
Миша смотрел на Степана, словно впервые видел его.
– А ведь, сказать по-честному, ты все-таки подло поступаешь с товарищем.
Степан покачал головой.
– Не те слова, Миша! Вескости нет, скользят, а не придавливают. Опять вопрос, как понимать – подло, благородно? Такая же темь, как с горем и счастьем. Еще и темней! Не могилу рою Кузе, а освобождаю от жизни, что ему горше петли. Было бы иначе, разве он вел себя так с Линой? Теперь на нее взгляни. Что женщине нужно? Любовь да уважение – все остальное мура. Вот благородство к женщине – любить и уважать ее! Найдет это она у Кузи? А у меня – да! Ты настоящей любви не знаешь, Мишка, ты чудной, вроде монаха. А я со столькими женщинами путался! Никого не обижал, но и никого не любил, а люблю одну. И такое счастье ей обеспечу, что если хоть когда-нибудь выскажет недовольство, казню себя! Думал, порадуешься со мной, а ты…
Они снова выпили. Степан, до того не закусывавший, с жадностью накинулся на еду. Миша не жаждал охмеления, оно пришло само и пришло внезапно – вещи потеряли резкие очертания, голоса стали глуше, мир как бы отдалялся и терял яркость. А то, что оставалось, было пропитано горечью. Миша думал уже не о Степане и Кузьме, а о себе. Откровенность Степана подобно яркому лучу осветила собственные Мишины горести. Откровенность эта была тем дополнением к разговору с Тимофеем на набережной, без которой разговор оставался неубедительным. В любви Тимофея и Степана было что-то общее, что-то, быть может, самое важное – и об этом самом важном он, Миша, и не думал до сих пор. Все загадочное стало ясным. И если Тимофею не повезет, потому что Анна Игнатьевна и вправду не любит его, а любит Мишу, которому сегодня отказала, то Степан будет счастливей, он выбрал единственный правильный путь к сердцу Алевтины. Степан завоюет Алевтину, она не устоит перед его преданной любовью, она ведь бросила гневно родителям Кузьмы: «Знаю, каков Степа ко мне!» А что знает о Мише Анна Игнатьевна? Два раза встречались, на третий воспользовался ее слабостью. Вот он, Степан, счастливчик, наступает, наконец, его радостный час, а ведь столько лет он шел к этому часу! Обхаживал, ухаживал, обвораживал, ни словом, ни движением не рвал в свою сторону, на легкую победу не надеялся, не выкрадывал скорой любви, знал: скорая любовь – слепая, такое от внезапности натворишь, что за голову потом хвататься!
И Миша понял, что ему снова надо увидеть Анну Игнатьевну. Не сегодня, не завтра, через неделю, через две недели, не спешить, главное – ни в чем не спешить – ни в словах, ни в поступках.
И раскрыть ей душу, по-настоящему раскрыть. Объясниться, не добиваться. Даже замуж больше не просить. Извиниться, если ненароком обидел. Сказать, что и сам не торопиться и ее не торопит. Пусть узнает поближе, пусть приучится к нему. Не хочешь в мужья? Подожду! Сколько пожелаешь, столько и буду. И что Степан Алевтине скажет, то и я скажу. И что он для нее сделает, то и я сделаю для тебя, Аночка. Чего потребуешь – пожелай только!
Миша встал и пошатнулся. Степан с удивлением посмотрел на него.
– Да ты охмелел, что ли? Вот уж не знал, что такой слабак!
– Надо идти! – с трудом выговорил Миша. – До свидания, Степа. Удачи не желаю, между тобой и Кузей встревать не хочу. Ваше дело, как ты там устроишься с Линой.
Миша нетвердыми шагами пошел к выходу.








