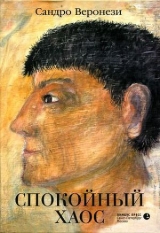
Текст книги "Спокойный хаос"
Автор книги: Сандро Веронези
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Мы возвращаемся на школьный двор, и когда я прощаюсь с дамами, снова замечаю того мальчика с болезнью Дауна, которого я видел вчера, мать ведет его за руку. Они проходят мимо моей машины, я тут же нажимаю на брелок – би-и-и-п, – и он доволен, улыбается, но мать опять ничего не заметила и, не обращая внимания на его протесты, тянет за собой. А Барбара с матерью Нилоуэфер ни о чем не догадались, они, конечно, заметили мой жест, но восприняли его вполне нормально, с чисто внешней стороны: я собираюсь ехать в офис и открываю машину; но самое интересное, что и сегодня тот мальчик вовсе не заметил меня, а значит, в самом деле, эта волнующая его тайная связь между ним и машиной, исключительно его прерогатива. Мать тянет его за руку, и он нехотя входит в подъезд здания, и, как только я остаюсь один, следую за ними, пытаясь понять, куда можно ходить в такое время. На щитке звонка двенадцать кнопок и три элегантных латунных таблички адвокатских контор, и еще одна, та, что скрыта под плексигласом, информирует, что на первом этаже находится кабинет физиокинезиотерапии. Вот куда они ходят каждое утро…
Я возвращаюсь к машине и звоню в офис Аннализе. Аннализа, я сегодня опять останусь возле школы. Пауза. Отмени все встречи и все звонки переключай мне на мобильный, привези сюда документы на подпись; знаешь, сегодня просто чудесный день. Пауза. Я диктую ей адрес. Пока. Стоп. Ну и пусть она и вправду растеряется, пусть молниеносно промелькнут все оттенки недоумения на ее лице, и она пойдет пошептаться к Эммануэле, секретарше Пике, их столы стоят рядом за перегородкой в open-space [12]12
Открытое пространство, не ограниченное стенами (англ.).
[Закрыть]: такой интерьер захотели австралийцы, когда они несколько лет назад купили нашу компанию, а французы, в прошлом году пришедшие на их место, решили все переделать, но пока еще не взялись за дело, и потихоньку сообщит ей новость: «Паладини и сегодня останется на целый день у школы своей дочери»; все же я так и сделаю, мне все равно, черт возьми! Я же директор, в самом деле, что мне нужно карточку компостировать, что ли? Пока меня не уволили, я сам буду решать, где мне работать, а если меня уволят, то из-за слияния, а не потому, что я прогуляю два рабочих дня.
И опять я взглянул наверх, на большое окно на третьем этаже, третье слева. Пять минут десятого. Я спрашиваю себя, может быть, Клаудия уже выглядывала из окна, когда я был в баре, и не увидела меня? Но даже если она меня и не увидела, она, конечно, заметила мою машину, и при первой же возможности выглянет еще. Здесь я спокоен: Клаудия мне верит. Я обещал ей совершенно серьезно, и она мне поверила. Опершись о машину, я оглядываюсь по сторонам: муниципальный полицейский, пакистанец моет лобовые стекла автомобилей, щебечут птицы, проехало несколько машин, идут два-три пешехода, парочка целуется на лавочке в скверике. Как и вчера удивительное, буколическое спокойствие в этой точке земного шара ободряет меня, вселяет уверенность в своих силах, хотя я все еще ощущаю неясное смятение, или точнее отголоски смятения: какое-то смутное волнение поднимается из глубины души, подобно тому, как я слышу шум движения на дороге подо мной, шумы долетают сюда, наверх, приглушенными, мягкими, как бы издалека, но не слишком уж издалека. Спокойный хаос, думаю я: такой же хаос вчера вечером ощущали у себя внутри все родители, приехавшие забрать детей из школы, такой же хаос царит в душе каждого ребенка, в каком бы уголке нашей планеты он ни жил. Только сейчас я так думаю по отношению к себе, к патовой ситуации, что по-прежнему оберегает меня от горя, хотя все, буквально все считают, что я пребываю в его власти, но пока что это не так. Спокойный хаос, вот что я ощущаю внутри. Да. Спокойный хаос.
Парочка на скамейке все еще блаженно целуется. Интересно, в котором часу начинается перемена?
6
Список девушек, которых я поцеловал:
Лара; Катерина; Патриция; Сильвия; Микела, француженка, любительница кемпингов; немка, тоже в кемпинге, Джудитта; Лаура; Лучия; Габриелла; Кристина; Марина; Луиза; Бетти; Антонелла; Моника; Николетта; Амелия из Кальяри; Паола; Беатриче; Дария; Леопольдина; Соня; пранотерапевт, подруга Сони; Барбара; Ева; Сильвия 2; Антонелла 2; Элеонора; Изабелль, немка, живущая в Париже; Александра; Марчелла; Даниела; Изабелла; Кармен; Лаура 2; Аннализа; Марта; Анжелика; Бета; Мария; Грация; Миа; Клаудия; Фил; Патти; Сандра; Киара; Патрисия; Валентина.
Пятьдесят две. Я поцеловал пятьдесят две девушки. Девушки, не женщины, почти все они были у меня до Лары, еще в молодости, когда я был холостым. Почти все. Нет, Ларе я не был безупречно верен; вот было бы здорово сейчас сказать, что я ни разу ей не изменил, что, когда был с ней, даже не поцеловал другую, но это не так. Я ей изменял. Со сколькими, это не важно, впрочем, с немногими. Тем не менее, даже сам факт, что я ей изменял, теперь уже не имеет никакого значения. Важно то, что я составлял этот список, ныряя в пучину своей памяти, и меня это не тревожило и сейчас нисколько не угнетает. Никакой боли, пока я составлял его, и пересчитывая в эту минуту их имена, я совсем неплохо себя чувствую. Пятьдесят две. Интересно, сколько же девушек мог поцеловать вон тот полицейский? Или, например, пакистанец, что моет сейчас стекло автомобиля?
И все же, несмотря на все приложенные мной усилия, чтобы выудить эти имена из своего прошлого, и на риск, вспоминая, получить обухом по голове, этих поцелуев больше нет, как нет больше и Лары. Эти поцелуи просто не существуют. Они превратились в ничто. От большинства из них не осталось даже воспоминания о том, каким был поцелуй. Однако они были, но сейчас мне, может быть, не хочется вспоминать об этом. Когда я целовал тех девушек, меня, конечно же, обуревали самые разные эмоции, сердце бешено стучало в груди, и мне было хорошо, однако от этого ничего не осталось, ничего, кроме этого солидного числа, что свело их воедино в краткую последовательность из четырех слогов и пробудило воспоминания обо всех них сразу, всех-всех, так что может создаться впечатление, что я прожил жизнь полную любви и страсти. Этот список мне очень дорог, хотя, в общем-то, и он ничего из себя не представляет. Тем не менее, это большое число, получить такое число под силу только привилегированным. И, конечно же, этим можно гордиться, например, сидя у стойки бара в Лорентеджо [13]13
Деловой район в Милане.
[Закрыть], когда в два часа ночи ты уже пьян в стельку, можно попытаться удержать последнего клиента, который уже платит по счету, затеять с ним разговор и похвастаться: «Погоди, друг! Знаешь, я поцеловал пятьдесят две девушки». – «Замечательно. Ну, что? Я пошел, что ли?»
– Пьетро!
Жан-Клод. Я узнал его по голосу еще до того, как повернулся в его сторону и увидел. Больше всего меня поразило то, что в этот утренний час приехал сюда именно он; он, кто никогда не появляется в офисе раньше одиннадцати часов утра. Я узнал его трассированное «р» и режущий слух голос, который ни с каким другим спутать невозможно. Я тут же оглядываюсь и вижу его. Жан-Клод.
Он идет мне навстречу. Без пиджака, шагает не спеша, улыбается. За ним я разглядел его серую «Альфу»: президентская машина припаркована неподалеку от скверика, и шофер, Лино, сидит за рулем. Вот это да! Какая странная картина: самый влиятельный из людей, которых я знаю, и, конечно же, самый замечательный из всех, самый гениальный, самый независимый, идет мне навстречу во дворе школы моей дочери и улыбается. Зачем он пожаловал? Ведь он же, в конце концов, мой начальник. Он мог бы мне приказать вернуться в офис. Он может уволить меня. Я закрываю записную книжку со списком девушек, которых поцеловал, и украдкой бросаю ее на сиденье машины, я вдруг испугался, что он может отругать меня.
Мы пожимаем друг другу руку. Как дела, смотри какой выдался славный денек, в этом году лето что-то затянулось, сейчас бы к морю… Свои соболезнования он мне выразил уже не один раз при других обстоятельствах, был на похоронах, прислал прекрасный венок, и именно он посоветовал мне подождать с возвращением на работу, пока у меня не переболит, пока я не преодолею свой кризис.
– Как здесь хорошо, – говорит он, глядя по сторонам. Потом любуется суровой красотой здания школы. – Эта?
– Да, – подтверждаю я, – класс Клаудии там, на третьем этаже, третье окно слева. – И я показываю ему ее окно.
Жан-Клод поднимает глаза и пристально смотрит на него, нет, он пришел не для того чтобы увезти меня в офис. Я смотрю на него, на его седую, шалую бородищу, растрепанную и длинную, как у Бин Ладена, – иначе как сенсационной эту достопримечательность его физиономии не назовешь, его борода – это что-то вроде вызова условностям общества, в котором он не из тех, кто остается незаметным, словно он желает отвесить добрую пощечину всей Западной цивилизации. Увидев ее впервые, ты сначала растерян и инстинктивно настраиваешься против него, но потом почти сразу же эта борода вынуждает тебя, для твоего же блага, поискать какие-нибудь достоинства у ее обладателя – заметить красоту точеных черт лица, твердый взгляд голубых глаз человека, привыкшего повелевать, изящные манеры, элегантный костюм, сшитый у превосходного портного, изысканные мелочи, как, например, тантрическое обручальное кольцо – он женат на индианке – и старинные часы, украшающие его запястье. Один за другим ты обнаруживаешь эти качества, прикрытые бородой Талибана, и пока ты делаешь эти открытия, думаешь, какой же все-таки я конформист, сколько же у меня предрассудков: достаточно какой-нибудь чудной бороды, и я тут же настораживаюсь, а ведь все как раз наоборот, передо мной человек редкой породы, из благородных. И если кому-то удалось заставить тебя сделать такой вывод, то он уже завоевал твое доверие.
– А вон та, твоя дочь? – спрашивает он. Я поднимаю глаза и между неожиданно распахнувшимися створками окна вижу какую-то головку.
Бум-бум – сердце подскочило к горлу. Да. Это Клаудия. Хотя отсюда ее узнать трудно: ее головка, такая маленькая, слишком высоко, она утонула в густой тени громады архаического карниза, нависающего над окном.
– Да.
Это Клаудия, она машет мне рукой. Бум-бум. И я машу ей в ответ. Ну, конечно же, она улыбается, хотя отсюда не видно, и эта ее невидимая улыбка меня растрогала. Я еще слаб, слишком слаб, если из-за такого пустяка способен расчувствоваться. Нет, Жан-Клод, рано мне еще в офис. И он ее приветствует. Этим летом он приезжал к нам на море вместе женой и подарил Клаудии абсолютно фантастическую лодку.
– Мой отец был летчиком, он летал на истребителе, – говорит он. – И, возможно, он был агентом секретной службы. Его никогда не бывало дома. Он ни разу не пришел забрать меня из школы, ни разу.
Французский акцент сильно облагораживает его резкий выговор, смягчает тембр его голоса. И это тоже его достоинство. Клаудия все еще выглядывает из окна, а вот рядом с ней появилась какая-то девочка, отсюда мне ее не узнать. Я смотрю на часы: десять тридцать пять. Значит, перемена начинается в пол-одиннадцатого. Мы снова машем друг другу рукой.
– Как она? – спрашивает у меня Жан-Клод.
– Нормально, – отвечаю я. – Не понимаю, как это ей удается, но с ней все хорошо.
– А-а, послушай, Аннализа передала для тебя документы на подпись, – говорит он. – Они в машине.
Меня разбирает смех: какая странная штука жизнь. Ты думаешь, что знаешь людей, а потом случается такое, что по твоему разумению никогда не могло бы произойти. Да как же такое только могло случиться? Где она могла набраться наглости, эта Аннализа, чтобы передать с президентом, раз уж он собрался ко мне, какие-то там бумаженции на подпись?
– У меня забрали самлет, – вдруг заговорил Жан-Клод. Ему никак не удается произнести слово «самолет». Самлет– единственный изъян в его итальянском. Хотя, возможно, он просто привык так говорить.
Я смотрю на него, он улыбается, но по нему видно, что он сообщил мне ужасную вещь. Слегка дует ветерок, просто абсурд какой-то, будто мы не в Милане, а в Смирне или на Роди, или в Танжере, ветерок поигрывает волосами у него на висках и кончиком его бороды.
– Как это забрали?
– Забрали и все. Постановление из Парижа. Я не могу больше летать самлетомкомпании.
Клаудия в последний раз машет мне рукой и исчезает, окно закрывается. В скверике больше никого нет, парочка, что целовалась на скамейке, исчезла. Все скамейки пусты.
– Пойдем, присядем? – предлагаю я, Жан-Клод кивает. Мы проходим мимо его машины, Лино читает «Спортивную газету». Он поднимает глаза и видит меня, здоровается, возвращается к чтению. Он классный шофер. Болельщик «Ювентуса».
Усевшись на скамейку, Жан-Клод зажигает сигарету «Житан», удобно откидывается на спинку и глубоко затягивается. Я тоже зажигаю сигарету. Откуда-то издалека ветер доносит музыку, кажется, это песня «Кукуррукуку, голубка».
– Почему у тебя его забрали?
Жан-Клод разражается смешком.
– Урезают бюджет…
Ahiahiahiahiahi, cantaba… Айяйяйяйяй, она пела…
– Знаешь, что это значит? – добавляет он.
– Думаю, нет.
– Это значит, что со мной завязали, Пьетро.
De pasiyn mortal, morna…От смертельной страсти умирала…
– Так уж и завязали. Не преувеличивай, пожалуйста. Ведь это все лишь самолет…
Я произношу эти слова просто так, лишь бы что-нибудь скачать, и не отдаю себе отчет в том, насколько абсурдно они звучат. Такие люди, как Жан-Клод, взлетели слишком высоко и слишком давно они вкушают прелести сладкой жизни высшего общества. Уже одно это должно бы служить ему утешением, по крайней мере, он бы мог и не страдать так искренне и так жестоко от мысли, что отныне ему придется стоять в очереди у стойки в аэропорту, чтобы зарегистрироваться. Несмотря на то, что кому-то его переживания могут показаться гнусными, по сравнению с тем, из-за чего горюют другие, Жан-Клод сейчас страдает, как собака, он просто убит горем: ведь ему ясен смысл постановления – завтра он может получить другое, в котором его обяжут перед очередным заседанием Правления сбрить бороду. Но в большей степени, он страдает оттого, что уже привык летать на личном самлете, ему страшно нравилось возить с собой пассажиров и на некоторых участках пути самому управлять самолетом, командир экипажа садился с ним рядом и хвалил его: «Молодец!» Я дважды летал с ним, и дважды самолет пилотировал Жан-Клод, поэтому сейчас, когда я узнал, что его отец был летчиком, этот факт обретает, естественно, более глубокий смысл, но даже если бы это было не так, – хотя все же это так, потому что за всеми удовлетворениями, которые только люди могут получить от жизни, всегда стоит фигура отца, – даже если бы речь шла всего лишь о какой-то суперигрушке суперменеджера, как полагал я, то, что они ее у него отобрали так неожиданно, цап и все, когда он уже свыкся с мыслью, что самолет принадлежит ему, должно быть, породило в его душе такую же дикую, невыносимую боль, какую всякий раз испытывает мой племянник Джованни, когда Клаудия вырывает у него из рук игру «Game-boy». С той лишь разницей, что такой человек, как Жан-Клод, победитель по своей натуре, не может послать по факсу в Париж ответ: «Prendez garde à moi, car je suis sage!» [14]14
Поосторожнее co мной, я ведь не дурак! (фр.).
[Закрыть]
Cucurrucucu, paloma… Кукуррукуку, голубка…
– Правда. Это всего лишь самлет. А знаешь, кто подписал постановление?
– Терри?
– Oui [15]15
Да (фр.).
[Закрыть].
Cucurruccucu, no llores… Кукуррукуку, не плачь…
– Да-а-а… А куда ему было деваться? Он же вынужден был его подписать, ведь так?
– Нет. Подписать мог и Боэссон. Он, если хочешь знать, мог даже ни о чем и не подозревать… – Жан-Клод глубоко затянулся сигаретой, а потом медленно-медленно стал выпускать дым и добавил: – Он меня предал.
– А вы с Терри разве уже не поссорились? – спрашиваю я. – Разве в глубине души ты не был к этому готов?
Жан-Клод не отвечает. Он долго и внимательно разглядывает окурок, как будто раздумывая, стоит сделать последнюю затяжку или нет, а потом отбрасывает его в сторону.
Тишина.
De pasión mortal, moria… От смертельной страсти она умирала…
Ах, да. Тициана. Она была старше меня. Один раз мы уже целовались на кровати у нее дома, как вдруг ей кто-то звонит: ее дочке плохо, и она тут же убежала. Тициана. Пятьдесят три.
– Он меня предал… – повторил Жан-Клод.
7
– У нас с ним был договор, Пьетро. Тайный договор. С самого начала, когда только еще Боэссон стал об этом заговаривать, Терри был против слияния, и я тоже. И Терри сразу же догадался, что на карту были поставлены и наше прошлое, и наша страсть, и наша свобода, словом, все. Это было всего лишь год назад, подумать только. Мы вместе поужинали в ресторанчике «У Тони» в Венеции, я там как раз был на кинофестивале. В ресторан мы пошли тайком, только он и я, никто ничего не знал. В тот день была годовщина моей свадьбы, со мной в Венеции была и Элеганс, и в ресторан-то в тот день должны были пойти мы с ней, чтобы отпраздновать это событие. Но Терри мне позвонил из Парижа и сказал, что через два часа он будет «У Тони» и чтобы я приходил один и никому ничего не говорил, что есть очень важный разговор… Я сразу понял, что случилось что-то серьезное, потому что я знал, что в тот день в Париже было заседание Правления, я на него не поехал. Я сказал Эли, что наш ужин откладывается на завтра, и ушел. Я ей ничего не сказал о Терри, потому что у нас с ним так было заведено: у меня на первом месте всегда был он, а у него – я. Я ждал его «У Тони», сидя за столиком под деревьями, пил местное белое игристое вино и любовался профилем венецианских дворцов на фоне пурпурно-красного неба, такого неба я никогда раньше не видывал, клянусь, даже в Африке. Я был взволнован, Пьетро. Взволнован и счастлив. Я думал о том, сколько совместных дел нас связывало, меня и Терри, сколько невероятных побед было на нашем счету, мы побеждали вопреки всем предсказаниям, вопреки логике, с тех пор как нас стали презрительно называть аутсайдерами; я думал, как мне повезло в жизни, если мой лучший друг едет ко мне, чтобы обсудить со мной очень важный вопрос, ты понимаешь меня? Этот вопрос и вправду был важный, но не только для нас обоих, это был вопрос чрезвычайной важности и для экономики нашей страны, и для биржи, и для политики, этот вопрос обязательно должен был попасть на первые полосы газет. Что же было в этом такого особенного, задавал я себе вопрос, почему это, от этого и жизнь мне кажется такой прекрасной? Во всем мире каждый день столько суперменеджеров идут вместе в ресторан, чтобы за ужином решать вопросы чрезвычайной важности. Что же было такого уникального в моем случае? Дружба, Пьетро. Никто из тех менеджеров не дружит со своим соседом по столику, более того, зачастую он его просто ненавидит. А посему во время ужина он не пьет, не любуется прекрасным видом из окна, даже не ест, а только делает вид. Слушает, сомневается, вычисляет, разговаривает. Это машина. Он ему не доверяет, а значит и расслабиться не может, у него не должно быть никаких чувств, он должен бороться и в ресторане, бороться везде и всегда. Именно поэтому у него никудышная жизнь. Я же собирался поужинать со своим другом и наслаждался ночным бризом, любовался панорамой, попивая винцо, я ждал, когда он придет и расскажет мне о своем важнейшем деле, и жизнь казалась мне прекрасной.
Потом пришел он, он был подавлен и уже порядком одуревший, я так думаю, он время от времени все еще понюхивает, и сразу же, понимаешь, сразу же мне и говорит, что слияние нужно провалить. Он это сказал еще до того, как рассказал мне, что в тот день на заседании Правления Боэссон говорил о слиянии с американцами, он сказал: «Jean-Claude, la fusion jamais!» [16]16
Жан-Клод, слиянию никогда не быть! (фр.).
[Закрыть], и мне даже пришлось у него спросить: «Какое слияние?», потому что до этого дня никому бы и в голову не пришло, что Боэссон страдал манией величия. Терри был искренен, в тот вечер; конечно же, он был порядком обглюченный, экзальтирован, но все равно он был искренен…
Ему, конечно же, не пришлось напрягаться, чтобы убедить меня: я ненавижу Боэссона и ненавижу всех из «ЭНАРК», я ненавижу американцев, так что, можешь себе представить. И тогда-то мы с ним и решили: или мы не допустим слияние, или оба, Пьетро, оба отправимся рубить дрова во дворе наших домов в Аспене [17]17
Популярный горнолыжный курорт в Америке.
[Закрыть]. Нам вместе ничего не стоило провалить слияние: он командовал в Париже, я – в Италии и Международной компанией тоже; он был номер один, а я – номер два. Объединив все компании группы, Боэссон тем самым поимел бы нашу. Другие компании – нет, другие были без души, как почти все компании в мире, простые машины для добычи денег, для выжимания соков из вкладчиков, для создания стоимости. У нашей же компании была душа; это была наша душа, и, конечно же, ее нельзя было ни с чем слить. Безусловно, Боэссон возместил бы нам наши убытки, и после слияния дал бы нам президентское кресло в какой-нибудь многонациональной компании-производителе косметических средств или спиртных напитков, или отправил бы нас в Голливуд, ах-ах, преподавать американцам киноискусство…, но тем самым он бы навеки погубил нашу душу. И тогда мы с Терри договорились. «Слияния не будет!» – сказали мы. Оба мы были не в себе, на взводе: я от выпитого вина, а он до одури нанюхался колумбийского кокаина, вот почему этот договор мы подписали кровью. Ты только представь себе такую картину: два француза, baby-boomers [18]18
Человек, рожденный в период демографического взрыва между 1946–1964 годами (англ.).
[Закрыть], сидят себе преспокойненько за столиком в ресторанчике «У Тони», вдруг ни с того ни с сего ножом Тони режут себе ладони и в рукопожатии смешивают кровь, а потом поднимают бокалы с молодым вином Тони: «Слиянию – нет!» Вот что тогда произошло. Вот так мы с ним заключили наше соглашение.
Слияния не будет! Но было бы неблагоразумно, если бы мы оба сразу начали выступать против, а поэтому мы решили, что впредь нам выгодно играть в доброго и злого полицейского: он – добрый с Боэссоном, а я – злой. Значит именно я с самого начала должен был заявить свое несогласие по поводу слияния, я так и сделал, а потом всем и каждому говорил об этом открыто, в лицо, я заявлял об этом в интервью, на заседаниях Правления, словом, везде, а он должен был вести более гибкую политику, допускающую компромиссы, должен был взять на себя роль посредника. С этого вечера начались наши с ним дискуссии в присутствии Боэссона и даже на публике. Мы никогда не шли друг на друга войной, но тем не менее полемизировали друг с другом. Наша задача была создать у этого сукиного сына впечатление, что между нами нет согласия, что les temps des outsiders c'étaient finis [19]19
Время аутсайдеров миновало (фр.).
[Закрыть]. Ho мы только притворялись, понимаешь, Пьетро? Это была простая симуляция. На самом же деле, мы оба работали только для того, чтобы наколоть Боэссона. Мы оба прекрасно понимали, Пьетро, что слияние таких размеров могло породить очень слабого бога, то есть Боэссона, и целую армию разочарованных, униженных, переведенных, уволенных людей, мы сознавали, что когда на бирже объявят об этом, эта новость повысит стоимость акций, но потом обесценит и сведет до нуля качество производства компаний-участниц концерна, и, в конце концов, все закончится крахом. Мы знали об этом, потому что много таких примеров повидали, а зачастую мы с ним даже сами использовали подобные ситуации.
Итак, мы притворялись, что у нас разные мнения по этому вопросу, но давали понять, что наши разногласия можно урегулировать, а сами продолжали тайком встречаться в Милане, в Лондоне, но чаще всего в Венеции, чтобы обменяться мнениями по текущей ситуации. И все шло своим чередом, потому что, как мы и предполагали, сразу за объявлением последовала всеобщая эйфория и крупные выигрыши на бирже, но потом, когда американцы стали подбираться с переговорами об условиях, у Боэссона начались проблемы. Он должен был иметь дело со Штайнером, понимаешь, настоящей акулой, владельцемв полном смысле этого слова, а что такое Боэссон? – Боэссон только контролирует, ему ничего не принадлежит. И как бы Боэссону не казалось, что он выторговал выгодные условия, выиграл, как он выражается, слияние и стал Всевышним на земле, объективно в любой момент его могли выбросить вон, а вот акулу-то – нет. Во время наших тайных ужинов, когда все уже считали, что мы с Терри разошлись и не представляем собой силу, как тогда, когда были вместе все те двадцать лет, наша с Терри победа сидела с нами за столиком, и наша победа заключалась в том, что нам не нужно было больше расти, богатеть, подниматься еще на одну ступеньку выше, мы хотели оставаться самими собой, такими, какими мы были в то время: друзьями и богатыми и влиятельными людьми, и все же еще относительно маленькими. У нас было все, что нам было нужно, Пьетро. Не знаю, понимаешь ли ты, что я хочу этим сказать. В этом мире такое не часто случается: люди борются и либо выигрывают, либо проигрывают, но никогда и никто не чувствует, что у него все в меру, в том смысле, что редко удается добиться золотой середины, потому что всегда чего-то больше, а чего-то меньше. А у нас с Терри на этот раз все было в самый раз. Мы смеялись над Боэссоном, воображая себе, что в один прекрасный день все это для него плохо кончится, достаточно простой неблагоприятной политической конъюнктуры или запрета Антимонопольного комитета, и вся затея со слиянием полетит к чертовой матери, тогда-то он и поймет, что он окружен и побежден. Мы смеялись, Пьетро, представляя себе тот день, когда Правление постановлением за подписью Терри отберет у Боэссона самлет, и он поймет…
Все так и продолжалось до весны прошлого года. Потом мы с Терри перестали встречаться, то он не мог, то у меня не получалось, и наши подпольные ужины прекратились. Я не придал этому серьезного значения, хотя сейчас понимаю, каким я был идиотом, как же это так, дурак я дурак, сразу не догадался, что же на самом деле происходило. Пока я спокойно жил и работал в Милане и действительно говорил то, что думал, в отличие от меня Терри каждый день общался с Боэссоном, и тот, должно быть, заразил его своей манией величия. Он так долго находился рядом с человеком, который считал себя Всевышним на земле, что он тоже почувствовал себя богом, может быть, не настоящим богом, но, скажем, одним из богов, который что бы ни делал, становится праведным. И он меня предал. И сообщил он мне об этом только тогда, когда был абсолютно уверен, что обратной дороги нет, но он не сказал мне это в открытую, с глазу на глаз, или хотя бы на заседании Правления, нет. Он просто лишил меня самлета.
Сейчас я даже не сомневаюсь, что это слияние произойдет, и меня, за то, что я с самого начала был против, выгонят вон, а для всех вас начинается период паранойи, прямо как в трагедиях у Шекспира. Кругом головы полетят только так, другие сами по себе обломаются, и у всех появится возможность совершить предательство, а тот, кто не предаст, будет предан. Разлучив Терри со мной, Боэссон довольно легко сможет от него отделаться, а когда он останется один, Штайнеру еще проще будет его слопать, он всегда так делал со всеми, кто отваживался плавать рядом с ним. Вот так, американцы высадятся в Европу благодаря французу, который хотел высадиться в Америке, и аутсайдеру, продавшему свою душу. Помяни мое слово, все случится именно так. Потребуются месяцы, а может быть, даже годы: все зависит от многих факторов, предсказать которые невозможно, но это случится обязательно. Это неизбежно, как и то, что горячий кофе в чашечке, оставленной на столе на кухне, остынет; ты не знаешь, сколько времени пройдет, но точно знаешь, что наступит момент, когда температура кофе понизится до температуры чашки, потом стола и кухни…
А что до меня, то больше никаких дел, потому что, по правде говоря, что бы я ни делал, я тем самым только облегчил бы им задачу. Я остановлюсь и подожду, пока что я буду по-прежнему появляться на небосводе, как далекая-далекая звезда, что уже потухла, но излученный ею свет все еще в пути. Впредь моим стилем работы станет не работать, не общаться станет моим стилем общаться, и ты поступай так же, Пьетро. Оставайся здесь. Оставайся здесь как можно дольше.
8
Я так и сделал. Я остался здесь. В конце концов, Жан-Клод все еще мой начальник, даже если его и лишили самлета, даже если скорее всего его и выгонят, он все еще мой начальник. Значит, можно взглянуть на это и так: пока его бородатая голова, слетев с плеч, кубарем не покатится по страницам экономических газет, я буду поступать так, как велит Жан-Клод. Он мне сказал: «Оставайся здесь», и я повиновался. Я остался у школы.
Вот уже десять дней, как с восьми утра и до полпятого вечера я нахожусь здесь, и я не вижу в этом ничего сверхъестественного, наоборот, все очень даже нормально. Просто у меня такое ощущение, что здесь мне лучше, чем в любом другом месте. Клаудия довольна, она немного ошарашена, но все равно довольна. Она не отвлекается на уроках, не смотрит поминутно в окно, но по возможности выглядывает на улицу помахать мне рукой. Когда после уроков она выходит из школы, мы едем домой и даже не разговариваем об этом. На эту тему я поговорил с ней один раз, и ей этого было достаточно: «Звездочка моя, – сказал я, – я решил побыть у твоей школы еще какое-то время, мне так нужно, и Жан-Клод не возражает». Склонив голову набок, она поразмыслила немного над моими словами, а потом спросила: «А если дождь пойдет?» «А когда пойдет дождь, – ответил я, – я буду сидеть в машине. У меня здесь есть все, что мне нужно для работы». Она улыбнулась. Точка. Это было шесть дней тому назад.
В самом деле, уже два дня идет дождь. Лето кончилось неожиданно, температура упала, а красота в этой точке планеты как бы сама по себе растворилась. Только не для меня. Я заложил бумагу в факс, оделся потеплее, купил себе красивый зонт и остался сидеть перед школой. Я наблюдал, как вступающая в свои права осень изменила все вокруг в худшую сторону, но мне все равно было хорошо. Я немного поработал, делал то, что еще можно было сделать в уже парализованной компании: принимал посетителей в машине или в кафе неподалеку, подписывал контракты. Повторяю, на словах такое положение вещей может показаться чем-то необычным, но на деле это не так. Это касается только меня и моей дочери. У меня появилось желание, и я каждый день его осуществляю. В жизни у меня было немного случаев, когда какое-нибудь мое желание настолько захватывало меня, когда я испытывал такое чувство удовлетворения, – да ладно, чего уж там, я и в этом признаюсь – и был настолько возбужден оттого, что оно осуществлялось: каждое утро ты выходишь из дома уже взбудораженный любопытством (хорошо бы, чтобы вот такое любопытство появлялось всегда, но в действительности оно не возникает никогда), ты хочешь знать, какие же вариации будут на тему, которую в это утро ты решил задать своему дню. Уже само по себе это очень приятное ощущение, и даже одного этого было бы достаточно, чтобы оставаться здесь. А если я сравниваю свои ощущения с теми, которые я в связи с небезызвестными обстоятельствами, по-видимому, мог бы испытывать в офисе, я чувствую, что со мной произошло какое-то чудо. Я должен был страдать: неожиданно огромный палец уперся мне в грудь, и громовой голос произнес: «Ты, Пьетро Паладини, страдай!» А я вот и не страдаю, и более того, я ухитряюсь все время быть рядом со своей дочерью, потому что так хочу, и меня вовсе не интересует, какой еще там бардак ежедневно парит мозги моим коллегам; у меня хватает сил вспоминать и составлять свои списки, наблюдать за прохожими, возвращаться домой и смотреть телевизор, спать и есть, и все, как раньше, и если это не чудо, то что-то очень на него похожее. Тем не менее, у меня нет угрызений совести. Моя жена умерла, а я не горюю. Не знаю, сколько продлится такая ситуация, но пока что это так: я не страдаю, и виноватым себя из-за этого не чувствую.








![Книга Даниель Деронда [старая орфография] автора Джордж Элиот](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-daniel-deronda-staraya-orfografiya-74984.jpg)