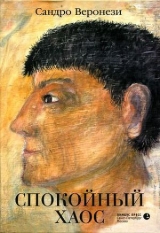
Текст книги "Спокойный хаос"
Автор книги: Сандро Веронези
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
– Психолог что говорит?
– А что она может сказать? Говорит: пусть себе считает, что не надо обращать внимания, не надо внушать ему чувство вины, говорит, что мы, родители, должны по возможности сглаживать острые углы в наших отношениях, потому что, по ее мнению, именно наш конфликт он и не в состоянии принять, поэтому-то она и хотела поговорить с нами вместе и по отдельности. Так вот, позавчера, когда я остался с ней наедине, я рассказал все про Франческу, чтобы она осознала, в какой жуткой ситуации мне приходится жить, я хотел спросить у нее, что означает…
Ничего, просто ничего нельзя поделать: Пике намерен говорить только о Франческе. Сколько бы я ни старался направить наш разговор в другое русло, то есть поговорить с ним о его ребенке, он всегда находит зацепку, чтобы вывернуться и снова свернуть на Франческу. Бедный Саверио может считать хоть до миллиарда, но внимание этого типа ему не завоевать…
– …все эти вещи она говорит мне. Она придумала этот способ, чтобы выказать мне свою агрессивность – эта ее агрессивность пугает и ее саму, она ее отторгает, она старается подавить ее – чтобы посмотреть, как к этому отношусь я, не приму ли эту ее агрессивность, по крайней мере, я.
– Ты имеешь в виду Франческу?
– Да.
– А зачем ей это?
– Чтобы испытать меня. Чтобы понять, люблю ли я ее по-настоящему.
Неожиданно, даже не взглянув на часы, он решает, что уже поздно, берет в руки чек, мельком бросает на него взгляд и кидает на стол две монеты в два евро.
– У нее это от неуверенности, – добавляет он, – она боится потерять меня.
– Тебе это психолог сказала?
– Да, то есть нет, по правде говоря, психолог только задавала мне вопросы и слушала. Но, отвечая на ее вопросы, я понял, что Франческа меня испытывает, понимаешь? Она хочет знать, приму ли я ту ее часть, которую она отвергает. Я это понял и сказал психологу, а она мне ничего не возразила, значит…
Он старательно приглаживает волосы и, страшно щелкая суставами, встает на ноги. Я тоже поднимаюсь, а он уже идет к школе.
– Эй, твоя тетрадка… – кричу я ему вслед.
Он останавливается, смотрит на меня, потом переводит взгляд на черную тетрадку, оставшуюся лежать на столе.
– О-ой! – восклицает он и, в два прыжка добравшись до нашего столика, хватает тетрадку. Подошла официантка, она забирает деньги и убирает со стола. Пике словно не замечает ее, я прощаюсь с ней, ведь и с ней я уже успел познакомиться. И ее зовут Клаудия. Однажды она у меня спросила, не могу ли я ей посоветовать какую-нибудь хорошую школу актерского мастерства.
– Не хватало еще потерять ее, – говорит Пике, запихивая тетрадку в задний карман джинсов.
– Это психолог тебе посоветовала записывать все, что она говорит? – спрашиваю я.
– Нет, это моя идея.
– А зачем тебе это?
Он снова шагает к школе, а я иду позади него.
– Пьетро, Франческа больна, – произносит он мрачным тоном. – Пока она даже говорить об этом не желает, но рано или поздно ей придется лечиться. Когда она решится на лечение, все, что записано в этой тетрадке, очень даже пригодится.
На школьном дворе в этот час нет ни души. Грузчики уже уехали, муниципальный полицейский тоже ушел. Я посмотрел на окно мужчины, который называл меня доктором, оно закрыто. Только «СЗ», дважды побитая, осталась на прежнем месте поблескивать на солнце металлическими частями, теперь уже только с одним ответчиком за причиненный ей ущерб.
– Я ведь и не собираюсь сдаваться, – снова начинает свою песню Пике. – Она меня испытывает, но и я не хочу ее потерять только из-за того, что я недостаточно силен, чтобы выдержать это испытание. Я найду в себе силы. Притворюсь, что ничего особенного не происходит, она будет взрывать свои бомбы, а я даже глазом не моргну. «Ты – просто мерзкая дрянь», «Что ты сказала?», «Что ты в отличной форме» – что, так уж это и трудно? Теперь я ко всему готов, я понял принцип действия этого механизма. Это всего лишь болезнь, такая же болезнь, как если бы она страдала недержанием, но ведь я ее люблю, я жить не могу без нее… Да страдай она хоть недержанием, отказываясь признать это, я научусь менять ей белье так, что она даже не замет… – он обрывает свою фразу на полуслове, словно придавленный тяжеловесным согласованием времен – …научусь не обращать на это внимания.
Он останавливается и брелком отключает сигнализацию своей машины. Огромный «Мерседес»-внедорожник, припаркованный перед сквериком, отвечает отрывистым и скрипучим бип– совсем непохожим на сигнал моей машины. Что бы подумал об этом Маттео?
– А пока что, – подводит итоги Пике, – я жду, когда она надумает лечиться. А я всегда буду с ней рядом, буду ее защищать, да, я буду ее прикрывать, когда она станет взрывать свои бомбы перед посторонними, буду делать вид, что ничего не происходит, буду улыбаться, как она, и люди будут практически вынуждены думать, что это они ослышались. А что еще надо?
Он смотрит на меня, улыбается. На его лице, буквально у меня на глазах, появляется явно выраженное облегчение, согревающее и успокаивающее его, как будто после того, как он сформулировал свои последние намерения, его проблема вдруг исчезла. Але гоп! В течение получаса прямо у меня на глазах под давлением невыносимо тяжелой ноши он оседал все ниже и ниже, а сейчас простым решением покориться обстоятельствам он уже разрешил все свои проблемы.
– А что еще надо? – повторяет он.
– Ничего, – отвечаю я. Если не считать того, что, по-моему, такой поворот событий не вызовет у Франчески большого энтузиазма.
– Ну, я побежал. Купил ноутбук – просто бомба – прямо на фабрике в Тайване, и мне нужно его забрать у курьера DHL: эти придурки прислали его на дом, я же им написал, чтобы они прислали мне его в офис, я ясно это им написал на бланке покупки, ведь меня никогда нет дома, а им хоть бы хны – они присылают мне его на домашний адрес. Посылка вернулась на склад курьера, и мне теперь нужно пойти забрать ее.
Я думаю, чем могу ему помочь? На месте его психолога я бы посоветовал ему заняться здоровьем, пройти какой-нибудь курс лечения. На месте его жены я бы попросил судью произвести освидетельствование его психического состояния или подвергнуть его принудительному лечению. На месте Еноха я бы взял его с собой в Африку…
– По крайней мере, сегодня утром мне не надо идти в офис. Чем меньше времени я сижу в клетке с теми еще психами, тем лучше себя чувствую. Ситуация у нас там ухудшается с каждым днем. Становится все хуже и хуже. Хуже и хуже…
А если бы вдруг я стал его начальником, президентом, если бы я принял гнилое предложение Терри, и, продолжая находиться здесь, приступил бы к исполнению своих обязанностей, я бы мог уволить его, посулив ему кругленькую сумму в качестве компенсации за увольнение по собственному желанию, которая вместе с прочими выплатами составила бы достаточную цифру, чтобы он успел упасть лицом в землю и медленно-медленно встать на ноги, чтобы не допустить, что в будущем его выгонят с работы из-за серьезных нарушений и обрекут на нищенское существование.
– Пока, Пьетро, и спасибо за совет.
Какой совет?
– Пока.
Но ведь это я ходячий труп, хитрожопый, который всех подсирает; поэтому, что бы я ни сделал, чтобы остановить его, он немедленно решит, что я это делаю, пытаясь надуть его. Он уже заводит мотор – вру-у-ум, газанула машина, – опускает боковое стекло, машет мне рукой: прощальный привет, и выезжает со стоянки, едва не задев мусорный ящик. Нет, я ничем не могу ему помочь. Он включает сигнальную стрелку – поворот – и выезжает на проспект. Интересно, до какого числа успел досчитать его сын?
27
Плачет и всхлипывает эта женщина у меня на груди…
А со скамеечки неподалеку Иоланда смотрит на нас: ее распирает от любопытства. Да что она себе позволяет? Может быть, она ведет себя так потому, что уже видела, как я обнимал невероятное с точки зрения статистики число людей: Жан-Клода, Марту, Карло, Еноха, Терри. Кто, черт возьми, он такой, задает, наверное, она вопрос, этот Мужик, Что Со Всеми Обнимается? Хотя, может быть, мое поведение дает ей право так бесцеремонно удовлетворять свое любопытство: женщина, заливаясь слезами, обнимает меня, а я застыл как истукан. Со стороны, наверное, это смешно, но я действительно не знаю, что мне делать. Я просто не в состоянии вести себя естественно…
Женщина все еще всхлипывает.
Дело в том, что с первого взгляда я ее не узнал. Наверное, это плохо, но когда я поднял от записной книжки глаза, услышав, что кто-то меня зовет по имени, она была передо мной: я сидел на скамейке, она стояла рядом, и я увидел только ее сиськи – они с таким нахальством вздымали ей жакет, что в то мгновение мне показалось, что это именно они позвали меня. Только когда я встал на ноги, я смог осознать, какое дикое потрясение застыло в ее глазах. Тогда-то я и узнал ее. Точнее узнал голубизну ее глаз, а ведь раньше я думал, что больше никогда в жизни мне не доведется увидеть глаза такого цвета, потому что тогда я полагал, что водянистая с поволокой голубизна появилась в ее взгляде только в то памятное утро на закате лета, когда она тонула у своих детей на глазах, оказалось, что это естественный цвет. Да я и слова-то не успел сказать, как эта женщина тут же упала мне на грудь и разрыдалась, да так и осталась в таком положении, словно приклеилась ко мне. Вот так все и произошло. Вот почему мне трудно вести себя естественно, и в моем бездействии тоже естественного маловато, скорее даже, это самое неестественное поведение, какое только может быть, и если эта женщина быстренько не отстранится от меня, мне поневоле придется что-то предпринять.
Женщина не отстранилась. Иоланда по-прежнему смотрит на нас, а женщина не отстраняется…
Очень легкими прикосновениями я начинаю ее поглаживать, стараясь отстраниться от нее как можно дальше, чтобы избежать настоящего физического контакта: я не могу избавиться от воспоминания о том, что со мной случилось в море. Никаких прикосновений к шее, к волосам, к бедрам или другим мягким и, более того, обнаженным частям ее тела, иначе податливое изобилие ее пышных телес матроны может вновь спровоцировать меня. Ее плечи. Они не обнажены; хоть они-то твердые; их-то я и поглаживаю едва ощутимым прикосновением руки, только чтобы заявить о себе. Серьезно, менее ощутимо просто уже невозможно прикасаться к женщине. Я почти не дышу, чтобы не вдыхать запах ее духов – в нем и море, и можжевельник, и даже что-то такое от карри – хотя мои ноздри едва улавливают тонкий аромат, я сознаю, что и эта доза для меня опасна. Пока она взахлеб рыдала у меня на груди, будто в самом этом плаче черпала энергию, необходимую для его же подпитки, я думал, что все эти ее эмоции слегка преувеличены, – согласен, я спас ей жизнь, и в тот момент, когда я спасал ее, гасла жизнь моей жены, этот факт, следуя романтической версии, развитой россказнями Карло во время великосветских приемов, и определил мое бездействие, приковавшее меня к этому месту на школьном дворе, что ж, все это вместе взятое очень даже может ее растрогать, но не до такой же степени– вдруг меня пронзило, как стрелой, открытие, касающееся непосредственно Карло: я догадался, что между тем, что два месяца назад он спас тонущую незнакомку, и тем, что двадцать лет назад он не мог предотвратить смерть девушки по имени Трейси, утонувшей в Темзе, о которой с тех самых пор думает днем и ночью, есть прямая связь; теперь это мое открытие проливает свет на порыв, с которым в тот день он рванул в воду на помощь утопающим, и меня за собой потащил, чего уж там греха таить, – инициатором-то спасения был он, нужно и это признать, я только побежал за ним вслед, – сейчас я понял, почему он будто катапультировался в воду, я это сделал, потому что так сделал он, но сейчас ясно, что он так поступил во имя того, чтобы больше никто в этом мире никогда не утонул, никогда больше, нигде, бедный мой братишка, – и все же, повторяю, пока я думал обо всем этом, что, казалось, должно было давно вытеснить из моего сознания плотские мысли, ведь и объятие наше, если и могло питать их, то самым минимальным образом, тем не менее, это опять со мной случилось. Эрекция. Опять мощная и дикая. Опять ее вызвало соприкосновение с этой женщиной, как будто моим тестостероном всегда распоряжалась только она.
Я скосил глаза в поисках Иоланды, а что, если она еще пялится на меня, на мое счастье, она больше не смотрит в нашу сторону, она ходит по дорожке кругами, донельзя поглощенная разговором по телефону: спина сгорблена, голова опущена, волосы падают ей на лицо и закрывают его, как занавесом, она что-то говорит с таким видом, как будто это ужасный секрет. Но зато на меня сейчас смотрит Неббия, конечно, своим шестым собачьим чувством он улавливает во мне флюиды животной природы, которая в эту минуту роднит нас. Еще поэтому мне абсолютно необходимо взять ситуацию в свои руки.
Как можно деликатнее я стараюсь высвободиться из объятий женщины. Она не противится, сама убирает руки с моих плеч и сразу опускает голову, но и с опущенной головой продолжает всхлипывать. У нее красивые светло-каштановые волосы, – это их натуральный цвет, – шелковистые и блестящие. Она хорошо одета: на ней черный брючный костюм, возможно, от Армани, а не майка и не джинсы в обтяжку, да и пупок ее тоже надежно прикрыт, на ней отличные брюки и легкий жакет, в такую жару так и должны бы одеваться все сорокалетние состоятельные женщины; надо сказать, что она невысокая и от талии вниз даже очень бесформенная и, что самое главное, мы больше не прикасаемся друг к другу; тем не менее, моя эрекция даже и не думает опадать. Проклятье, ее вымя – его так много, что я не могу на него не смотреть. Да что там говорить, ее сиськи точно искусственные, наверное, она сделала пластическую операцию, иначе в ее-то возрасте разве была бы у них такая консистенция – насколько бы в прошлом ни была к ней щедра мать-природа, но со временем эту консистенцию она наверняка бы у нее отобрала…
Она поднимает голову, медленно, робко; лицо ее, все еще вздрагивающее от всхлипов, светлое и широкое, усыпано веснушками; это типично флорентийское лицо, она похожа на женщин эпохи Медичи, вот она какая оказывается – красивая; такая красота доступна только поистине богатым женщинам.
– Я… – прошептала она.
У нее несколько приплюснутый нос, это я запомнил, голубые глаза покраснели, распухли от слез, на шее ниточка жемчуга, висячие сережки усыпаны бриллиантами, отражая свет, они искрятся всеми цветами радуги.
– Я…
Я сделал безумный жест и, надо признать, это вовсе не мое решение, этот жест, во всей его банальности, породило не мое сознание, а, можно сказать, моя взъерепенившаяся плоть: я прижимаю к ее губам указательный палец (мой указательный палец к ее губам) прижимаю его ласково, но бесцеремонно – это идеальная прелюдия к тому, что, боюсь, я намереваюсь сделать сразу после этого, потому что это стало возможно, близко, даже естественно (тебе хотелось натуры, вот тебе и натура – угощайся), короче говоря, я сгораю от желания схватить ее за здоровенные ягодицы, прижать к себе так, чтобы она своим животом почувствовала мою эрекцию, и зацеловать ее, пока она не задохнется. Я не сомневаюсь, что именно это надеется увидеть мой братишка Неббия, здесь: но, возможно, что и она ожидает от меня нечто подобное, судя по тому, как она явно во власти создавшейся эрогенной атмосферы оцепенела, заторможенная настроениями и эмоциями, прерывисто задышала…
Но я ведь не животное, мне бы хотелось это подчеркнуть. Мне стыдно.
Палец прочь.
– Тсс… – шиплю я. – Молчите, молчите.
Какая ошибка. Я назвал ее на вы, и как эротично, черт возьми, это прозвучало! Проклятие, впрочем, когда у тебя вздыбливается член, все становится эротичным.
– Садитесь, – приглашаю я ее.
Может быть, если я поменяю положение…
Женщина покорно садится, и я сажусь рядом с ней.
– Не плачьте, – уговариваю ее я.
Женщина кивает, копается в сумочке и вытаскивает белоснежный носовой платок, вытирает глаза. Она больше не плачет, но глубокие всхлипы все еще сотрясают ей груди.
– Рад снова вас видеть, – говорю я. – Как дела?
Она перевела дыхание, но вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, заплакала, на этот раз намного громче, как будто тот факт, что она меня больше не обнимает, увеличил громкость ее переживаний. Иоланда снова повернулась в нашу сторону, но на этот раз едва ее взгляд встречается с моим, она тут же отводит его. Неббия продолжает пялиться на нас, он явно разочарован. С проезжей части долетает и привлекает внимание всей нашей компании рев клаксонов, там уже вырос длинный хвост машин, видно, где-то впереди образовалась дорожная пробка. Вон и муниципальный полицейский подошел – другой, я с ним не знаком, – но водителям машин в конце очереди его не видно, и они, как сумасшедшие, жмут на клаксоны. Посреди проезжей части стоит машина техпомощи, она и создает затор на дороге. Полицейский просит водителей потерпеть минутку. Оказывается, что техпомощь грузит разбитую «СЗ»– черт, именно сейчас. Полицейский идет вдоль хвоста машин и старается успокоить самых ретивых водителей, но гулкий кавардак вовсе не собирается стихать, зато женщина потихоньку перестает плакать, и вся как-то подбирается и успокаивается.
Несмотря на старания полицейского, хвост машин на дороге растет, а адский гул продолжает усиливаться, машины теперь вынуждены останавливаться у въезда на проспект. Мне бы хотелось встать на ноги и посмотреть, не видно ли где-нибудь владельца той машины, очень интересно, кто это мог быть, но я не могу этого сделать, нет, потому что, хоть эрекция все еще и сковывает мне движения, после того как мы уселись, все идет намного лучше, и, если я встану, то и она может последовать моему примеру, и тогда снова, как несколько минут назад, мы окажемся в прежней позиции…
Наконец, техпомощь погрузила «СЗ» и покатила прочь, выбросив в воздух порядочное облако углекислого газа, а за ней потянулся и весь хвост. Все кончено, а я так никогда и не узнаю, кому принадлежала та машина.
Наступила тишина. Женщина, воспользовавшись перерывом, быстро заработала носовым платком – привела себя в порядок: сейчас у нее припухлое и чувственное лицо, как у любой другой женщины после того, как она наплачется, но, кажется, она уже полностью владеет собой, дышит ровно и даже посматривает на меня с некоторым высокомерием. Может, теперь она в состоянии разговаривать.
– Вам уже лучше? – спрашиваю я.
Она морщит лоб: мне хорошо известны эти морщинки, они выражают сочувствие. В последнее время мне часто приходилось видеть, как лбы моих собеседников собирались морщинами, в некоторых вещах все люди поистине одинаковы.
– Послушайте, – говорит она, – я обо всем узнала только вчера, я даже не знаю, как вам объяснить, насколько это меня… – снова плачет? Нет, старается держать себя в руках. Но молчит, чтобы не расплакаться. Проглатывает комок в горле.
– …потрясло, – заканчивает она свою фразу.
– Да будет вам. Молчите. К чему слова.
Она прищуривает глаза, сжимает челюсти, кажется, что она собирается с силами.
– Я прекрасно понимаю, что сейчас благодарить вас абсолютно бесполезно, – настаивает она, но хочу, по крайней мере, чтобы вы знали, что, если я не сделала этого раньше, то только потому, что… – у нее снова сорвался голос, и снова она замолкает чтобы не расплакаться. Ох, как ей тяжело.
– Теперь все не важно. Уверяю вас.
Она силится подавить набегающие слезы, и от этого ее лицо искажается; в эту минуту оно похоже на цифровую фотографию на мониторе компьютера, которую кто-то пытается отретушировать, выбрав опцию «более твердое».
– Я не знала, что это вы спасли меня, – говорит она. – Вы мне верите?
– Конечно, верю.
– Я не помню ничего, что произошло тем утром, и моя подруга тоже. Мы поверили тому, что нам сказали, когда мы пришли в себя. Но никто нам не говорил, что это вы вытащили нас на берег.
– В этом нет ничего удивительного, в такой-то сутолоке, – успокаиваю ее. – И потом, никто не знал наших имен.
Еще одна попытка сделать суровым лицо: с него исчезают все признаки женской слабости, что совсем недавно она выказывала мне. Невероятно. Сейчас никому бы и в голову не пришло, что только пять минут назад она заливалась крокодильими слезами.
– Нет, – сухо парировала она, – никакой сутолоки не было. Они просто-напросто ничего нам о вас не сказали. Иначе мы бы стали вас искать и обязательно нашли, даже не зная ваших имен.
И вправду просто поразительно, как она изменилась: сейчас ту женщину, которая всхлипывала у меня на груди, в ней просто не узнать.
– У вас там есть дом, так ведь?
– Да.
– Вот видите.
Конечно, если судить по тому, что сказал Карло, это Элеонора Симончини, шоколадная королева, она больше привыкла к тому, чтобы отдавать приказы и председательствовать на заседаниях совета директоров, а не кричать: «Не бросай меня!» или разражаться безудержными рыданиями; и вот черный «Мерседес S 500», я только сейчас заметил его на противоположной стороне дороги, он примостился во втором ряду прямо на проезжей части и мигает сигнальными огнями, наверняка это ее машина, а в кабине, естественно, ждет шофер – ее супердоверенное лицо, который, как обычно, записывает все важнейшие телефонные звонки, поступающие ей на мобильный…
– Послушайте, – шипит она как змея, – сейчас мне бы хотелось задать вам очень важный вопрос. Как вы на это смотрите?
Несомненно, именно такой ее знают все: холодной, властной, сдержанной. Конечно, неудивительно, что в ней проявляется сильная личность, но все равно просто чудо, как быстро ей удалось овладеть собой: прямо супермен в телефонной будке.
– Конечно.
Она кладет носовой платок обратно в сумочку и пристально смотрит мне в лицо.
– Расскажите мне, что в точности произошло в тот момент, когда вы и ваш брат вошли в воду, чтобы спасти нас.
Палочка моя все еще тверда, это так, для прессы; но оборот, который приняли текущие события, этот факт решительно отодвигает на второй план.
– В каком смысле?
– Люди, которые стояли в воде поблизости от вас, не говорили ли вам что-нибудь?
– Нет.
– Вы ни с кем не разговаривали? Вы просто так нырнули в воду и вперед?
Выражение ее лица становится еще тверже.
– Может быть, кто-то пытался вас остановить, отговорить.
– Остановить нас? А-а-а! Вы, наверное, имеете в виду того идиота, который нам…
О, нет! Теперь я все понял. Кровь ударила мне в виски, а сердце буквально подскочило к горлу. Вот почему она так безутешно заливалась слезами. Мгновением раньше я все понял, еще до того как она вытащила из сумочки фотографию, которая подтвердила мои догадки.
– Этотидиот?
О, нет. Это ее муж. Вот это да, большей глупости я не мог бы сказать! Подумать только, как у меня бьется сердце. Та рыжеволосая каланча, которая нам посоветовала тогда не спасать их, был ее муж. Да ты только посмотри на него, – свадебная фотография, он во фраке, длинный и тощий, как жердь, а взгляд человека, привычного к церемониям на международном уровне, прикрывает рука: он закрывается от сыплющегося на него каскадами риса, а другая, длинная аристократическая, рука чуть покровительственно обнимает ее за талию, а она даже не обращает на него внимания, по правде говоря, у нее на лице сияющая улыбка, но обращена она, кто его знает кому; да, у нее горящий взгляд, но и он тоже не ему, этот взгляд прямо заряжен воспоминаниями, а фигурка у нее тогда была, по крайней мере, на два размера меньше нынешней, и, надо признать, что выглядела она поистине феноменально в коротеньком платьице кремового цвета с бесподобной вышивкой, платье прекрасное, но – это бросается в глаза – абсолютно несовместимое с его помпезным одеянием, как будто его сшили для другой свадьбы.
Я поднимаю от фотографии глаза. Та женщина, которая на карточке все еще питала надежды на будущее, сейчас твердым, леденящим взглядом пристально смотрит на меня, она-то больше ни на что не надеется.
Что и говорить, эрекции как ни бывало.
– Прошу вас, скажите мне только, да или нет, – но эта ее просьба звучит почти как приказ. – Когда вы с братом бросились в воду, чтобы спасти нас, этот мужчина пытался вас отговорить?
Ну вот. У меня сейчас много вариантов ответа, даже слишком много, чтобы я смог сделать правильный выбор. Я мог бы, например, начать с того, что я не так и уверен в том, что нам сказал этот чичисбей [73]73
Кавалер, постоянный спутник дамы.
[Закрыть], или мог бы рассмотреть гипотезу о том, что веревка, которую он бросал женщинам, не была уж такой короткой, как мне помнилось, что, возможно, тогда веревка просто показалась мне короткой, видимо, он решил спасти их другим способом, менее героическим, конечно, менее зрелищным, но, если бы веревка была достаточно длинной, более надежным и здравым, учитывая то, что и нам с Карло угрожала возможность отдать богу душу, потому что он, в отличие от нас, стремящихся их спасти бессознательно, прямо как по Фрейду, – Карло в силу своей законной необходимости разбить кольцо смертей, которые, как ему казалось, преследовали его, а я, как уже говорил, чтобы не уступить ему, не отстать от него, – он, в отличие от нас, я имею в виду, тот мужчина, вероятно, вел себя более по-умному: он беспокоился о жене, но в то же время не забывал и о детях, например, он мог подумать о том, что им угрожала опасность одним махом потерять обоих родителей… Но если я углублюсь в подобные джунгли, а я уже чувствую, как во мне просыпается эта моя историческая зверская наклонность, я просто уверен, что оттуда мне больше уже не выбраться, во всяком случае, не выйти с ответом, ясным и немедленным, – да или нет– на какой претендует эта женщина. Я не хочу этого, потому что мне надоело так поступать, не могу больше, всю жизнь я делал ставку на проигрышные номера: на здравомыслие, на глубокие размышления, на хреновое посредничество, я даже не помню, ни когда это я решил так делать, ни почему, и если сейчас мне нет дороги назад, и я не смогу поступить так, как поступил мой брат, – послать на три веселых буквы того, кто встает на твоем пути, и вперед, – я всегда могу измениться, конечно, есть люди, которые и в сорок лет меняются, почему нет, и даже если это не будет настоящей переменой, глубокой, окончательной, даже если речь идет только о временном изменении здесь и сейчас, когда я отвечу на вопрос этой женщины так, как бы ей мог ответить Карло – дать опрометчивый, ясный, нахальный, мужественный, уверенный, искренний, легкомысленный ответ, в то же время признавая вероятность того, что и он может быть не прав, этому его качеству я всегда завидовал, – да ладно, наплевать, и это тоже представит меня намного больше, чем если бы я, как обычно, испражнился своими проклятыми сомнениями.
– Да.
Да нет же, Карло, давай сделаем так: допустим, что я – это ты, как в ту ночь, когда мы вместе накачивались опием, и я стал тобой на долгое, фантастическое мгновение, и выжмем все возможное из этой истории. Односложное слово, что я только что произнес, это уже сам по себе тяжкий камень, но в действительности мне от этого нет никакой выгоды, правильно? А этот случай идеален, мы просто обязаны извлечь из него выгоду. Я прав? Ну вот, давай мы ее одарим одним из твоих взглядов, крутым и похотливым, без всякого стеснения; да ты только посмотри на нее – она его выдержала, Карло, выдержала. Видишь?! Ей только что подтвердили, что ее муж пытался убить ее, представь, какая мерзость у нее сейчас на душе, и все же этот наглый взгляд она не теряет, потому что этот взгляд поразительно льстит ее эго, для нее это драгоценный комплимент ее увядающей красоте. Видишь, Карло? Сработало. Работает, даже у меня работает. В конце концов, ведь она просто женщина. О-о-о! Вот видишь?! У меня снова эрекция. На этот раз ничего удивительного, ничего нелогичного или неслыханного, а наоборот, это естественный отклик на чувство удовлетворения, которое мы прочли в глубине ее глаз – и какая нам, в сущности, разница, правда это или нет, правильно? Нам удобно прочесть это, и мы это читаем – удовлетворение, а наш взгляд ей отвечает: «Ну, ты меня и завела – я так возбужден», то есть то, что, как мы решили, будет единственное, что по-настоящему послужит ей утешением в мерзопакостной ситуации, в которую она вляпалась, и мы даже можем себе это позволить; прошу обратить на это внимание, мы безупречны, неприступны, невинны, только мы в целом мире, ведь только мы – это те-что-в-то-время-как-ее-муж-спокойно-наблюдал-как-она-тонет-как-крыса-спасли-ей-жизнь-рискуя-собственной-и-в-тот-же-день-потеряли-собственную-жену-и-сейчас-молча-страдаем-целиком-и-полностью-посвятив-себя-собственному-ребенку-и-проводим-весь-день-у-его-школы, а поэтому, черт, если это сделаем мы – именно так это работает, да? – так вот, если это сделаем мы, это значит, что это будет справедливо.
Ну вот, готово: Элеонора Симончини опускает глаза; какие вам еще нужны доказательства, что да, это именно так и работает. Конечно. А какое облегчение хоть один раз убедиться, что такое не только случается с другими. Как приятно хоть один раз в жизни почувствовать себя враждебным доминантом, который выхватывает себе, проклятье, больший кусок. Какое облегчение в том, что на этот раз мерзавец – именно я.
То, что сейчас происходит, Карло, это секрет, это священная тайна. Иоланда все видит, да, но оттуда чтоей видно? Она видит эту толстую задницу, которая сначала разнюнилась, а после того как перестала скулить, прошла несколько шагов, внезапно остановилась, наклонилась и посмотрела вниз, а потом подняла голову, как будто только для того, чтобы проверить, тот господин, который всех обнимает, смотрит ли все еще на нее; и убедившись, что господин, который всех обнимает, все еще смотрит на нее, она снова опускает голову и осторожно прикасается рукой к земле, потом поднимается и возвращается к нему.
Вот, что она видит. По сути дела – ничего.
А сейчас я тебе расскажу, что случилось на самом деле, Карло, об этом никто никогда в жизни не узнает, потому что то, что происходит, делается специально для нас, и это видим только мы, и это наш с ней секрет. А происходит вот что: Элеонора Симончини поднимает свои руки состоятельной женщины до уровня наших глаз и правой рукой медленно снимает обручальное кольцо с безымянного пальца левой руки, а в глазах у нее в эту минуту жуткая смесь добра со злом – не сплошное зло, Карло: добро в нее только что вложили мы. А потом она поворачивается спиной, и кажется, что она уходит, но через несколько шагов останавливается: она заметила водосточный люк, знаешь, такое углубление на асфальте, забранное проржавевшей решеткой и прикрытое сухой палой листвой, и тогда-то она и останавливается, и наклоняется к нему, и через щели в решетке смотрит на неописуемую черноту там, внизу, а потом переводит взгляд на нас и улыбается и, улыбаясь, опускает руку к решетке, тогда-то и кажется, что она до нее дотрагивается, но это не так, нет, ей незачем до нее дотрагиваться, улыбаясь, она просто бросает обручальное кольцо в канализацию.








![Книга Даниель Деронда [старая орфография] автора Джордж Элиот](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-daniel-deronda-staraya-orfografiya-74984.jpg)