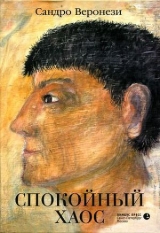
Текст книги "Спокойный хаос"
Автор книги: Сандро Веронези
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Потом мы с Клаудией пошли на школьный двор и вместе дождались звонка, я еще задержался немного у школы, поговорил с отцом одной девочки из ее класса, а когда вернулся сюда, работа была уже закончена. Дверцы кабины грузовика еще открыты, парни-словаки уже разбирают подъемник и грузят его на грузовик, а их начальник и мужчина, который называет меня доктором, выходят из подъезда, они о чем-то разговаривают, наверное, договариваются встретиться через семь-восемь часов у въезда на автостраду «Рим – Север»; потом владелец фирмы отходит от него и идет к грузчикам, а мужчина, который называет меня доктором, подходит ко мне.
– Что ж, вот я и справился, док', – говорит он.
Я улыбаюсь, киваю головой, даже не знаю, что ему и сказать. Ясно только одно, что сегодня я все воспринимаю намного менее трагически, чем вчера, у меня легко на душе, и в его обществе я больше себя не чувствую неловко; неожиданно я догадался, чему я обязан такой перемене: еще вчера этот мужчина жил прошлым, оно связывало его по рукам и ногам и затыкало ему рот, мучило его своим ужасным скулежом; перед ним открывалось будущее, вот, оказывается, какого громадного механизма были шестеренками работающие грузчики: будущего, его будущего, разумеется. Его будущее, что сотрет все следы усталости в его карих глазах, в возвращении домой после тридцатишестилетнего отсутствия, в том, что в старости он будет жить под боком у сестры, которая присылала ему бутыли вина «Фраскати», в феноменальных поммаролах, секрет приготовления которых ему открыли на кулинарных курсах, в горечи вдовства, смягченной языком его детства (он назвал меня « док'»: значит уже успел вновь обрести его) и в спокойном приятии всего, что случится, так, как случится, потому что мужчина, который называет меня доктором, благодаря именно этому единственному и, возможно, последнему условию, выдвинутому его жизни: только-не-здесь, наконец-то, внутренне готов ко всему этому. Я смирюсь со всем, даже с одиночеством, с болезнями, с агонией, но в Риме, не в Милане, где я прожил жизнь только потому, что она была рядом со мной, а когда ее не стало, я, как помешанный, совершая над собой нечеловеческие усилия – только бы убить время, подметал полы. Есть люди, которые навсегда покидают свои родные края, а есть и такие, что поживут-поживут на чужбине, да и вернутся домой, и я один из них, я из тех, кто, уезжая, обязательно возвращается домой.
Я проецирую? Проецирую на него самого себя? Не приписываю ли я, случайно, ему свои чувства? Да нет, не думаю: помешательство, только из-за того, что умерла моя жена, мне не грозит, ведь из-за этого я даже не переживаю; мне незачем искать будущее в других краях, потому что оно уже со мной, и не в другом месте, а в другом человеке. У меня есть Клаудия, да, и в ней-то и есть мое будущее.
– Что ж, давайте прощаться, – он пожимает мне руку. – Очень жаль, что я не пригласил вас раньше, я стеснялся.
– Ни пуха ни пера, – желаю я ему, кто его знает, почему. – Привет Риму.
– Я могу вам и открытки присылать иногда, если вы дадите мне свой адрес. Открытки с классическими видами: Колизей, там, Сан-Пьетро, Фори-Империали…
– Улица Дурини, 3. Написать?
– Да нет, не надо…
И он делает удивительную вещь. Достает из кармана фломастер, возможно, этим фломастером на последних ящиках, запакованных сегодня утром, он надписывал свой адрес в Риме, а сейчас, как какая-нибудь девчонка, он записывает у себя на ладони и мой адрес. Смотрит на меня и улыбается.
– И запомните, – говорит он, – только один год длится темнота. Правы были наши предки: траур – двенадцать месяцев. А когда они пройдут, увидите, темнота рассеется, и забрезжит свет.
Нет, это он проецирует, а не я. Это он страдал, как раненое животное, и думает, что и я испытываю нечто подобное. Воображаю, с какой жалостью каждый день смотрел он на меня из окна, с тех пор как сплетни этого квартала долетели до его ушей: слухи о том, что случилось с моей женой; даже трудно себе представить, сколько боли он увидел во мне, когда бесконечными часами я маячил у него перед глазами, и он следил за каждым моим движением, когда как в действительности душевная боль меня вовсе и не терзала. Сколько раз разговаривал он обо мне со своим единственным другом, может быть, даже продавцом из газетного киоска, или владельцем бара, обсуждая с ним во всех подробностях чувства, которые, по его мнению, я должен был испытывать, и сколько времени должна была длиться моя скорбь…
– Спасибо, – благодарю я его и прощаюсь. – До свидания.
– До свидания, док', мужайтесь!
Он поворачивается и идет к пожилому грузчику, который ждет его у открытой дверцы кабины грузовика. Еще немного я смотрю ему вслед, думая о том, насколько ошибочными могут быть некоторые наши представления, которые нам-то как раз кажутся абсолютно достоверными. И я тоже этим грешу? А у меня какие представления? Вдруг я слышу свист, резко оборачиваюсь – Пике.
– Добрый день. На что это ты там так засмотрелся?
– О-о! Ты давно уже здесь?
– Да минут пять. Пока ты там разговаривал вон с тем мужиком… Кто он такой?
– Он раньше жил в этом доме, а сейчас переезжает в Рим.
Дверца кабины грузовика закрывается, заработал мотор, и мужчина, который называет меня доктором, возвращается в свою безнадежно пустую квартиру. Еще каких-нибудь полчаса в той берлоге, минут двадцать, и все кончено. Последний раз кивком он прощается со мной, и я киваю в ответ.
– По кофейку? – предложил мне Пике, указывая на бар, где действительно в этот час я обычно пью кофе.
– Давай.
– Вот это погодка, а? По радио объявили, что сегодня температура поднимется…
Ему так и не удалось закончить фразу: за нашими спинами грохнул чудовищный удар, а за ним послышался скрежет металла и звон градом посыпавшегося стекла. Мы оба круто оборачиваемся. Грузовик дал обратный ход. Неправильно рассчитанный маневр, и удар со всего маху в машину, стоящую на стоянке.
Глазам своим не верю.
Он врезался именно в ту машину.
Со всех ног я бросаюсь на место происшествия, какое мне дело до Пике – о чем мне, собственно говоря, переживать, ведь это он поливает меня грязью. Задний угол грузовика врезался в «СЗ»: вмял внутрь весь зад машины и разбил заднее стекло. Поднялась страшная суматоха: пожилой грузчик, еще не в состоянии осознать происшедшее, выходит из кабины и идет посмотреть, что случилось, – насколько я могу судить, за рулем был именно он, – следом за ним сбежались зеваки, среди них я вижу мужчину, который называет меня доктором, и муниципального полицейского, который каждое утро оставляет для моей машины место на стоянке, все собрались посмотреть на аварию, если они что-то и поняли, хотя бы то, что можно было понять на первый взгляд, то абсолютно грубо и примитивно. Они уверены, что этот случай очень простой, и понимать-то в нем собственно нечего; кажется, никто из них даже не подозревает, что такая простота может таить в себе ловушку. Никто, например, не обращает внимания на визитную карточку, белеющую среди осколков стекла в багажнике; кажется, никто даже ни капельки не приблизился к осознанию поистине исключительного аспекта наблюдаемого происшествия, к его ошеломляющей с точки зрения статистики алогичности; все убеждены, что грузовик нанес серьезные повреждении почти совершенно новому «Ситроену СЗ». И все же, до тех пор пока этот грузовик все еще пригвожден, к нему совсем нетрудно реконструировать арабеску, нарисованную рукой судьбы на каркасе горемычной машины, потому что повреждения, которые ей нанес я больше двух недель назад, вовсе не совпадают с новыми и очевидно, что они никак не могли появиться теперь в результате злополучного заднего хода грузовика. Боже праведный, да как никто этого не замечает? Ведь если грузовик долбанул машину таким образом, понятно, что он не могстесать ей весь бок – в действительности сбоку в нее врезался я. Ведь вся картина прямо как на ладони, им надо только заметить это. Все изменится, как только грузовик уберут отсюда, чтобы освободить проезжую часть – это, кажется, вот-вот произойдет, потому что уже образовалась порядочная пробка; но сейчас, проклятье, хоть кто-нибудь должен это заметить. Но никто ничего не заметил. Нет, нет, они считают, что все повреждения эта горемыка получила в результате аварии, происшедшей несколько минут назад. Я смотрю на мужчину, который называет меня доктором, он разговаривает с пожилым грузчиком: возможно, что он знает; может быть, когда я, чтобы освободить проезд, грохнул «СЗ», он наблюдал за мной из окна – конечно, если ему была уже известна моя история, хотя, черт его знает, все может быть; ведь в тот день шел дождь, стоял собачий холод, не то что сегодня, просто как летом, кому бы это пришло в голову устраивать посиделки у окна в такую погоду; но ведь тогда машины подняли просто ад кромешный, может быть, он подбежал к окну посмотреть, что случилось, и успел заметить, что это был я…
Ну вот, время истекло: застрявшие в пробке водители потеряли терпение, они начинают отчаянно сигналить, полицейский не может больше сдерживать движение. У грузчика, кажется, есть опыт в таких делах – в силу своей профессии ему постоянно приходится путаться у людей под ногами – он уже догадался, что пора сдвинуть грузовик с места. Он извиняется, забирается в кабину и включает мотор, тогда и толпа зевак начинает рассасываться, вскоре проезд освобождается, и полицейский приступает к исполнению своих обязанностей – регулирует движение. Что ж, динамика происшествия всем ясна.
Я все еще стою рядом с «СЗ», меня охватила радость, я, как мальчишка, чувствую огромное облегчение. Никто не обращает на меня внимания, никому я не нужен – как в тот день, когда я спас ту женщину и выходил из воды, тогда тоже никто не обращал на меня никакого внимания, в тот день, когда умерла Лара. Я могу засунуть руку в багажник, схватить свою визитку и прочь отсюда.
Кто меня заметит?
Возможно, меня увидит Пике. Он стоит в стороне и смотрит на меня: вот он-то меня и заметит. Ну и что, и это не проблема, хоть он и параноик, он никогда даже и представить себе не сможет, что такое он на самом деле увидел. Зачем ты засунул руку в багажник той машины? Я убрал кусок стекла, он мог кого-нибудь поранить. А-а-а… Нет, настоящая проблема – это мужчина, который называет меня доктором, вот он-то и может все знать. Вон он возвращается, он идет прямо ко мне, разводит руками, говорит: «Неплохо для начала, а?»; на его ладони все еще чернеет мой адрес. Но если бы он об этом знал, он должен был бы мне об этом сказать, он должен был бы дать мне шанс сохранить мое достоинство: хотя бы во имя истины ему бы следовало все рассказать, может даже, он мог бы обратиться к муниципальному полицейскому, представителю власти, сказать ему, что грузовик нанес повреждения машине только здесь, в центральной части, а бок и вся вон та покореженная часть вокруг фары и повреждения на бампере вплоть до обрубленного брызговика, ужасно смятая, превратившаяся в гармошку боковушка, упирающаяся в колесо, все это дело рук вон того господина, это он врезался в машину несколько дней назад, так ведь, док, правильно я говорю? Тогда и я скажу, что все правильно, какое странное совпадение, не правда ли? ту бедолагу так помял действительно я на машине моей свояченицы, вот – я оставил свои координаты, чтобы возместить ущерб, вон там моя визитная карточка, видите? Вон там в багажнике среди осколков заднего стекла. Я засунул свою визитку под щетки, там номера моих телефонов и все мои данные, но владелец машины так и не объявился, и она до сих пор так здесь и простояла… Он ничего не говорит, не бросает на меня лукавых взглядов, давая мне понять, что ему все известно, но он и не думает ябедничать. Ничего подобного. Он отходит от меня, с его точки зрения все в порядке. И муниципальный полицейский тоже хорош: как бы там ни было, но каждое утро на протяжении более двух недель у него перед глазами находилась разбитая машина, а он, тем не менее, ничего не замечает или не помнит это, а может, он просто делает вид, что ничего не знает. Но самое удивительное – это грузчик, он поставил грузовик в неположенном месте, прямо перед проездом для автомобилей, и тут же вернулся на место происшествия, снова все проверяет, трогает руками, объясняет, что у него из-под ноги выскользнуло сцепление: что-то незаметно, чтобы он отдавал себе отчет, что его удар не мог настолько повредить машину, что кто-то наехал на нее раньше, – кстати, сейчас, когда грузовика больше нет на месте происшествия, эта деталь меньше бросается в глаза. Нет, единственный элемент, что все еще соединяет эту машину с действительным ходом событий – с пресловутой правдой– это моя визитная карточка; если я ее заберу, то на машину совершил наезд неудачно сделавший маневр грузовик, и все присутствующие здесь с готовностью это подтвердят.
А мне что делать?
Я считаю до десяти: если на счет десять никто ничего не скажет, я заберу свою визитку, да и дело с концом.
Раз, два, три.
А что, ведь грузчику, в конце концов, все равно. Это же он разбил машину, в любом случае у него полетит « Бонус/Малус» – автоматически повысится страховой взнос, ведь по странной случайности в контрактах по страхованию предусмотрено, что величина тарифной ставки не зависит от величины причиненного ущерба, а поэтому…
Четыре, пять, шесть.
Всем все равно, вот в чем дело. Правда в том, что эта машина никого не интересует, потому что она ничейная.
Семь, восемь.
Никто на меня не смотрит.
Девять.
Надувательство страховой компании и воровством-то нельзя назвать.
Десять.
Готово.
То, что сегодня будет жарче, чем вчера объявили по радио. Ну вот, я это и почувствовал.
26
– «Бассейны с высокими бортами – это кич».
Пике выпил свой кофе одним глотком, вынул из кармана помятую черную тетрадку и прочел эту странную фразу. Я было уже собрался поинтересоваться у него, почему это он опять начал плохо обо мне отзываться, но этой фразой он обескуражил меня, выбил почву из-под ног.
– Что ты сказал?
– Вот молодец, – заметил он удовлетворенно. – Именно так и Ники отреагировал: «Что ты сказала?». Ники наш друг, он показывал нам свой новый бассейн в саду, естественно, с высокими бортами. «Что ты сказала?» – спросил он, и ответ был… – читает в тетрадке – «Я сказала, что обычно бассейны поднимают мне настроение».
Он берет со столика пачку сигарет и достает одну сигарету, сует ее в рот, но не зажигает. Смотрит на меня внимательно.
– Франческа? – спрашиваю я.
– А кто же еще? – почти вскричал он. – У нее сейчас что-то вроде обострения. Ты только послушай: – читает из тетрадки – «Смотри, какие у нее жирные волосы, иначе бы она не завязывала конский хвост». В субботу вечером мы забежали на минутку в магазин «Hi-Tech», и там одна продавщица обратилась к нам, спросила, что нас интересует. Естественно, у нее был конский хвост.
– И что она на это сказала?
– Кто, продавщица?
Он хлопает себя по всем карманам, вероятно, ищет зажигалку, но не находит. Я протягиваю ему свою, и он зажигает сигарету. Глубоко затягивается и говорит, выпуская изо рта дым.
– А что еще ей оставалось сказать? Она сказала то же, что и мы с тобой: «Простите, что вы сказали?»
– А Франческа?
– А Франческа ответила, – он снова что-то там читает в тетрадке, – «Ничего. Спасибо. Мы зашли просто посмотреть».
Он еще раз глубоко затягивается, на его лице появилось непонятное выражение: трудно разгадать, внимание это или что-то другое.
– Что ж, вы снова сошлись, по крайней мере, – прокомментировал я. – В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты мне сказал, что она ушла из дома.
Ну вот, словно воскрешенная моими словами, в глазах у него заплясала жестокая паранойя. И снова мы в саванне, и на каждом шагу нас подстерегают опасности любого рода.
– Она вернулась, потому что я на коленях умолял ее об этом, Пьетро, – прошептал он, – я попросил у нее прощения, ясно тебе, я – у нее, и обещал ей, что никогда больше не затрону эту тему. Вот она и вернулась.
– И ты сдержал свое слово?
– Конечно, если бы хоть раз я осмелился сказать ей хоть полслова, она бы ушла от меня навсегда. Но теперь я решил записывать, я записываю все, что она говорит.
Он сжал в руках свою черную тетрадку, кажется, это хоть как-то его успокаивает. Может быть, мне еще удастся прекратить разговор на эту тему и спросить у него, как это так получается, что он приходит сюда откровенничать со мной, а в офисе называет меня хитрожопым. Но, по правде говоря, выпады его Франчески возбуждают мое любопытство намного больше, и его лицо, землистого цвета, обезображенное лезвием тревоги, предупреждает меня о том, что он приготовился поведать мне грандиозные вещи.
– Я изучаю это явление, Пьетро: этот совершенный в своей простоте механизм. Знаешь, я понял, что она может сказать любую гадость, но, в конце концов, все склонны считать, что ослышались…
Он закрывает тетрадь и выбрасывает окурок сигареты.
– Весь секрет в том, что она этого в себе не замечает. Именно поэтому так безукоризненно функционирует этот механизм: вот в чем вся прелесть; Франческа красивая, а красота очаровывает. Ты помнишь Франческу, помнишь, как она выглядит, да?
– Да.
– Ведь ты помнишь, какая она роскошная баба?
Бум! Да, она действительно красива, но не настолько, как ему кажется. Например, у нее слишком длинные передние зубы, ортодонты называют этот недостаток «глубоким прикусом». Я обратил на это внимание, потому что и у Клаудии такие же зубы, поэтому через год, через два ей на зубы наденут скобки.
– Да.
– Ты бы смог ее себе представить? Мог бы ты вообразить себе ее лицо, выражение ее лица, когда она говорит свои гадости?
– Да.
– Я имею в виду именно ее лицо. Как она улыбается, как искрятся при этом ее глаза…
Я понял: он хочет, чтобы я сказал «нет».
– Не знаю, наверное, нет. Я видел я ее только два-три раза.
Он горестно качает головой, смотрит себе под ноги.
– Э-эх-х!.. Тогда тебе не понять. Ты не сможешь себе это вообразить.
Потом снова внимательно глядит на меня, выражение его лица меняется, и я подозреваю, что его осенила какая-то идея.
– Но ты ведь можешь представить кого-нибудь другого, – начинает он с неожиданным энтузиазмом. – Давай сделаем так: попробуй представить лицо какой-нибудь девушки, которую ты очень хорошо знаешь.
– Зачем?
– Чтобы ты осознал.
– Да я и так прекрасно все осознаю.
– Нет, Пьетро, эта история с Франческой для тебя только россказни, только пустые слова, я же хочу, чтобы ты, по возможности, увидел это воочию. Иначе тебе никогда не понять, в каком кошмаре я живу. Давай, подумай о какой-нибудь клевой бабенке, которую ты знаешь, представь себе…
Он все еще не сводит с меня свой донельзя наэлектризованный взгляд, зрачки у него расширились до такой степени, что и радужки-то не видно. Может быть, он нюхает кокаин? Может, он его нанюхался сегодня утром, полчаса назад, до того как прийти ко мне?
– Ладно тебе выдрючиваться, – настаивает он, – чего тебе стоит?
К черту, он прав: чего это мне стоит? Ведь теперь уже я точно не смогу у него спросить, почему он снова стал говорить обо мне плохо.
– Мне нужно подумать о красивой девушке, которую я знаю?
– Да, но по-настоящему красивой.
– Готово.
– Как ее зовут?
Это, однако, к делу не относится. Какое такое обезьянье любопытство заставило его задать мне этот вопрос?
– Я должен знать ее имя, чтобы хоть как-то ее называть, пока я буду вводить тебя в курс дела, – добавляет он, заметив мое напряжение. – Меня не интересует, кто она такая, назови мне только ее имя.
– Марта.
– О'кей, Марта. А сейчас представь такую сцену. Ситуация такова: твоя Марта сидит с друзьями в ресторане. Этот ресторан совсем недавно открылся, и его хозяин – друг одного из ее друзей и, между нами говоря, гомосексуалист, что немаловажная деталь. Хозяин ресторана приближается к их столу и спрашивает как им понравился кулателло [71]71
Ветчина высшего сорта, изготовляемая из верхней задней части свиной туши.
[Закрыть]с шербетом из пармезана, это блюдо, которое они только что попробовали. Он задал этот вопрос всей компании, но по странному стечению обстоятельств смотрит именно на нее, и ей поневоле приходится отвечать ему, она ему отвечает – тут он смотрит в тетрадку – «Замечательно, очень вкусно, передайте мои комплименты шеф-повару». Но хозяин не понял: «Простите, что вы сказали?» – спрашивает он. «Очень вкусно, – повторяет Марта, – мои комплименты шефу». О'кей? Ты представляешь эту сцену?
– Да.
– Ты видишь выражение лица Марты, когда она произносит эту фразу?
– Да.
– А сейчас я тебя попрошу, максимально сконцентрируйся, пожалуйста, не надо недооценивать мощь сконцентрированного сознания, оно способно создавать поистине законченные образы. Ты сказал – Марта: постарайся увидеть ее. Ее лицо, ее манеру улыбаться, движения ее рук. Она просто прекрасна, элегантно одета. Сережки в ушах, макияж, там, и все такое прочее…
От всего этого мне просто смешно. Однако Пике пристально смотрит мне в глаза и медленно, чеканя каждое слово, словно гипнотизируя, вдруг произносит:
– Закрой глаза, и ты увидишь, сколько образов появятся перед твоим мысленным взором…
Что называется, приехали. Просто смешно, но я действительно закрываю глаза, прямо на месте, там, где сижу, за столиком бара неподалеку от школы, на глазах у циклотимического психопата, похожего на страуса; но смешнее всего то, что этот фарс подстегивает мое воображение. Вот она, Марта, сидит в ресторане: вся из себя расфуфыренная, волна вьющихся волос падает ей на лоб, красные пухлые губы чуть тронуты блеском для губ, блестящие обнаженные плечи, завлекательное декольте, а ее светло-карие, слегка подкрашенные глаза затуманились; вот она смеется, маленькими глоточками пьет красное вино, слегка наклоняется вперед, чтобы сказать мне что-то вполголоса…
– Хозяин подходит и спрашивает, как вам понравилось кулателло с шербетом, и она отвечает: «Замечательно, очень вкусно. Передайте мои комплименты шеф-повару…»
Только во всем этом есть одно «но», я заметил, что я эту сцену не представляю, я ее вспоминаю: да, я вспоминаю тот вечер, когда я повел Марту в ресторан, что неподалеку от Toppe Веласка, это было тринадцать лет назад, сразу после пробы, которую она прошла по моей рекомендации на телестудии 5-го Канала, тогда еще она не знала, что с триумфом выдержала это испытание, и поэтому вела себя со мной обворожительно, стремясь соблазнить меня, она была сильно возбуждена и сексуально доступна, я пробудил в ней самые сокровенные, сжигающие ее душу амбиции, скрывающиеся под туманной вуалью ее девятнадцати лет, – стать актрисой на телевидении, стать знаменитой и желанной, чтобы все любовались тобой; это означало успех, всеобщее поклонение и восхищение – уже тогда она предчувствовала, что только один шаг отделял ее от исполнения заветной мечты…
– Ты готов?
…а два часа спустя в моей берлоге на улице Бонги – вон она какая; она танцует передо мной, обнаженная, танцует под «Dance Hall Days» из репертуара Ванг Чунг; она – убийственная смесь лукавства и простодушия – слегка пьяна, но полностью владеет собой, она задумала очаровать меня, актера с телевидения, своей убивающей наповал красотой, дабы не промахнуться и попасть прямо в яблочко, ведь тогда она еще не знала, что выстрелив, тут же попала в десятку. Вот она приближается ко мне и кружится вокруг меня, слегка касаясь губами моего уха, а потом вдруг впивается зубами мне в шею, как будто вправду хочет высосать кровь, – сколько раз с тех пор я запечатлевал на шее у любой женщины, что попадала ко мне в объятия, этот осеменяющий поцелуй-укус, но, к сожалению, мне так больше и не довелось испытать его на себе…
– Пьетро, ты готов?
– Да, валяй.
– Ладно. Значит так: тебе нужно будет только поменять первую фразу, которую произносит твоя Марта. А все, что ты сейчас представил, остается без изменений, только ее первая фраза больше не звучит так: «Замечательно, очень вкусно, передайте мои комплименты шеф-повару». Первая фраза, которую она произнесет сразу после того, как хозяин ресторана, глядя прямо на нее, спросит: «Ну как? Вам понравилось кулателло с шербетом из пармезана?», будет…
Бессмысленно вспоминать об этом. Марта, безусловно, чокнутая, однако ее помешательство имеет физическую природу, это помешательство на сексуальной почве, намного более опасное. Марта всегда отдает отчет своим словам, но Марта может бессознательно раздеться, может безрассудно переспать с кем угодно и забеременеть. Я не должен больше думать о ней. Нужно все это прекратить немедленно.
– «А что, ваши порции только для голубых?»
Я открываю глаза.
– Теперь-то ты понимаешь?
Конечно. Пике, бледнее белоствольной березки, как будто завис на вопросе, который только что мне задал, и мне надо, что-нибудь ответить ему. Сказать что-нибудь по поводу Франчески, которая смогла так его затравить. Не Марты, потому что Марта тут ни при чем. Речь идет о Франческе.
– Знаешь ли, нельзя сказать, что она кругом не права, – начинаю я. – Углубленные бассейны намного симпатичнее бассейнов с высокими бортами; женщины действительно завязывают конский хвост чаще всего, когда у них грязные волосы; а в ресторанах порции с каждым разом становятся все меньше и меньше. Знаешь, по-моему, ей и в рассудке нельзя отказать. Может быть, в каком-то смысле она и резка, но я бы на твоем месте так не переживал.
Я точно знаю, какую улыбку я пытаюсь изобразить на лице – ободряющую, ироническую, улыбку всезнайки – и так, на вскидку, я могу признать, что это мне с успехом удается; но, оказывается, все мои усилия бесполезны: и тут же кабинет гипнотизера исчезает, и мы вновь попадаем в саванну, где для иронии нет места, где-то здесь поблизости притаился гепард, потому что страус вдруг весь как-то сгорбился и смотрит на меня дикими глазами.
– Ах вот оно как? – возмущается он. – Тогда послушай еще. Во вторник вечером вернисаж в «Студии Элле»: выставка фотографий на тему апартеида, – понижает голос, – «А по-моему, хрен у негров вовсе не длиннее, чем у белых», – тут он повысил голос. – Хочешь знать какого цвета была рука, которую она в тот момент пожимала? Хочешь знать, чья это была рука?
– Ну и чья же?
– Консула из Южно-Африканской Республики, он специально приехал из Рима, чтобы произнести речь на торжественном открытии выставки.
– А ты как реагировал на это?
– Просто убежал. Выкрикнул какое-то приветствие так, наобум, как будто я заметил знакомых, и улизнул, оставив ее с ним наедине. Пять минут я простоял на другом конце зала, уставившись в голую белую стену, а когда я собрал все свое мужество и посмотрел на нее, то увидел, что она уже оживленно щебетала со своей подругой, а консула и след простыл.
– И она ни о чем не догадалась?
– Естественно, нет.
– Поэтому-то мы никогда и не узнаем, что она там думает, какие слова, как ей кажется, она на самом деле произносит.
Он хватает меня за руку.
– Пьетро, проблема не в том, что она думает, что она сказала, проблема в том, чтоона говорит. В действительности это моя проблема, а не ее. Потому что, наконец-то, я это понял, знаешь. Наконец, я все понял.
Ну вот, приехали. Рано или поздно параноик все понимает. Иначе какой он параноик.
– Что же ты понял?
– То же самое, что это моя проблема, а не ее.
Он, к счастью, отпускает мою руку, снова понижает голос: все правильно, на деревьях может быть полно микрофонов.
– Следи внимательно за моими рассуждениями. Перед кем она взрывает свои бомбы? С кем она разговаривает, когда говорит все эти гадости? Сама с собой? Нет, ведь она даже не замечает, что делает. Ее собеседники каждый раз разные: друзья, продавщицы, официанты, консулы… Как нарочно, сейчас она это делает намного чаще. Она никогда не повторяется перед одним и тем же человеком. Никогда. Нет. Только один человек присутствует при этом всегда, и он-то уж не в состоянии больше поверить, что не расслышал или неправильно понял ее слова, он знаетвсе, и этот человек – я, Пьетро. Она это делает мне назло.
Вот именно, кто-то обязательно должен быть в центре всего происходящего, поэтому, что бы ни происходило, это всегда случается именно с ним, все, даже то, что касается других; и только он в состоянии все это понять.
– Да. Сейчас она чувствует себя как за каменной стеной, – продолжает он, – ведь для того, чтобы вернуть ее, я ей обещал не говорить больше на эту тему. Сейчас она прекрасно отдает себе отчет, что может вытворять все, что угодно, вот она и распоясалась, кажется, что она просто с цепи сорвалась. Послушай хоть это, – он снова вычитывает фразы из тетрадки, – «Ой, как ссать хочется, если я сейчас не поссу – лопну». «А меня девственности лишил друг моего бати». «Похоже на то, что этот сграппино [72]72
Пенящийся алкогольный напиток: белое игристое вино, водка и лимонное мороженое. Здесь: намек на эякуляцию.
[Закрыть]спускает».
Просто фантастично!…
– …и все это за последнюю неделю, Пьетро, и перед разными людьми; единственный постоянный свидетель в таких ситуациях – это я.
– Но ведь ты не знаешь, может быть, она это делает и в твое отсутствие?
– А я тебе говорю, что она разговаривает со мной, все эти вещи она говорит мне. Так думает и психолог, у которой наблюдается мой сын.
– Что за психолог?
– Психолог, она лечит моего сына, я тебе уже говорил, да, что у Саверио появилось много проблем со здоровьем, с тех пор как я расстался с его матерью: у него тик, заикание, аллергии. Сейчас он не разговаривает, а считает. Вот мы и решили показать его психологу.
– Считает? В каком смысле?
– В самом прямом. Вместо того чтобы говорить, он считает. Так мы и оказались у психолога, ну вот, и она, психолог, захотела поговорить, естественно, с нами обоими, и все из-за того, что Саверио больше не говорит ни слова. А позавчера я рассказал о Франческе, и она мне…
– Нет, погоди минутку, извини, – тут уж и я повышаю голос и надеюсь, что он поймет почему. – Что все это значит, что твой сын считает, вместо того чтобы говорить?
– Послушай, да не трави ты мне душу, просто плакать хочется, как только я об этом подумаю. Он не разговаривает, а считает так: «Саверио, как у тебя дела в школе?» – «Семь тысяч шестьсот шестнадцать, Семь тысяч шестьсот семнадцать, Семь тысяч шестьсот восемнадцать…» Театрализация отказа– так его поведение называет психолог.
Театрализация: ну-ка посмотрим, не тот ли это психолог, на глазах у которой позавчера я упал в обморок…
– Он ни одного слова не говорит?
– Саверио? Нет.
– И что, это он со всеми так?
– Да, со всеми.
– И в школе тоже?
– Да.
– И с каких пор?
– Недели две, наверное.
– Ты хочешь сказать, что вот уже две недели он продолжает считать, ведет один и тот же счет?
– Думаю, что да. Вчера по телефону он меня убил цифрами, типа сто тысяч.
Я ошеломлен: он сказал, что это рвет ему душу, что от одной этой мысли у него на глаза наворачиваются слезы, но в действительности он говорит об этом неохотно, как-то отчужденно, как будто речь идет о простуде.








![Книга Даниель Деронда [старая орфография] автора Джордж Элиот](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-daniel-deronda-staraya-orfografiya-74984.jpg)