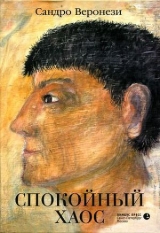
Текст книги "Спокойный хаос"
Автор книги: Сандро Веронези
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Ты хорошо знаешь Штайнера? – спрашивает он меня вдруг. – Он твой друг?
О, нет. Вот зачем он пожаловал. Он знает. Какое разочарование. Это неправда, что загадка порождает загадку, все это романтическая чушь. Тайна может породить только логические последствия, как впрочем, и все остальное.
– Никогда с ним раньше не встречался.
– Серьезно? Зачем тогда он к тебе приходил? – он по-прежнему улыбается. Никаких угроз, никакого давления авторитетом. Кажется, это простое любопытство: вот он весь передо мной – молодой, спокойный, любопытный.
– Он приходил, чтобы рассказать мне одну историю.
Проклятие, сейчас он захочет, чтобы я ему рассказал ее.
И мне придется решать, удовлетворять это его желание или нет, ведь сама его снисходительность тому порукой, что я не должен ничего делать насильно, он предоставляет мне возможность выбрать одно из двух, и, разумеется, это очень ответственный момент, все дело в том, что я не знаю, что стоит на кону, у меня нет ни одного критерия для принятия такого серьезного решения.
– Историю? И что же это за история?
– Это очень личная история, – отвечаю ему я. – Но сразу же тебе скажу, что она к слиянию не имеет никакого отношения.
– Ум-м-м, – промычал он, снедаемый любопытством, и замолчал. Кажется, размышляет. Я же оглядываюсь по сторонам, как будто хочу попросить совета у этого места, как мне поступить. Помоги мне, место. Вокруг ни души, снег замел следы всего живого. Нет, минуточку, из бара выходит служащая турагентства, она несет своим коллегам кофе в бумажных стаканчиках. Значит, сейчас Маттео со своей матерью должен возвращаться домой после процедур. Какой сегодня день? Пятница. Сегодня как раз их день. Хотя сегодня утром я их не видел, но два часа назад я сидел в машине со Штайнером, и шел густой снег. Тогда пусть будет так: если они появятся, несмотря на снегопад, парализовавший движение автобусов и переполнивший поезда метро людьми, в таком случае, я Боэссону ничего не скажу. Если же они не появятся, потому что мать из-за непогоды решила остаться дома, несмотря на то, что ей советовали не пропускать ни одной процедуры, особенно в этот период, когда он принимает их через день, если эта женщина сегодня решила на все махнуть рукой, тогда, что ж, и я сдамся и расскажу Боэссону о том, что мне поведал Штайнер. Пусть это будет критерием.
– И ты его никогда раньше не видел, – снова начинает Боэссон и улыбается мне.
– Нет.
Он неподвижен, крепко стоит на ногах, как кипарис. Его тело, голова, ноги, руки, словом, все у него застыло. Сейчас он подвигал глазами: опустил и мгновенно поднял их, но только глаза у него дрогнули. Не думаю, что тело человека способно так непроизвольно замирать в неподвижности, особенно в такой собачий холод. Должно быть, это самоконтроль.
Двери подъезда дома, где находится кабинет физиокинезитерапии, закрыты.
– Видишь ли, – продолжает он, – в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит утверждает, что капиталисты редко встречаются друг с другом, чтобы просто повеселиться, даже если они должны отпраздновать что-нибудь, при каких бы там обстоятельствах они ни встречались, все их разговоры кончаются заговорами.
– Я ведь не капиталист, – возражаю я.
– Да, – соглашается Боэссон с довольным видом. – Тем не менее…
Он вытаскивает из кармана листок и читает.
– С 10:22 до 10:46, – он поднимает на меня глаза и улыбается, – один из самых матерых в мире капиталистов сидел вместе с тобой в твоей машине. Он рассказал тебе историю. Раньше вы с ним не встречались, – тут он кивает головой. – Странно, ты не находишь?
– Да, странно.
На самом деле – нет, не странно. Штайнер приходил сюда пострадать, как все, потому что это место притягивает к себе боль. Точка. Дверь подъезда все еще закрыта.
– О, надеюсь, ты поминаешь, что надзор был установлен не за тобой, – заверяет меня Боэссон и прячет листок в карман.
Бог терпелив, так сказал Енох: интересно, а хватит ли терпения у него? Сколько же еще времени я могу потянуть резину? Когда же, наконец, я смогу считать, что Маттео с матерью сегодня не ходили на процедуры?
– Значит, надо полагать, что в настоящий момент и он установил наблюдение за тобой? – задаю я ему вопрос.
Боэссон смеется, но все же оглядывается по сторонам, сначала направо, потом налево.
– Может быть, – хмыкает он. – Кто его знает…
Он склоняет голову вниз и замирает, его глаза опущены, будь он женщиной, можно было бы сказать, что эта поза необыкновенно чувственна. Что и говорить, он и Штайнер – противоположности: насколько один явно старается показать свое величие, настолько другой по возможности стремится его скрыть. Вот он, поникнув головой, стоит передо мной…
– Знаешь, Пьетро, – вдруг поднимает он на меня глаза, – я похож на лейтенанта Коломбо: если люди ведут себя странно, у меня они вызывают подозрение, в голове у меня начинает шевелиться куча вопросов, и я не могу от них избавиться до тех пор, пока не найду ответы. А сейчас меня вопрос мучает, зачем это Штайнеру понадобилось приезжать сюда, чтобы рассказать тебе историю?
Вот и они. Сначала из подъезда выходит мать, смотрит на небо и удостоверяется, что снег перестал, она зовет Маттео, он выходит на улицу весь закутанный, как капуста. Что ж, увидим, насколько ты крут, Пьетро Паладини…
– Понятия не имею, – отвечаю я.
На Маттео фантастические красные лыжные ботинки, на белом снегу они выделяются кровавыми пятнами. У матери в руках огромный черный зонт. Они идут по направлению к нам, уже дорогу перешли.
– Может быть, если бы ты мне рассказал его историю, мы бы смогли об этом догадаться.
Они уже на тротуаре, мать берет в руки верхушку зонта, а Маттео хватается за ручку, как за крючок подъемника для горнолыжников, и она тащит за собой сына, скользящего своими ботинками по снегу, как на лыжах. И настолько быстро и естественно у них все это произошло: без приготовлений, без разговоров, что кажется, что она выполняет их уговор: «Пойдем же, Маттео, на улице я тебя покатаю…»
– Нет, поверь мне, – говорю я, – мы все равно ничего не поймем из этого.
Мать пятится назад, а сын, держась за ручку зонта, скользит по снегу. Ай, да молодец Маттео: он катится в неуклюжей позе, наклонившись вперед и выставив для равновесия попку назад, однако устойчиво держится на ногах, сохраняет равновесие. Он заметил мою машину, она стоит на своем обычном месте на стоянке на полпути между нами и ими. Я сунул руку в карман и нажал на брелок.
Бип.
– Возможно, ты прав, – замечает Боэссон, – однако, ты мог бы мне рассказать.
Маттео замечает, что машина с ним поздоровалась, но не рискует оторвать руку от зонта, чтобы ответить на ее приветствие взмахом руки, как он это делает обычно, – он донельзя занят своей игрой. Сейчас и Боэссон на него смотрит; он даже не разозлился, некоторое время с неподдельным интересом он наблюдает за мальчиком, а потом снова переводит на меня свой пристальный взгляд и улыбается. Теперь я уже знаю, как мне себя с ним вести, а своим поистине монашеским смирением он сам облегчает мне эту задачу.
– Я бы предпочел это не обсуждать, – отвечаю я.
Боэссон даже глазом не моргнул, как будто мой ответ это что-то само собой разумеющееся, как будто в порядке вещей, что подчиненный подчиненного одного из его подчиненных отвечает ему «нет», он даже не перестает улыбаться.
– Почему? – только-то и спрашивает он самым миролюбивым тоном.
Вот именно, почему? Потому что эта женщина, что сейчас отвечает на мое приветствие, просто героиня: потому что и сегодня, несмотря на снегопад, она вышла из дома, чтобы отвести сына на процедуру физиокинезитерапии, хотя все равно он никогда не станет нормальным ребенком, все же эти процедуры идут ему на пользу, вот и сейчас она тянет его за собой медленно, медленно так тянет, она тянет его за собой в буквальном смысле этого слова, но не как тяжкую ношу, а как разумное существо, которое, если приложить немного усилий, набраться терпения и уделять ему больше внимания, сможет веселиться и развлекаться даже больше, чем другие дети. Вот поэтому я тебе ничего не скажу. И еще хотя бы потому, что логическое объяснение, которого ты так от меня добиваешься, просто не существует.
– Привет, Маттео, – говорю я, когда мальчик проезжает недалеко от нас.
– Привет, – отвечает мне он своим гнусавым голосом. Он сияет как начищенный самовар. Боэссон наверняка только сейчас увидел, что у этого ребенка болезнь Дауна. Он улыбается, он очень удивлен.
– Какие же вы молодцы, – хвалю я мать и сына, и Маттео довольно закрывает глаза, прямо как Дилан, когда я почесываю ему шею. Женщина бросает на меня полный благодарности взгляд, потому что этот комплимент касается и ее тоже, и продолжает пятиться назад по заснеженному тротуару на противоположной стороне дороги, везя своего сына, крепко держащегося за ручку зонта, а мы провожаем их добрыми взглядами и улыбками, значит, если верить в теорию Марты, она зарядилась энергией. Наклон дороги стал круче, и женщина боится поскользнуться, она останавливается – конец игре. Кажется, что и Маттео не возражает; он выпускает из рук ручку зонта и, взяв мать за руку, послушно следует за ней; шаг за шагом его фигурка начинает исчезать за горбом дороги точно так же, как недавно взошел по этой же дороге Боэссон. А Боэссон опять смотрит на меня, взгляд у него кроткий, миролюбивый, неподвижный, нормальный.
– Эй, Пьетро! – взывает он ко мне. – Почему ты не хочешь мне это рассказать?
Он все еще улыбается. И в самом деле, кажется, что он тонкой души человек, интеллигент, тактичный и скромный. Выгляни сейчас из окна Клаудия, она бы увидела, что я стою и разговариваю со своим другом. Но ведь Жан-Клод говорил, что он параноик и страдает манией величия, а ему я верю. Я не должен обманываться: этот человек не тот, за кого себя выдает. Он – притвора, и вовсе он не скромный, а спесивый. Он один из тех типов, у кого просто какая-то патологическая потребность остерегаться всего, что бы ни случилось, – точно, как Пике. Только Пике – это мелкая сошка и способен лишь перепутать CD-ROM с подставкой для банок с напитками, а Боэссон – это финансовый воротила, он жаждет завоевать весь мир.
– Потому что эта история ничего общего со слиянием не имеет, я же тебе уже говорил. Она этого дела абсолютно не касается. Он мне доверился, рассказал по секрету свою историю без всякого умысла.
Он считает себя всемогущим, но тем не менее то, что он так хочет знать: зачем Штайнер приходил сюда, он не узнает никогда. А потому как крутости сказать ему «нет» у меня хватает, он и причину, по которой я отказываюсь открыть ему этот секрет, не узнает. Ха-ха. Похоже, что он превратился в слишком маленького мышонка. Э-э-эх, высокомерие власти иногда оказывается очень кстати, ох, как кстати: громадные машинищи, роскошь, личные водители, телохранители, еще тот характер, ох, как все это бывает полезно. Замолчал он не случайно, вероятно, размышляет, не поздно ли еще отдать мне приказание, до сих пор он ограничивался лишь вежливыми просьбами, а мне в это время в голову пришла одна мысль, она и Штайнера касается точно так же, как и его, но только в присутствии Штайнера я об этом как-то не подумал: а подумал я вот о чем: несмотря на всю их власть, ни один из них не знает причину, по которой оказался здесь. Если бы Лара не умерла, думаю я, он бы здесь никогда не оказался. Если бы она не умерла в тот день, когда я спасал жизнь Элеоноре Симончини, его бы здесь не было. Если бы рано утром я в шутку не сказал Клаудии, что подожду во дворе, пока она не выйдет из школы после уроков, и потом бы не решил поступить так всерьез, если бы на следующий день мне не захотелось повторить ей то же самое и сделать так же, и если бы тогда мне от этого не было так хорошо и привольно, сейчас он бы здесь не стоял. Его бы здесь не было и в том случае, если бы шесть лет назад мы записали Клаудию в ту же частную школу, где она проходила дошкольную подготовку, и мы бы ее записали туда, если бы в течение шести месяцев жизнь родителей Лары не оборвала одинаковая у обоих форма рака желез, поскольку за учебу Клаудии платили-то они, яростные апологеты частного образования, это был их подарок любимой внучке, и записать ее в государственную школу, не вызывая их неудовольствие, было бы просто невозможно. И если бы после смерти родителей Лары мы бы записали ее в любую другую симпатичную нам государственную школу, например, имени Россари-Кастильони, ведь она и к дому была поближе, а следовательно, и удобнее для нас, как раз туда Марта уже и Джованнино записала, но, согласно общественному мнению, которое, кстати, мы с Ларой так и не удосужились как следует проверить, там намного больше беспорядка, чем в этой, по этой самой причине мы до последнего дня не могли принять решения; и если бы, в конце концов, Лара не сказала мне: «Решай сам», – и если бы я, решая, не сделал того, о чем я ей так никогда и не рассказал, то есть не посоветовался бы с Аннализой, моей секретаршей, и не спросил бы у нее, не вдаваясь в подробности: «Какое из этих двух названий тебе больше нравится: Чернуски или Россари-Кастильони?», и Аннализа в то же утро, не имея ни малейшего понятия, о чем идет речь, не ответила со своим, как всегда, ошарашенным выражением лица: «Чернуски», – его бы здесь сейчас не было…
– Послушай, Пьетро, – снова принимается он за дело, даже на йоту не потеряв самообладания. – Я прекрасно понимаю, что ты связан словом, я также высоко ценю твое умение хранить секреты. Однако позволь и мне высказать свою точку зрения. В понедельник мы со Штайнером должны выполнить последние формальности по подписанию документов, касающихся самого крупного в мире слияния, я не преувеличиваю, именно так оно и есть: это самое крупное слияние в мире. Переговоры по этому вопросу проходили в течение девяти месяцев, и в заключение было достигнуто соглашение, по которому я должен стать президентом, а он моим вице. Ну-ка, взгляни на меня, посмотри, посмотри же на меня, пожалуйста…
Тут он поднимает руки вверх и крутится вокруг своей оси, чувственно так крутится, упиваясь своим неистощимым смирением, которое сейчас его же самого и подводит.
– Скажи мне, разве я похож на него? Ты же сам видишь, что это мы с тобой похожи. Ведь фактичноя вполне мог бы быть тобой, – у него проскользнул галлицизм, из-за такой ничтожной оговорки шпион мог бы поплатиться своей шкурой.
– Кто по профессии твой отец? – спрашивает он.
– Адвокат.
– Правда? Вот видишь? И мой отец тоже был адвокатом. Мы с тобой одинаковые. И с понедельника я, то есть ты, буду на одну ступеньку выше Штайнера. Ведь он – Еврейская Акула, Пьетро, таким он уже был тогда, когда мы с тобой под стол пешком ходили. Он принадлежит к доминантной расе. Ему никогда ни при каких обстоятельствах не приходилось довольствоваться ролью вице, никогда, во всей своей жизни. Но на этот раз сил встать выше меня у него не хватило, и ему пришлось согласиться опуститься на ступеньку ниже.
Он делает паузу, а я про себя отмечаю, что кличку Штайнера и название фильма Спилберга «Jaws» [91]91
«Челюсти» (англ.).
[Закрыть]постигла одинаковая судьба, это английское слово на итальянский было переведено словом «Акула». Два часа назад Штайнер назвал себя «the Jewish Jaws», Боэссон сейчас обозвал его Еврейской Акулой. По-моему, это не случайно. Мне кажется, так получилось потому, что Штайнер был продюсером фильма «Jaws».
– Видишь ли, – продолжает Боэссон, – я не знаю, как ты, но я родился в маленьком городке с населением в тринадцать тысяч человек. Малюсенький такой городок, где все знали друг друга. Когда мы с отцом ходили на празднование 14 июля, и я смотрел на мэра города, сидящего на сцене, я думал, что у этого человека, должно быть, больше всего в мире забот. Я думал, что, у него, должно быть, душа болела, по крайней мере, по тринадцати тысячам причин, по одной на каждого из нас. После слияния в нашем концерне будут работать около двухсот пятидесяти тысяч сотрудников, и я для них должен буду стать чем-то вроде того мэра. С понедельника буквально все, начиная с самого простого экспедитора в нашем офисе в Бангалоре, получат право быть в числе моих забот. Я должен буду позаботиться о том, чтобы каждый из наших сотрудников зарядился выработанной слиянием энергией, чтобы он был оптимистом, чтобы каждый надеялся на то, что в будущем его положение может измениться к лучшему. Мне нужно будет позаботиться о том, чтобы каждый из них работал и производил, но чтобы в то же время он стремился к вполне определенной личной цели. И я этого добьюсь, потому что я буду хорошим мэром.
Он замолчал, улыбается. Что же такое он пытается мне навешать? Да знаю я все эти слова, проклятье, уже не один раз я их слышал: я хороший начальник, мне вы можете доверять, энергия, понимание и сочувствие, если мою собаку задавит машина, это моя вина… Этими словесными трюками он и купил такого стреляного воробья, как Терри? Убедил его продать свою душу риторикой хорошего мэра провинциального городка?
– А это значит, что каждый подчиненный будет оказывать давление на своих непосредственных начальников, ты меня понимаешь? Он зарядит их своей силой, вобрав в себя которую, они, в свою очередь, разрядятся на своих начальников и так далее, все выше и выше, с одного уровня власти на другой, от одной компании до другой, и так до самой верхушки. Всех захлестнет эта волна положительной энергии, и тебя в том числе: ведь кто-то же и из твоих подчиненных надеется занять твое место, в то время как ты надеешься занять место того, кто стоит выше тебя. Я говорю с тобой, Пьетро, об очень простых вещах, все это присуще человеческой натуре, кто же не задавал себе вопрос: почему бы мне не испытать свои способности, исполняя более ответственные обязанности, не купить себе машину получше, не переехать в более просторную квартиру, или в более престижный район… А сейчас, ну-ка, представь себе давление, которое будут оказывать все эти люди наверх: ты только представь себе сумму амбиций этих двухсот пятидесяти тысяч человек, каждая из которых в отдельности будет способствовать созданию коллективного напряжения, снизу вверх, и благодаря этому напряжению мы станем поистине великими; а как нагнетается такое напряжение, знаю я…
Конечно же, именно так он его и купил. И при этом неважно, какие слова говорятся, важно, кто говорит эти слова. И точно так же через пару месяцев на конвенции, которую организуют в Биарриц или на Пальма-де-Майорка, он убедит и всех нас, солдатню в руках руководителей. Мы приедем туда в пессимистическом настроении, мрачном расположении духа, снедаемые сомнениями в отношении нашего будущего, внезапно ставшего неопределенным, и в атмосфере автоматической роскоши пятизвезд-ных гостиниц своими выспренними разглагольствованиями о прошлогоднем снеге он нас всех и облапошит, насадив на вертел, как цыплят, потому что его ораторское мастерство из этого залежалого товара сможет сделать конфетку. А мы? А что мы? Нам не останется ничего больше, как поверить ему на слово, конечно же, потому что мы своими глазами убедимся, что он сам в это верит, что в это верят Штайнер и Терри, и только один человек, который в это не поверил, оказался вором и растратчиком. Но только одно мне непонятно: как это так он мог подумать, что может убедить меня, здесь и сейчас? Но, собственно, в чем?
– Я же буду единственным человеком, кто не сможет сбросить все это напряжение на вышестоящего, потому что надо мной не будет никого. А чуть-чуть ниже меня будет Штайнер, который никогда и никому не подчинялся; и даже у Штайнера, как и у всех остальных, появится возможность зарядиться мощным коллективным напряжением, и попытаться улучшить свое положение, то есть занять моеместо.
Вот оно что. Он боится. Разумеется, и он видел, что в Интернете имя Штайнера упоминается чаще, чем его; наверное, и ему довелось испытать на своей шкуре силу его воли, он знает, что от одного его вида становится как-то не по себе, только тупицы, швейцарские банкиры, ему не подчинились, и впоследствии были наказаны за это. Ходил ты ходил, голубчик, вокруг да около, и оказалось, что и ты пришел сюда за тем же – погоревать: добро пожаловать, Боэссон, на землю боли и страдания.
– Теперь-то тебе понятно, почему мне так важно знать о любом шаге, который Штайнер предпринимает, или о любом слове, которое он произносит? Особенно, если в этом есть что-то странное?
На том сайте, что я недавно открывал, так и говорилось: охота продолжается, охотник превращается в жертву; и в этом спокойном хаосе один мужичок, одетый в черное, не может добиться от другого мужичка, чтобы тот сказал ему одну вещь, которая по существу значения-то никакого не имеет.
Он слишком уж земной, вот в чем суть.
– Конечно, я все понимаю, но повторяю, рассказ Штайнера никак не связан со всем этим. Можешь считать, что он мне закатил сцену ревности.
– Кроме шуток, – шипит он, резко отвернувшись в сторону. Это первый жест нетерпимости, вырвавшийся у него за все время нашего разговора, при подобных обстоятельствах какой-нибудь тип, вроде Штайнера, давно бы уже проехался по мне на своей «Майбах». Если подумать, то сцена ревности не так уж невероятна, как он считает.
– Я это сказал так, к примеру, – настаиваю я. – Я понимаю, что ты можешь в этом сомневаться, зачем в действительности Штайнер приходил сюда и для меня осталось тайной, поверь мне. На белом свете хватает тайн, и нам нужно просто смириться с ними.
Улыбка Боэссона искажается сарказмом:
– Итак, тайны: Тайна Непорочного зачатия; Святая Троица; Штайнер, который приходит сюда, чтобы рассказать историю…
Енох! Месяц назад здесь попросил меня рассказать какой-нибудь шишке эту замечательную вещь! Боэссон самая крупная шишка над всеми шишками…
– Кстати, – начинаю я, – может быть, переменим тему, и я тебе скажу одну вещь, касающуюся слияния?
– Валяй.
– Я могу говорить с тобой откровенно, по-дружески?
– Ты и есть мой друг, Пьетро. Друзья моих друзей – мои друзья.
Да уж. Жучара ты, лицемерный жучара.
– Видишь ли, ты правильно заметил, – говорю я. – Все верно: начиная с понедельника, все напряжение будет обрушиваться только на тебя одного, а тебе не на кого будет разрядиться. Ведь Штайнер не согласится безропотно выполнять функции вице-президента, это логично, он попытается выбить из-под тебя кресло. Сама структура концерна после слияния создает для этого предпосылки; эта самая структура, извини, что я тебе это говорю, ошибочна.
О боже, как это сказал Енох? Он не говорил структура, а пользовался другим термином…
– Как это ошибочна?
Модель. Он говорил: «Модель».
– Я имею в виду ее модель. Модель, по которой вы ее разработали.
– Да разве можно модели перебирать, когда речь идет о слиянии такого масштаба, как этот.
– Перебрать все модели нельзя, согласен, но одну из двух выбрать можно. Я имею в виду модель власти. Иерархию власти.
– Но эта самая выигрышная модель, Пьетро.
– Теоретически, да, ее можно было бы считать и самой выигрышной моделью, и в этом я нисколько не сомневаюсь; но когда же речь идет о конкретных фигурах, то есть о тебе и Штайнере, все становится как раз наоборот. Только что ты сам мне это доказал.
Я его огорошил, застал врасплох. Люди всегда теряются, когда начинаешь оперировать их же аргументами.
– Ты верующий, и говорят, ревностный католик, да?
– Я не знаю, что обо мне говорят, но я действительно верующий и хожу в церковь.
– Говорят, что ты каждый день ходишь к заутрене. Говорят, что ты молишься. Что свои отпуска ты проводишь в монастырях, предаваясь размышлениям.
– Да, это правда.
– Тогда ты наверняка поймешь то, что я тебе собираюсь рассказать. Видишь ли, и Штайнер тоже связан со своей религией, об этом и его прозвище говорит; он, конечно, не такой ревностный прихожанин, как ты, как раз наоборот. Он принадлежит к иудейской вере, а ты к Католической церкви. Ведь так?
– Да, правда.
– Тогда попробуй представить себе, что объединяются не ваши группы компаний, а ваши вероисповедания. И в таком случае, несмотря на все усилия, прилагаемые для того, чтобы все было на равных, все равно одна будет главенствующей, а другая подчиненной. Это просто неизбежно. Христос либо существует, либо его нет, ведь так? Что ж, если Иудаизм и Христианство сольются, подобно тому, как наша группа сливается с группой Штайнера, Христу – конец. В выбранной вами модели слияния фигура Иисуса Христа просто не предусмотрена.
Он ошеломлен. Все еще улыбается, но его улыбку как бы затемняет гримаса ужаса.
– Потому что выбор пал на модель иудейской веры, Патрик. – Патрик: я его назвал по имени. – Я в этом не очень-то понимаю, но одно я знаю точно, Бог-монада, всевидящий и всемогущий, практикующий напряжение по вертикали со своим народом – это Бог иудеев. Этот бог жесток, невыносим, у него практически отсутствуют средства для амортизации напряжения, которые предусмотрел католицизм, ведь не случайно же это вероисповедование сравнительно молодое, оно более современно…
О, как у меня все получается по-дубовому: мне далеко до Еноха, до его легкости.
– Еврейский бог одинок, – продолжаю я, – а в понедельник и ты, как и он, останешься один. Но он-то и так прекрасно справляется: на то он и бог. Ты же – простой смертный, а не один смертный не в силах выдержать нажим, предназначенный для бога. А это значит, что все, что ты сказал, правда, и с понедельника твоя жизнь превратится в ад: ежедневно тебя будут терзать сомнения в том, что ты, возможно, поступил недостаточно осторожно, или не оказался достаточно хитрым, или дальновидным, или сообразительным в отношении любого шага, предпринятого Штайнером…
Похоже, все же мои слова заинтриговали Боэссона. Он внимательно меня слушает, он обеспокоен, от улыбки на губах осталась только тень, это лишь воспоминание о его прежней улыбке.
– А сейчас попробуй представить, что было бы, если бы слияние произошло по модели христианства.
Надо же, он действительно пытается себе это представить, ха-ха, но, несмотря на все усилия, он все еще не видитее. Он похож на мартышку, косоглазую мартышку, уставившуюся пристальным взглядом в одну точку, вот она, загадка эволюции человека…
– Ты только что упомянул о Троице…
Сейчас самое время нарисовать в воздухе треугольник, медленно-медленно, делая упор на его вершинах точно так же, как Енох объяснял мне это, между прочим, мы тогда тоже стояли где-то здесь, неподалеку от скверика. В эту минуту Енох, должно быть, наполняет автоцистерну водой.
– Отец, Сын и Святой Дух – это надо бы произнести очень торжественно и сопроводить сияющим взглядом, как подобает при посвящении в истинно божественное откровение. – У треугольника не одна вершина, и не две, а три. Потому что с фигурой Христа появится на свет и это умопомрачительное изобретение – третье божество, которое есть только у нас, у христиан: нейтральное, абстрактное, без власти, оно существует само по себе, ни на что не влияет, но тем не менее без него не обойтись, оно-то и должно гарантировать отношения между двумя другими. А так как все мы знаем, какая судьба постигла Сына…
Здесь мне нужно сделать паузу, а потом изобразить святое распятие, разведя руки в стороны и свесив голову набок. И неважно, что моей пантомиме бесконечно далеко до выразительности и красоты Еноха. Она все равно производит на Боэссона должное впечатление.
– Ты и Штайнер, вы могли бы вместе на равных бороться за роль отца. Уже от одного этого, разумеется, можно стресс заработать, но эта борьба не настолько измотала бы тебя, как та, в другом варианте, поскольку, заметь, это крайне важно, в стрессовой ситуации были бы вы оба. Штайнеру семьдесят с копейками лет. А тебе сорок…?
Сейчас я его просто ошарашил. В буквальном смысле этого слова. Несмотря на неуклюжесть моей наживки, он целиком и полностью заглотил крючок.
– Сорок пять… – проронил он.
– Тебе сорок пять: сколько бы могла продолжаться такая ситуация? Сколько времени пройдет до тех пор, пока место Штайнера займет сынШтайнера, тот хлыщ?
Да, я его действительно ошарашил, но только вдруг замечаю, что в его изумлении есть кое-что такое, что и меня удивляет. Едва я закончил речь, глядя ему в глаза, я заметил, что мои слова просто-напросто озарили его, это же очевидно, но ведь для него само собой разумеется, что Святым Духом в этой ситуации, вероятнее всего, буду я…
– Это самая умная речь, какую я когда-либо слышал в жизни, – замечает он.
Да, невероятно, в его изумленных глазках брезжит уверенность, что я, Пьетро Паладини, претендую на третью вершину треугольника. Передо мной глаза человека, который только что услышал самое неожиданное, нахальное, безумное, но и, несомненно, умное предложение, а при таких обстоятельствах для него это не просто предложение, а провидение господне: сделай из меня бога, и тем спасешься.
– Ты просто гений, Пьетро, – сентенциозно заключает он.
Ха! Это же надо, а? Теперь уж и ему не надо больше опускаться до моего уровня: ведь я стал гением. Вот, что у него на уме, вероятно, думает Боэссон; вот почему он отказался от кресла президента и выбил у Терри разрешение сидеть здесь… Да, ничего не поделаешь, все так и есть: неважно, что я как попугай всего лишь повторил ему слова, сказанные другим человеком, и еще менее важно то, что пока я произносил свою речь, у меня даже и мысли в голове не было самому поостеречься того, что я говорю. Я ему подсказал ответ на его проблему и в обмен попросил третью часть добычи: что в этом странного? Все это в порядке вещей с точки зрения такого человека, как он: это же единственное, о чем он мог подумать. Я хреновый гений и прошу его воздать мне по заслугам. Куда там хитрожопый: я король хитрожопых… Но сейчас трудно не подумать о том, что из всего этоговытекает, я не могу избавиться от этой мысли: как жаль, что не сказал ему раньше, думаю я, когда еще было можно. Знать бы раньше, что он так легко проглотит наживку…
– Спасибо, – благодарю я, – хотя уже и слишком поздно для того чтобы…
– Ничего не поздно, – решительно заявляет мне он.
О боже…
– Ты хочешь сказать, что все еще можно изменить? Неужели еще что-то можно предпринять…
– Я могу все, – с задумчивым видом произносит он.
О боже, он задумался. Никогда не поверю. Он серьезно думает, послать все к чертям и посадить меня на место Святого Духа. С ума сойти можно: я титан, я бог. Безвластный, разумеется, деревянная суперголова, раковина без моллюска, безгласная марионетка в руках моих хозяев, ну и что, да мне на это плевать, ведь жизнь-то у меня все равно будет сказочная. Вот так, бам, просто так. Хочешь новость, звездочка? Мы с тобой переезжаем, будем жить в Париже. Личный самолет, « Майбах», личный шофер, неожиданный поток изобилия и привилегий, как в Средние века. На обложке журнала «Fortune»: Пьетро Паладини, новая фигура в международных финансовых кругах. Римлянин, 43 года, знак зодиака: рак. Вдовец, имеет дочь, Клаудию 11 лет, она чемпионка по художественной гимнастике; сын известного столичного адвоката, брат знаменитого стилиста, основателя фирмы «Барри» – что и говорить – преуспевающая семья. Диплом с отличием римского университета «Сапиенца», магистратура в Гарварде. Двенадцатилетний стаж работы в области производства телепередач, а затем огромный скачок в самые высокие финансовые круги, сейчас он, рука об руку с Исааком Штайнером и Патриком Боэссоном, стоит у штурвала самой крупной в мире группы компаний, занятых в телекоммуникациях. Он – эксцентрик: во время последнего Всемирного экономического форума в Давосе он все три дня провел со своей дочерью, катаясь на лыжах. Хобби: конный и парусный спорт, виндсерфинг. Какой длины был парусник, проплывший у меня перед глазами, когда Терри предлагал мне место Жан-Клода? Двадцать два метра? Пфу-у-у! Пятьдесятметров: трехмачтовая шхуна, пятнадцать человек экипажа на боту. Клаудия! Клаудия! КЛАУДИЯ! Жаль. Она меня не слышит, этот проклятый парусник слишком длинный, нужно будет установить переговорное устройство…








