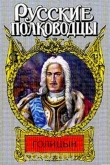Текст книги "С Петром в пути"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
С Петром в пути

Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона.
СПб., 1900, Т. XXX
 оловин Фёдор Алексеевич – замечательный деятель Петровской эпохи (ум. 1706). При царевне Софье был послан на Амур (в Дауры) для защиты Албазина от китайцев. В 1689 г. заключил Нерчинский договор, по которому уступил китайцам р. Амур до притока Горбицы вследствие невозможности вести с Китаем серьёзную войну. В Великом посольстве к европейским дворам (1697) Г., «генерал и воинский комиссар, наместник сибирский», был вторым после Лефорта полномочным послом. Вначале деятельность его посвящена была главным образом флоту; за границей он нанимал иностранцев в русскую службу, заготовлял всё необходимое для строения судов по возвращении в Россию, был назначен начальником вновь образованного военного морского приказа. В 1699 г., после смерти Лефорта, Г. был сделан генерал-адмиралом, первый награждён орденом Александра Невского, получил в заведование иностранные дела и занял первенствующее положение между правительственными лицами («первый министр», по отзывам иностранцев). В 1699—1706 гг. Г. был главным руководителем русской иностранной политики: вёл обширную дипломатическую переписку с Паткулем, Мазепой и руководил действиями русских послов: Долгорукого в Польше, Толстого в Турции, Голицына в Вене, Матвеева в Гааге; последнему поручал «распалять злобу» англичан и голландцев против врагов Петра, шведов. Г. особенно замечателен тем, что успешно действовал в новом духе, когда другие сотрудники Петра только ещё тому учились. Государь очень ценил Г., называл его своим другом и, извещая в письме о его смерти, подписался «печали исполненный Пётр».
оловин Фёдор Алексеевич – замечательный деятель Петровской эпохи (ум. 1706). При царевне Софье был послан на Амур (в Дауры) для защиты Албазина от китайцев. В 1689 г. заключил Нерчинский договор, по которому уступил китайцам р. Амур до притока Горбицы вследствие невозможности вести с Китаем серьёзную войну. В Великом посольстве к европейским дворам (1697) Г., «генерал и воинский комиссар, наместник сибирский», был вторым после Лефорта полномочным послом. Вначале деятельность его посвящена была главным образом флоту; за границей он нанимал иностранцев в русскую службу, заготовлял всё необходимое для строения судов по возвращении в Россию, был назначен начальником вновь образованного военного морского приказа. В 1699 г., после смерти Лефорта, Г. был сделан генерал-адмиралом, первый награждён орденом Александра Невского, получил в заведование иностранные дела и занял первенствующее положение между правительственными лицами («первый министр», по отзывам иностранцев). В 1699—1706 гг. Г. был главным руководителем русской иностранной политики: вёл обширную дипломатическую переписку с Паткулем, Мазепой и руководил действиями русских послов: Долгорукого в Польше, Толстого в Турции, Голицына в Вене, Матвеева в Гааге; последнему поручал «распалять злобу» англичан и голландцев против врагов Петра, шведов. Г. особенно замечателен тем, что успешно действовал в новом духе, когда другие сотрудники Петра только ещё тому учились. Государь очень ценил Г., называл его своим другом и, извещая в письме о его смерти, подписался «печали исполненный Пётр».

Глава первая
АДСКАЯ КУХНЯ
Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами...
Я повелеваю подданными, повинующимся моим
указам. Сии указы содержат в себе добро, а не
вред государству. Английская вольность здесь
не у места, как стенке горох. Надлежит знать народ,
коим оным управлять.
По мне будь хоть крещён али обрезан —
едино, лишь будь добрый человек и знай дело.
Пётр Великий
–  рова, жиды!
рова, жиды!
– Смольчуг!
– Жиды, воду!
– Янкель, падло, живей!
– Пся крев, лезут!
– Лей, вали!
– А-а-а!
– Врёшь, москаль!
– На, подавись!
– Сдохни!
– Всё, всё, всё!
– Поэль, они откатились!
Благословенна тишина. Глухое рявканье пушек вперемешку со звонким тявканьем пищалей неожиданно смолкло. И настал миг тишины, словно скинутая ноша. Его нарушил тысячеголосый хор. Музыка? О нет – рёв: на одном звуке – а-а-а-а!
Стена всё ещё курилась дымками. Ещё метались на её шири человеческие фигурки. Но не было ни дров, ни смолы, ни даже воды: всё кончилось, всё иссякло.
Под котлами тлели головешки. Дотлевали.
– Мы уходим, Поэль, мы уходим!
Он взбежал по узкой кирпичной лестнице в толще стены. Утренняя дымка истаивала. На зубцах лежал тонкий слой копоти.
Он заглянул в одну из маши куль[1]1
Машикули – навесные бойницы, расположенные в верхних частях стен и башен средневековых укреплений.
[Закрыть]. Она была вся в потёках смолы. Он втиснулся в другую, откуда лили кипяток.
Солнце ещё висело низко над землёй, и тени принимали жёсткие очертания. Кустарник, подступавший ко рву, был весь в алмазных капельках росы. Вдали дымили костры. За ними посверкивала синяя лента Днепра.
Картина дышала миром. Если бы не три тела, приткнувшиеся к стене. Их можно было бы принять за спящих. Но он-то знал: то были московиты, сражённые из амбразур подошвенного[2]2
Подошвенный бой – стрельба тяжёлыми орудиями из нижнего яруса крепости.
[Закрыть] боя.
Он высунулся по пояс. Догадка тотчас озарила: осада кончилась, московиты ворвались в крепость. Смоленск пал. Король Владислав IV оплачет его, как принуждён был оплакать московский престол.
«Где они прорвались? – лихорадочно размышлял он. – Наверное через Фроловскую воротную башню. Она почиталась главною, и слышно было, что и на Москве главная башня Кремля именовалась Фроловскою.
Говорили, что войско московитов ведёт сам царь Алексей Михайлович. И будто он милостив, и против пролития крови.
И добрым словом отворяет крепостные затворы. Слухи каким-то образом проникали сквозь почти шестивёрстную протяжённостей, опоясывавших Смоленск.
Не странно ли: волею прихотливой судьбы эти стены возводил именитый московский зодчий Фёдор Конь. Их не брали стенобитные орудия, осадные лестницы не досягали семисаженной высоты, тридцать восемь башен глядели на все стороны света зоркими глазами бойниц. И иной раз потехи ради по стенам свободно раскатывали тройки. Разъезжались, не задевая друг друга».
Голос, неожиданно окликнувший, заставил его вздрогнуть. Поэль оглянулся. Это был зайгородский староста Берко. Он оборонял этот участок стены от Пятницкой воротной башни до Водяной башни над Днепром.
– Где твои люди, Берко? – растерянно спросил он.
– Э-э, люди! Что им тут делать? – уныло произнёс Берко. – Побежали по домам. Сдали крепость москалям, сдали. И другой Берко, Ржевский, со стороны Круглой башни, тоже прогнал людей. Поляки, командиры наши, воевода Юзеф да его прихвостень Адам со всею своей командой убежали первые.
– Припас весь вышел, – грустно сказал Поэль. – Людям есть нечего. Что с нами будет?
– Сдали крепость, сдали, – ожесточённо повторил Берко, и его широкое круглое лицо в мелких ямках оспин сморщилось. – Слыхать, на честное слово. Два месяца держались, однако. А уж ничего не осталось: ни смолы, ни дров, ни пороху.
– Говорят, царь милостив, – нерешительно произнёс Поэль.
– Э! – и Берко махнул рукой. – Нам, жидам, милости ждать нечего, сам знаешь. Ни от ляхов, ни от москалей. Паны они всюду паны, – сокрушённо закончил он.
Слова в его устах звучали по особому раскатисто. Ж-ж-ж-ж-ид – удар кнута, л-лях – свист сабли, пан – пуля, ударившаяся о препятствие...
Поэль невольно повторил их про себя. И ему показалось, что в этих трезвучиях крылась судьба, её усмешка, её исход. Жид вовсе не звучало оскорбительно. Это было польским прочтением немецкого слова юде, то есть иудеи, юдеи, обратившееся в языке идиш-юдид в краткое ид. Язык идиш – язык немецких евреев-ашкеназов – победно охватывал евреев Европы. И чем, собственно, ид отличается от жид? Только этим зудящим, свистящим звуком «ж». Поляки его любили. И шипящие были у них в фаворе. Он был у себя, в Германии, Сафир, а здесь, у поляков стал Шафир. «С волками жить – по-волчьи выть», – подумал он с усмешкой. Усмешка была горькой.
Когда король Сигизмунд овладел Смоленском, его родителей – он был тогда дитятей – вместе с другими евреями из польского Люблина погнали в завоёванный город. Смоленск был ключом к Московии. Он был неприступен – таким задумали его царь Фёдор Иванович и его шурин, а потом и преемник Борис Годунов. Он пал изменою – в который раз.
– Что с нами будет? – снова переспросил он, не ожидая, впрочем, ответа, ибо ответ и так был ясен.
– Выбраться бы отсюда, – вздохнул Берко. – А куда? Нам, жидам, везде несладко. Нас нигде не ждут.
– Положимся на волю Божию, – хмыкнул Поэль.
– Еврейский Бог от нас отворотился. Чем-то мы его прогневили.
– Я знаю – чем. Тем, что родили Иисуса Христа, – всё с тою же усмешкой отозвался Поэль и носком сапога ткнул котёл с водой. Котёл жалобно рявкнул – он был пуст.
– Адская кухня, – с досадою бросил Поэль. – А где вода?
– Где? Выпили. Жара, нутро высохло.
– За два-то месяца осады весь иссохнешь.
– Тебе хорошо, ты человек умственный. Всегда при деле. – Берко поглядел на свои ладони, коричневые от въевшейся грязи, и вздохнул. – А вот куда мне приткнуться?
– Бог не выдаст – свинья не съест, – отозвался Поэль. Странное равнодушие овладело им. Будь что будет.
Кожу, небось, с живого не сдерут, как сдирали с евреев казаки Богдана Хмельницкого, – московиты не таковы. Он верил, хотел верить в милосердие царя Алексея. И прежде ловил слухи о нём, о Москве, выучился русскому языку, хоть было это нелегко, первое время он казался варварским. Потом его озарило, и пошло-поехало. Беглый русич наставлял его. Обрадовал нежданным и дорогим подарком – Псалтирью. С её страниц, захватанных до черноты, звучала сокровенная музыка.
Он знал языки немецкий, польский, французский, половину шведского, половину голландского. И вот – русский. Где-то, на самом дне его сознания тлела надежда: придёт день, когда русский будет востребован. Не настаёт ли этот день? И какое время для него наступило?
Адской кухне пришёл конец. Но угомонится ли король Владислав? Сможет ли смириться с потерею Смоленска? Или признает – вынужден будет признать – неизбежность конечную судьбы крепости.
О царе говорили ещё, что он привечает иноземцев в русскую службу. Но иноземец ли он, Поэль? Ж-ж-ж-ид! Удар кнута, плети, нагайки. Погонят ли их, жидов, из Смоленска, как бывало встарь? Короли, цари, герцоги, курфюрсты, графы сами дурны и прихотливы. Мы люди торговые и ремесленные, не без пользы для владык. С нас – с кого более! – дерут три шкуры. Мы покорны и безропотны. Мы – пленники, мы – данники. И ещё – мы пленники своего Бога, своей веры.
Как это странно – быть у Бога в плену, быть в плену у своих святынь. Однако Бог сам по себе ничего не требует. Он молчит со времён Моисея, с библейских времён. Требуют его самозванные служители, требуют дани, требуют подчинения, и все мы покорны им. Они твердят: наша власть-де от Бога. А сам Бог молчит. Его именем творятся скверные, мерзостные дела...
Эти размышления давно донимали его. С тех пор, как он читал Спинозу. И ещё Эразма Роттердамского. И Себастьяна Бранта – «Корабль дураков». Иной раз он чувствовал себя в его экипаже. Брант писал по-немецки, и ему досталось в наследство от отца нюрнбергское издание. Он плыл на корабле дураков вместе с пастором Иоганном, раввином Шмуэлем и беглым попом Семёном.
Ах ты, боже мой, как быть, как быть! Судьба дала ему бездонную память. Читанное, слышанное входило в неё, как нож в масло. Но нож-то отправлялся к собратьям, а новое знание застревало в нём в своём первозданном виде, будь то стихи или проза, молитвы и библейские тексты, затверженные в хедере[3]3
Хедер – еврейская начальная религиозная школа для мальчиков.
[Закрыть], или мысли мудрецов мира сего, вычитанные из книг.
Книги были его страстью. Он дивился этому чуду – книге. Благоговейно перелистывал страницы, словно бы впитывая их в себя, каждая буква рождала в нём свои ассоциации то с жар-птицею, то с цветком, то с пчелою, то с грузным шмелём...
Будущее не сулило ничего доброго. Он опасался заглядывать в него. Он сверялся с писаниями мудрецов, и они не обещали утешения. Утешение следовало находить в себе самом. Но мысли путались. Да и весь он сейчас пребывал в странной растерянности...
Головешки под котлами перестали потрескивать. Адская кухня погасла, варево войны иссякло. Солнце взошло, и всё стало определённей, обычней. Сентябрь – месяц осени. Но осень подрёмывала. Небо казалось ниже туч, медленно, лениво заволакивавших горизонт. Они обещали дождь. Да и ветер, реявший между зубцов и сдувавший пыль – коричневую кирпичную пыль, стал жёстче.
Он снова выглянул в ближнюю машикулю. Там, внизу, на дне не оставалось никаких примет двухмесячной осады. Да и угрожающие шумы смолкли, и воцарилась благостная тишина. Видно, ворота уже были отворены, потому что вдали, как какие-то жучки, ползали коровёнки. Их было мало, совсем мало, дюжина, не больше, они мирно пощипывали траву.
«Что же это такое? – растерянно подумал он. – Где они, где московиты, отчего всё замерло?! Словно и не было взвизга ядер, воинственного крика осаждающих, не было убитых, усеявших откосы рва... Всё это было похоже на сон, если бы не было жестокой многодневной голодной яви».
Он встряхнулся, будто отгоняя от себя наваждение, и стал спускаться вниз. На одной из ступенек – они были круты – нога подломилась, и он чуть не упал. Прихрамывая и кляня себя за торопливость, спустился наконец на каменный парапет.
Возле ближнего дома, где обитал глава кагала, его ожидала толпа единоверцев. Его – несмотря на молодость, авторитет его не умалялся, ибо незаурядная учёность в нём была признана, к тому же он был обладателем книг, их у него было много, а книги почитались за сокровище.
– Ну? – подступил к нему бородатый реб Аврум; борода его сдавала в желтизну, и весь он был жёлтый и сморщенный. – Говори! Где они, они? – повторил он с нажимом. – Что с нами будет? Говори же!
Поэль пожал плечами.
– Я столько же знаю, сколько и вы, – отвечал он. – Станем ждать.
– Ждать! Ждать! – набросилась на него дочь реб Аврума Хана. На руках у неё покоился спелёнутый младенец, а за подол цеплялся четырёхлетний Ицка. – Нам нечего жрать, дети голодают.
Поэль развёл руками:
– Что я могу? Я такой же, как все вы.
– Что ты на него набросилась, Хана? – увещевающе произнёс реб Аврум. – Разве он виноват? Спрашивай у пана коменданта, почему он так долго не впускал москалей в Смоленск.
Поэль невольно улыбнулся: несмотря на всю драматичность момента, реб Аврум был не прочь пошутить.
– Обратим наши молитвы к Богу, дабы вызволил нас из беды, – предложил старик.
И все повалили в синагогу. За ними поплёлся и Поэль. Нога тупо болела. Кроме всего он мало надеялся на Бога. Еврейский Бог был суров со своим народом, хоть и сам провозгласил этот народ богоизбранным. Но Поэль в душе не верил в богоизбранность и осуждал Бога. Да, осуждал, никому, впрочем, о том не признаваясь, иной раз даже самому себе.
Можно ли так унизить богоизбранный народ, можно ли обходиться с ним с такой жестокостью? «Если богоизбранность не самозванство, то что она такое? – думал он. – Самозванство первосвященников, гаонов. Поникли в ожидания Машиаха-Мессии, провозглашали Мессией то одного, то другого. И все они оказывались самозванцами: Бар-Кохба, Саббавай-Цви...»
Воздух синагоги настроил его на иной лад. Пахло воском, мышами и ещё чем-то, чему не находил названия. Массивный семисвечник пылал, свечи в нём оплыли до половины. Женщины с детьми грудились на антресолях. Он взглянул наверх и усмехнулся: вспомнил слова утренней молитвы: «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, что не сотворил меня женщиною».
Стояла какая-то шелестящая тишина. Люди шевелили губами, шепча слова молитвы, кто какую помнил. Потом эту благоговейную тишину прорвал голос кантора[4]4
Кантор – главный певец в синагоге.
[Закрыть]. Мелодия была плачущая, то была молитва-жалоба. Казалось, она оплакивала народ свой, его тяжкую участь, и всхлипы сменялись с тонами. Наверху в унисон с нею зарыдали женщины, послышался плач детей...
«Благословен Ты, Господи, Боже наш, премудро создавший человека, – машинально шептал он, – и сотворивший в нём многие отверстия и полости. Открыто и ведомо престолу величия Твоего, что если бы отверзлась или замкнулась одна из них, нельзя было бы существовать и стоять пред Тобою. Он, Бог мой, жив Избавитель мой в годину зла. Он моё знамя, Он мне убежище, Он мне доля-чаша, когда взываю. Руке Его вверяю дух мой, засыпая и пробуждаясь, а вместе с духом и плоть мою. Господь со мною, и я не боюсь».
– Я не боюсь, – снова повторил он. Но страх уже заполз в душу и свернулся там холодным змеиным клубком. Он ловил слухом звуки, доносившиеся снаружи. Но равномерное гудение молящихся мешало.
И вдруг его нарушил резкий звук падения, увенчавшийся глухим звоном. Поэль вздрогнул, все подняли поникшие головы. Неловкий служка уронил чашу с водой. Раввин выговаривал ему и, видно, строго, потому что юноша потупился и побагровел, а потом кинулся за тряпкой.
Бронзовая чаша снова заняла своё место. Раввин постучал по её краю, и бронза отозвалась мелодичным звоном.
– Шма, Исраэль, – провозгласил он. И люди нестройно откликнулись:
– Шма, Исраэль, шма, шма!
– Встретим же то, что нас ожидает, с подобающей кротостью, присущей нашему народу.
– А что может нас ожидать, ребе? Что? – это выкрикнул один из тех, кто был на стене вместе с Берко и поляками. – Что, кроме рабства? Что может быть хуже этого?
– Гнев Господа нашего, – ответствовал раввин.
– Да ведь он только то и делает, что гневается на чад своих! – ожесточённо выкрикнул человек. – Этот наш Царь вселенной! Ему нет дела до нас, он оставил нас!
– Не богохульствуй, Хаим! – строго отвечал раввин, тряся бородой, белой как мел. – На то Его воля. Тем щедрее будут Его милости, если мы покорно снесём посланные нам испытания.
Поднялся гвалт, начались перекоры. У Хаима нашлись сторонники, вознамерившиеся поднять бунт против Бога. В их числе оказался и Поэль.
«Эх, сюда бы Баруха Спинозу[5]5
Спиноза Барух (1632—1677) – нидерландский философ, который представлял мир в виде закономерной системы.
[Закрыть], – думал он. – Вот бы всех оторопь взяла. «Деус зиве Натура» – Бог есть Природа, – провозгласил бы он. И Ему нет дела до людей, до своего избранного народа. Ему нельзя приписывать деятельности. Бог больше времени, чем когда Он сотворил Адама... Когда мы говорим, что Бог одно ненавидит, а другое любит, то это говорится в том же смысле, в каком в Писании сказано, что земля извергнет людей и тому подобное. Бог ни на кого не гневается и не любит ничего так, как в этом уверена толпа, что довольно ясно из того же Писания».
Вот это евреи услышали из уст своего единоверца, за эти здравые суждения он и был проклят и изгнан амстердамскими раввинами. У него был славный предшественник в той же Голландии – Эразм Роттердамский. Услужливая память подсказала Поэлю нужный отрывок из Эразмовой «Похвалы глупости».
«Турки, это скопище настоящих варваров, притязают на обладание единственно истинной религией и смеются над суеверием христиан. Но куда слаще самообольщение иудеев, которые доселе упорно ждут своего Мессию и цепко держатся за Моисея...»
Он хотел бы всё это высказать перед народом. Чему же должно следовать, как не истине мудрецов? Достаточно того, что он, Поэль, владеет этой истиной и с нею соразмеряет свои поступки. Да, верно сказано: не мечи бисера... Не мудрствуй лукаво – ничья десница не коснётся тебя. Талмуд заповедал это. Он соблюдёт осторожность, и еврейский Бог прибережёт его до лучших времён. А вот наступят ли они для его племени – он в этом продолжал сомневаться.
Неожиданно сверху донёсся оглушительный визг:
– Ша! – подпрыгнул ребе. – Что там у вас, женщины? Пожар? Гои[6]6
Гой – для иудеев любой иноверец.
[Закрыть]?
– Ох, ребе, – послышался виноватый голос. – Такая большая мышь. И прямо под ноги!
– Раз под ноги, – мудро рассудил ребе, – стало быть мужчина. – И тень улыбки тронула его губы. – И не мышь, наверно, а госпожа крыса. Пани крыса, – поправился он, – шановна.
– Вы всё сказали, мужчина?
– Ну пан, пан, – согласился ребе. – Его ясновельможность. Господь наш и в самом деле прогневается, если какая-то мышь, ну пусть даже крыса, отрывает сынов его от молитвы.
И он принялся бубнить священный текст: «Тебе, сатана, Господь грозит: тебе грозит Господь, избравший Иерусалим; не головня ли он, выхваченная из огня? Вот одр Соломонов, вокруг него шестьдесят витязей Израилевых, все они держатся за мечи, опытны в брани, у каждого меч на бедре от страха... Вот не спит, не дремлет страж Израиля... На помощь твою уповаю, о, Господи, на помощь твою уповаю...»
– На помощь твою уповаю, – подхватили все. И Поэль покорно разверз уста, хоть и не уповал на помощь Господа.
«Вот, во имя Господа Бога Израилева: справа у меня Михаил, кто как Бог, слева Гавриил – Бог его могущество, спереди Уриил – Бог его свет, сзади Рафаил – исцели, Боже. А над головой у меня Шехина Божия».
– Над головою у меня Шехина Божия, – глухо прозвучало под сводами.
– Бойтесь же и не грешите. Размыслите в сердце своём и на ложе своём и утишитесь. Сэла!
– Сэла! – подхватили все: одни – машинально, другие – с упованием, с надеждой.
И Поэль подумал: с надеждой. Надежда никогда не оставляла его народ. Да и с ним пребывала. Он надеялся, ибо был молод.
А надежда не оставляет молодых. Она остаётся с ними во дни радости и бед. А ещё она пребывала с ним потому, что его вело познание. Мир был бесконечен, и открытия следовали чередою, никогда не кончаясь. Один из иудейских мудрецов заповедал: перелистывай и переворачивай книгу Науки, в ней всё, ею зри, над нею старайся, седей, не отставай от неё, ибо нет ничего благотворней её. И помни: каково напряжение, таково и награждение... Будь лучше хвостом льва, чем головою лисицы. Когда враг твой падает – не радуйся, когда он спотыкается – да не ликует сердце твоё.
Ну где они там, где? Время немыслимо растянулось. Потому что нет хуже ожидания. В тебе растёт напряжение, оно набухает, не прорываясь. И каждый удар сердца всё слышней и всё больней.
Ожидание становилось непереносимым.
– Надо послать человека, – сказал реб Аврум. Все закивали головами: послать, послать. Пусть высмотрит и доложит. Нет ли какой угрозы, нет ли казаков, этих кровожадных страшилищ.
Поэль встрепенулся.
– Пойду я, – вызвался он. – Я знаю их язык, я попытаюсь узнать их намерения.
– Они не захотят с тобой разговаривать, – засомневался раввин Залман-Лейб. – Они схватят тебя, они проткнут тебя пикой, отрубят тебе голову саблей.
«Если бы они знали, как полна эта голова, какой это кладезь премудрости! Так они меня не послушают. Скорей всего они скажут: жид, пошёл вон!»
– Нет, пускай идёт, – сказал реб Аврум. – Именно такая голова там нужна. Он сумеет с ними договориться. Он уговорит их главного не трогать нас. Кто-нибудь должен когда-нибудь оставить нас в покое.
– Он такой жидоватый жид, – возразил раввин, – жидоватый, пейсатый, в чёрном лапсердаке, под кипою.
– Скинь лапсердак и кипу, Поэль, – продолжал своё реб Аврум. – Скинь! У кого-нибудь сыщется камзол.
– А пейсы! – злорадно вымолвил раввин. – Куда он денет свой жидовский вид и курчавые пейсы? Я слыхал, что москали на дух не переносят жидов.
– А кто их переносит? Ляхи? Они нас терпят корысти ради, – возразил Поэль. – Слышно, царь московский милосерд.
– Не проще ли послать кого-нибудь из наших проныр? Вот хоть бы тебя, Янкель, – не отступался Залман-Лейб.
Янкель, обойдённый веснушками, как мухами, подросток, протискался вперёд и, дерзко глядя на раввина, бросил:
– Я мигом.
И не успел тот и рта раскрыть, как он метнулся к двери и испарился.
– Не дело это. – Поэль поглядел ему вслед, потом глянул на Залман-Лейба и повторил: – Не дело. Тут нужна основательность. Мальчишка – что он поймёт? Где они расположились?
– Дождёмся его возвращения и тогда решим, – рассудил реб Аврум.
На том и порешили. Янкель, впрочем, не заставил себя долго ждать. Он явился через какой-нибудь час и так же стремительно ворвался в синагогу, как и исчез. Он запыхался, глаза его вращались, выражая крайнюю степень возбуждения.
– Они копают могилу возле большого костёла! – выпалил он. – И ещё за стеной копают ляхи. Меня хотели схватить, но я удрал. Вот только нога... – И он воздел правую ногу, всю в ссадинах: возле большого пальца на ступне кровоточила рана.
– Много их? – поинтересовался раввин.
– Ой, много! Так много, что не сосчитать!
– Вот и всё, что мы узнали, – усмехнулся Поэль. – А нам надо знать их намерения. Тут Янкель бессилен. Пойду я. У кого найдётся камзол, пусть мне одолжит.
– Погоди, не торопись. Они хоронят своих мёртвых, и поляки – за стеной. Мы кое-что узнали, и это не без пользы. Они займутся оплакиванием мёртвых. Янкель, много могил?
– Ой, много!
– Ну да, осада была долгой. А костёлы – их бывшие церкви, – подытожил раввин. – Павших в бою принято хоронить возле храмов.
– Только не у нас, – возразил реб Аврум.
– Долготерпеливый лучше сильного, говорил Бен-Зома, а побеждающий собственный дух лучше завоевателя, – провозгласил Поэль, и все оборотили к нему лица, ибо знали, что его устами говорят библейские мудрецы: ведь он приобретал ум от всех своих учителей и наставления из книг. – Кто всех сильнее? Укротитель собственных страстей. Кто всех почтенней? Всех сам почитающий. – Произнеся это, он глянул на раввина, но тот оставался невозмутим.
И тогда реб Аврум по праву старейшины с важностью произнёс:
– Без мудрости нет страха Божия, без страха Божия нет мудрости. Без ума нет справедливости и познания. Он должен идти и пусть идёт. Я сказал.
Поэль двинулся к выходу, но у двери обернулся. Десятки глаз были устремлены на него. Он читал в них надежду. Но вдруг всеобщее внимание оборотилось на пёструю яркую бабочку. Как видно, она залетела с Янкелем. И теперь билась о стекло ближнего окна. Не найдя выхода, она обратила свой прихотливый прерывистый полёт к другому окну и стала биться о него, теряя пыльцу и яркость.
«Не так ли и мы бьёмся в поисках выхода к свободной, лучшей жизни? – невольно подумалось ему. – А наш удел – плен. Долго ли так будет»?
Он вышел и направился к Соборной горе – центру города. Улица была пустынна. Ноги мягко ступали по траве. Картина была мирной. Но когда он свернул на Торговую, война явила ему свой истинный лик.
Лавки, хозяевами которых были смоляне – как христиане, так и его единоверцы, – были разгромлены, двери сорваны с петель. Языки пламени лениво лизали упавшее дерево. Лошадь, задрав ноги в предсмертной конвульсии, лежала на боку возле одной из них. И здесь, как ни странно, было безлюдно: ни мародёрам, ни хозяевам тут нечего было делать.
Могучая Фроловская башня гордо вздымала свой шпиль, словно намереваясь проткнуть само небо. В широком сводчатом проезде, опираясь на пики, стояли стрельцы. Они не обратили на Поэля никакого внимания. На самом верху, на смотровой вышке, похожей на птичью клетку, тоже виднелись головы стрельцов.
Более всего народу, притом вооружённого, конного и пешего, толклось возле церкви Иоанна Богослова и палат епископа Льва. И церковь, и палаты, обращённые поляками в костёл, были теперь, как видно, заняты московскими людьми. И Поэль без колебаний направился туда.
Его остановил стрелецкий голова.
– Жид! – со странным изумлением воскликнул он. – Куда прёшься, жид, жидок? Э, стой! Не понимаешь по-нашему?
«Камзол не помог. Распознали-таки», – огорчился Поэль.
– По-вашему понимаю, – ответил он запинаясь.
– Ишь ты! – восхитился голова. Как видно, он был человеком весёлого нрава и чувствовал себя свободно, как чувствует себя победитель в завоёванной стране. – И что тебя сюда нанесло? Тут вашему племени делать нечего. Тут стоит наш воевода. Боярин Богдан Матвеевич Хитрово. Али ты к нему с подарком?
– Дело у меня к нему, дело.
– А важное оно? Хорошо говоришь нашим языком. И как это ты выучился?
– Я на многих языках говорю.
– Ишь ты какой резвый. Ну да ладно, ступай к боярину. Авось приглянешься. Эй, пустите жидочка к боярину, при нём оружия нету. Стало быть, мирный он. Говорит, дело к нему.
Стрельцы были на покое. И вид у них был не грозный, а скорее добродушный. Кончилась долгая осада, дан роздых, чего ж злобиться. Они – победители. Бердыши, копья, пищали поклали, пушки с возов глядели мирно, лошади у коновязей хрупали сенцо, видно, свежее, успели накосить да завялить.
Глядели на него с любопытством, беззлобно, оборачивались вслед.
В полутёмной прихожей его остановил сотский в малиновом кафтане с позументом,
– Кто таков? – щурился он. Рябоватое лицо его с кургузой бородкой изображало строгость. – Чего надоть?
Присмотревшись, он удивился.
– Отколь такой взялся? Здесь воевода боярин Хитров. Он от царя-батюшки к вашему народцу приставлен. Али ты с делом каким?
– С делом, пан добродею, с делом.
– Ну ступай тогда, коли с делом. Да гляди, боярин наш крут. Не накостылял бы...
Не отвечая, Поэль отворил массивную дубовую дверь. Прямо напротив за большим прямоугольным столом – такие бывают в трапезных – восседали трое. Они бражничали.
Стол был уставлен блюдами с жареной дичиной, ендовами[7]7
Ендова – деревянный или металлический древнерусский сосуд ладьевидной округлой формы с широким горлом, употреблявшийся для разлива напитков на пирах.
[Закрыть] с моченьями, ковшами с брагой.
– Кто пожаловал! – поднялся тучный в распояску мужик, на вид эдак лет сорока с лишком, сивобородый, насупленный, как показалось Поэлю. Черты его лица были словно вытесаны топором: грубые, резкие, неким контрастом к оплывшему телу.
Поэль несколько растерялся. Разумеется, он не рассчитывал на радушный приём, здесь можно было ожидать чего угодно, даже скорого суда со смертным приговором. Но он взял себя в руки, низко поклонился и вымолвил самым елейным тоном:
– Як вашей ясновельможности, пан воевода. От местного жидовского кагала[8]8
Кагал – собрание еврейских мирских старшин (правление).
[Закрыть]. Мы готовы служить вам верой и правдой.
Мы располагаем мастерами разных ремёсел, весьма искусными в своём деле. Мы бьём челом его царскому величеству и великому князю Алексею Михайловичу, милостивому нашему господину и повелителю...
Боярин таращился на него, челюсть отвисла, изо рта ползла струйка слюны. Весь он был удивление, как давеча стрелецкий голова.
– Отколь ты такой речистый взялся? – наконец вымолвил он. И ведь вправду жидок. Ну скажи на милость, отколь такой речистый? – повторил он. Его сотрапезники тоже поднялись и уставились на Поэля.
– Я, ваша боярская милость, учен российскому языку. – Поэль вполне оценил изумление боярина и понёсся вперёд, желая усилить его. – А ещё многим языкам европским: голландскому, немецкому, польскому, шведскому, латынскому.
– Ишь ты! – Боярин был изрядно под хмелем, а потому чувства свои выражал непосредственно. – Ишь ты, сучий сын. Жид, небось, – в палате было полутемно, – ясное дело. В вашем племени есть головастые, есть. Слыхал. А видать не приходилось.
– Забыл, боярин, – напомнил ему кряжистый мужик в кафтане нараспашку. – У его царского величества доктор жидовин, именем Данило фон Гаден, Данило Жидовин. Зело искусен в своём деле, как сказывают.
– Верно, брат, верно, запамятовал я. Я тебе вот что скажу, жидок. Государь наш великий повелел: всем смолянам присягать на верность его государскому величеству и Московскому государству. А кто сей присяги избегнет, тому разрешено со всем скарбом выйтить за пределы Смоленска на все четыре стороны. Ежели ваша братия согласна присягать великому государю, то милость его пребудет над вами. Ну а коли нет – сам понимаешь... – И он развёл руками.
– Мы все с великою радостью присягнём милостивцу нашему, великому государю всея Руси Алексею Михайловичу, – торопливо подхватил Поэль, – и на письме, и изустно, как повелишь, боярин.
– Ну вот и хорошо, вот и ладно, – довольно протянул боярин. – А кличут-то тебя как, жидок?
– Поэль, ваша милость.
– Павел, стало быть. А скажи, Павлуха, голова да два уха, пойдёшь ты ко мне в службу? Не обижу.
Предложение было столь неожиданно, что Поэль на мгновение лишился дара речи. Но сообразив, что медлить с ответом неуместно, пробормотал:
– Как не пойти, пойду.