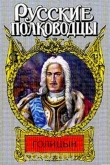Текст книги "С Петром в пути"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Глава пятая
ХИТРОВАНСТВА БОЛЬШОЕ ЗЕРЦАЛО
Как небо в высоте и земля в глубине,
так сердце царей – неисследимо.
Отдели примесь от серебра, и выйдет
у сребреника сосуд: удали неправедного
от царя, и престол его утвердится правдою.
Не величайся пред лицом царя и на месте
великих не становись... Веди тяжбу с соперником
твоим, но тайны другого не открывай...
Книга притчей Соломоновых
Что может быть глупее... чем пресмыкаться перед
народом, домогаясь высокой должности,
снискивать посулами народное благоволение,
гоняться за рукоплесканиями глупцов?..
А громкие имена и почётные прозвища?!
А божеские почести, воздаваемые ничтожнейшим
людишкам, а торжественные обряды, которыми
сопричислялись к богам гнуснейшие тираны?!
Эразм Роттердамский «Похвала глупости»
В Посольском приказе собраны были все искусники по части дипломатии, знатоки языков, нравов и обычаев в разных царствах-государствах, исследователи характеров, одним словом, люди высокого ума и таковых же способностей. Их было не так уж много на Москве. Ну, может быть, каких-нибудь два-три десятка. Царь Пётр таковых отличал, понимая, что от них великая польза и прямой прибыток. Сами себя приказные называли хитрованцами, а свой приказ – хитрованства большое зерцало.
В этом содержалась некая истина. Они тщились обыграть иноземных посланцев, соблюсти выгоду своего отечества прежде всего. В том ничего зазорного не было. Всяк ищет своей выгоды в любом деле: будь то купечество, ремесло либо переговоры. Всяк норовит переговорщика, пред ним стоящего, убедить в своей правоте и бескорыстии. И дипломатия есть своего рода торговля. Но торговля интересами. Интересами владык – королей, царей, герцогов и прочих и их владений.
Где кончается дипломатия, там начинается война. А война, как известно, дело рискованное. А вдруг Марсово счастие отвернётся, а вдруг фортуна покажет своё коварство?
Молодой царь Пётр всё это понимал, ибо ум его опередил роды, и умом он был быстр, подвижен и порою проницателен. С некоторых пор он стал единовластен: двоецарствие окончилось. Братец его – немощный и великий богомолец, яко отец его благоверный, царь Алексей Михайлович, тож царь великий государь Иван Алексеевич V тихо опочил 29 января 1696 года. Правительница и зазорное лицо, как именовал её Пётр, была в затворе.
Вот что поразило воображение Петра: его братья помирали в один день со своим батюшкой, то есть в конце января. Впрямую это касалось Ивана – он умер день в день со своим отцом. А жития его было тридцать лет. Предшественник его царь Фёдор Алексеевич прожил на белом свете и того менее – двадцать лет. А короновался он аккурат 29 января.
По правде сказать, братец Иван никак, ну совершенно никак не мешался в дела правления, ни единым словом не переча Петру. И то сказать: был он слаб головою. Сестрица Софья – иное дело. За нею был любомудр князь Василий Голицын, и она дерзко говорила его устами.
Конечно, князь Василий был голова. Светлая голова. Но голова противная, потому как блюла интерес своей полюбовницы, стремившейся захватить и удержать за собою власть, что было противно всем заповедям и обычаям на Руси. Царевны обязаны были смирно сидеть в своём дворце и дожидаться жениха из иноземных принцев. А эта за малолетством своих братьев нежданно вышла из затвора и на плечах стрельцов вознеслась в правительницы. Ума она, разумеется, была непростого, изворотливого ума. Для правления его недостало, и тогда она высмотрела головастого князя Василия и отдалась ему.
Князь же Василий далеко глядел. Он мыслил вознести Софью в царицы и женитьбою на ней закрепить сей союз, понимая, однако, что идёт против нерушимого обычая. Думая: авось кривая вывезет и фортуна обернётся к нему передом.
Не вышло. Не сумел в полной мере оценить противную сторону – молодого Петра с его окружением. Понадеялся на свой незаурядный ум, на способности свои и на изворотливость. Был ведь головою Посольского и многих иных приказав и четей[22]22
Чети – центральные государственные учреждения в России в XVI—XVII вв.
[Закрыть], был, можно сказать, истинным правителем государства Московского, и никто ему перечить либо стать поперёк дороги не смел.
Государственный ум его, истинно государственный и широкий, опережавший своё время, не помог. Царь Пётр понимал его высоту, его значение, но примириться с ним не мог, как ни уговаривали его Голицыны, не могшие снести опалы княжьего дома, и прежде всего чтимый дядька и советник верный князь Борис Алексеевич Голицын, возглавлявший Казанский приказ. Правда, князь Борис был великий бражник и весьма почитал Ивашку Хмельницкого и его греческого собрата Бахуса, но таковое лыко Пётр ему в строку не ставил. Ибо братец Франц и другие в окружении весьма тож почитали винопитие, и Пётр их почитание разделял.
Приказные жалели о князе Василии Голицыне. Он был покладист, весьма просвещён и разумен в делах посольских. Иноземцы относились к нему с великим почитанием, писали своим дворам, что столь просвещённого и мудрого управителя второго в Московском государстве нет. И дивились, что примирение молодого царя с князем не состоялось. Они посчитали, что молодой царь слишком жестоко поступил с князем и его семейством, ни в чём не повинном, кстати, сослав его на дальний Север, в Пустозерск, где одно время томились расколоучители Аввакум протопоп со присными и, не вытерпи мучительства своих стражей и обитания в земляной яме средь вечной мерзлоты, сами сожглись, а по некоторым записям, их там сожгли в срубе.
Приказные полагали, что царь Пётр чересчур ожесточился против князя Василия, и было бы полезней государству, ежели бы князь оставался при деле.
Более всего жалел о князе дьяк Емельян Украинцев. Князь приметил его понятливость и разумность и из подьячих произвёл в дьяки (от греческого – служитель), то есть в правители канцелярии, а уж потом сделал думным дьяком, то бишь советником при князе да и в Боярской думе.
Он да оба Шафировы, отец Павел Филиппов да его бойкий сын Пётр, спорили с Андреем Креветом; споры эти велись постоянно.
Кревет был царёв фаворит, из голландцев в русской службе. По справедливости он был толков, давно обрусел и своей бойкостью и сообразительностью полюбился Петру. До того, что царь писал ему из-под Азова о том, каково движется военная кампания. Он был ревностным сторонником нынешнего главы Посольского приказа боярина Льва Кирилловича Нарышкина и считал, что царёв дядюшка по заслугам на своём месте.
– По заслугам, а не по таланту, – возражали Шафировы. – Языками не владеет, только и всего что речист и за словом в кафтан не лезет. А князь-то, князь был мудр аки змей, из кажущегося тупика находил выход.
У князя были достойные предшественники: Афанасий Ордин-Нащокин, Артамон Матвеев, происхожденья весьма невысокого, однако же своими талантами оценённый царём Алексеем – он его приблизил, сделал ближним боярином и главою Посольского приказа и по скромности своей ставил в образец всем начальным людям. Несправедливо претерпел он в царствование Фёдора Алексеевича, а по воцарении Петра и Ивана был зверски изрублен обезумевшими стрельцами, дотоле славившими его яко своего благодетеля и заступника.
– Пётр Алексеевич – государь справедливый и милостивый, – говорил Кревет, – уж коли он ополчился на князя, то по его противности.
– Да разве ж мы сказываем худо про нашего государя? – возражали Украинцев и Шафировы. – Ему бы глядеть дальше и видеть зорче.
Рассудил всех переводчик Николай Спафарий. Он был старшим в приказе, под ним были прочие переводчики, толмачи и золотописцы.
– Примирю вас всех. Великий наш государь обошёлся с князем чересчур сурово, но по справедливости. Ибо князь с царевною Софьей, как открылось, злоумышляли противу него, законного государя. Но, погрузив князя в опалу на некоторое время, хорошо бы её снять. Ибо Господь заповедал и владыкам быть милосердными.
К слову Спафария прислушивались: он превзошёл многие науки и искусства, сочинил немало книг, по царёву указу наблюдал за строением книг в Славянском подворье на Никольской улице. Да и помудрел во многих странствиях своих.
Кревет, однако, не унимался.
– Вот вы, жиды, стоите за князя из чистой благодарности, – обратился он к Шафировым. – Он вас пригрел и возвысил.
– Начать с того, что мы более не жиды, а православные, такие же, как ты, Кревет, – возразил Пётр Шафиров. – Ты ведь тоже из лютерской веры исшёл. И на государя нашего, аки на Бога, молимся. Ибо он все народы к себе приблизил и никем не гнушается. Вот гляди: сам ты из голландцев, а Николай Гаврилыч из греков и молдаван, Яков Вилимович Брюс из шотландцев, Франц Яковлич Лефорт из швейцарцев, князь Бекович-Черкасский из кабардинцев, до святого крещения мурза Девлет-Кизден... Кого из царёвых прибежников ни возьми, все иноплеменники. Я из уст его величества сам слыхал: по мне, говорил он, будь хоть крещён, хоть обрезан, был бы добрый человек и знал дело. Так что ты нашим ж девством не кори, сам нам подобен. А покровителем нашим был да и остался Фёдор Алексеич Головин, коего, по слухам, великий государь прочит на место боярина Нарышкина по заслугам и уму его.
Эта тирада, произнесённая без гнева, но достойно, заставила Кревета умолкнуть. Они были все тут равны, все отмечены по своим достоинствам и все на своём месте. Все они были самоучками – автодидактами, как говорили немцы, – всех учили домашние учителя и книги, книги. Всех вела любознательность, если она была, всех она двигала по дороге познания. Университеты были в старых, почтенных городах Европы, о них на Москве не слыхивали, а если и слышали, то считали за латынское еретическое заведение.
Про университет – Парижский – толковал Спафарий, там некогда побывавший. Он будто бы называется Сорбонной, по имени его основателя духовника Людовика Святого Роберта Сорбонского, и был основан ещё в 1250 году как богословский. Но уж потом стали учить там и наукам вроде медицины и философии, математики и астрономии, лучше сказать – астрологии. И собрал этот университет под своими сводами самых высокоучёных людей не только Франции, но и других государств.
– Вот бы и нам таковое заведение, – вздохнул Украинцев. – А то варимся в собственном соку, а сок сей с душком, древнего приготовления.
– У нашего государя сильная хватка. При нём придёт черёд и университету, – уверенно произнёс Пётр Шафиров. – Он ведь тоже самоук, можно сказать. Слышно, учил его грамоте Никита Зотов, шутейный патриарх Прешбургский Иоанникит. Сам только по Псалтири и учен.
– Государь наш к наукам великую жадность имеет, – сказал Кревет, дотоле молчавший. – И уж многих учёных господ превзошёл. Никакими уменьями не гнушается, во всё вникает.
– Коли государство надобно управить, громадное проникновение во все науки и ремесла иметь надобно, – заметил Украинцев. – Государь наш это уразумел, хоть и молод.
Сошлись на том, что государь Пётр Алексеевич есть царь не только природный, но от Бога. А это куда важней. У него ум цепкий, во всё вникающий. Ни батюшка его, ни братец Фёдор Алексеевич таким не обладали. Да и сравнить не с кем. Никто из них, даже столь бывалый человек, как Николай Спафарий, в сравнения не пускался.
– Ежели в гиштории покопаться, то в летописях великую хвалу Ярославу Мудрому прочитать можно. А у греков восточных – Константину Великому.
– Не берусь сравнивать его с Юлием Цезарем, но помяните моё слово, коли он войдёт в возраст зрелости, то слава его будет греметь подобно цезаревой, – выразился Пётр Шафиров.
– Эк куда хватил! – воскликнул Украинцев. – Ты и себя небось в какие-нибудь Солоны[23]23
Солон – афинский архонт, проводивший значительные реформы (640/635 – ок. 559 до н.э.).
[Закрыть] метишь.
– Это всё время окутало легендами. И деяния знаменитых людей, окутанные им, возросли в веках, – возразил Пётр.
– Ишь ты, как цветисто выразился, – удивился Спафарий, – возьму тебя в помощники, хотя я тоже порою столь высокопарен в своих сочинениях.
– Да уж, да уж, – подтвердил Шафиров-старший, – я твои сочинения с трудом разбираю.
– А ведь Петрушка прав, – неожиданно вмешался Кревет. – Слышно, государь наш собрался в европейские страны отправиться. Вот наберётся там знаний, наглядится да наслушается, а он дивно переимчив, и на Москве всё ещё лучше заведёт.
– Вот-вот! – обрадовался Пётр. – У него главное впереди. Он всё перетряхнёт – такая уж у него хватка.
Впрочем, разномыслящих среди собеседников приказных не было. Молодой царь всеми ценился высоко. Даже теми, кто оплакивал участь князя Василия Голицына, а таких было немало меж дьяков и подьячих. От молодого государя многого ожидали, он был ныне притчей во языцех, как говорили в старину.
Ждали прежде всего перемен в управлении. Приметы были: царь перестал считаться с родовитым боярством, заседавшим в Думе. У него были свои советчики вроде Лефорта, Головина и других, в основном иноземцев. Да и досуги свои Пётр всё больше проводил в Немецкой слободе. И уж обликом стал походить на немца: обрился-оголился, щеголял в иноземном камзоле, долговязые ноги в чулках, башмаки от сапожников-иноземцев. И изъясняться стал наподобие немчина, вставляя в речь немецкие да голландские слова. Мудрено как-то.
– А что будет, – думали ревнители московской старины, – коли государь отправится в дальние страны? Он тогда, по возвращении оттуда, вовсе перестанет говорить по-российски. Насмотрится там и всё переменит на тамошний образец – он ведь с такою ухваткой не поглядит, что осрамит.
И вообще только самые приближённые к царю люди знали, что у него на уме. Да и то прямо сказать, иной раз приводили в смущение неожиданные планы царя.
Одно уж было точно решено: Азов непременно должен быть отворен для Руси. Пётр объявил, что не отступится, но его возьмёт. Такового афронта он не мог снести. Князь Василий с его неудачными крымскими походами стоял перед ним как укор. Он его хулил за неудачи, за растраты, а сам, сам... Сам осрамился, возвратясь как ни в чём не бывало. А ведь он столь же великий урон потерпел, как и опальный князь.
Велено было со всем тщанием готовиться к новому походу. Притом не отлагая. Самого себя не повысил в чине: как был бомбардир, так и остался. Не за что было производить в вышний.
И в Посольском приказе ждали перемен, о которых уж давно ходят слухи. Но, видно, молодому государю было не до них. Более всего его занимал Азов и жгло нестерпимое чувство ретирады[24]24
Ретирады – отступление.
[Закрыть], собственно, первой в его недолгой жизни. Он был чрезвычайно самолюбив, государь великий Пётр Алексеевич. Велик умом, велик и ростом.
Боярин же Лев Кириллович Нарышкин в посольские дела особо не вникал, потому как по доверенности своего племянника царя почитал себя вторым лицом в государстве и вёл жизнь бражную, праздную и рассеянную. Он охотно принимал советы, всё более от думного дьяка Емельяна Украинцева, которому доверял более остальных приказных.
А Емельяну более всего досаждали дела Украины. Гетман Иван Мазепа был человек не очень уживчивый и постоянно обременял своими жалобами посольских и самого Льва Кирилловича. Тот призывал Украинцева, говоря ему:
– Ты есть кто? Ты есть Украинцев, а потому с Украиной должен разобраться без моего вникания.
Мазепа тем временем жаловался на князя Юрия Четвертинского, зятя бывшего гетмана Самойловича, сына киевского митрополита Гедеона, что тот рассевает о нём, Мазепе, недостойные слухи, будто скоро его отставят и вернут прежнего гетмана. Все его страхи и сетования начались после того, как в Киеве нашли подмётное письмо с обличениями Мазепы в измене. В письме этом на царское имя говорилось:
«Мы все в благочестии живущие в сторонах польских благочестивым царям доносим и остерегаем, дабы наше прибежище и оборона не была разорена от злого и прелестного Мазепы, который, прежде людей наших подольских, русских и волынских бусурманам продавал, из церквей туркам серебро продавал вместе с образами... Другие осуждены, а Мазепу, источник и начаток вашей царской пагубы, до сих пор вы держите на таком месте, на котором если первого своего намерения не исполнит, то отдаст Малороссию в польскую сторону...»
Воевода киевский, князь Михаила Ромодановский письмо это переслал в Москву. Из Посольского приказа тотчас выехал с ним подьячий Михайлов, дабы дознаться, не в самой ли Польше письмо это писано. Гетман сильно взволновался и стал уверять, что Москве предан всею душою до потрохов включительно.
Меж тем Пётр толкам этим не поверил и Мазепу держал в доверенности. «Вечный мир» с Польшею следовало блюсти незыблемо, его заключил ещё в 1686 году дальновидный князь Василий Голицын, справедливо полагая, что на рубежах Руси нет более сильного противника. К тому же королём Польши был воинственный Ян Собеский, чьи победы над турками под Веной и под Хотином были всем памятны. Правда, ему было уже далеко за шестьдесят, но говорили, что он всё ещё бодр хотя бы духом.
Ссориться в Польшей Петру не хотелось в предвидении схватки с турками. На московских рубежах был ещё один грозный противник – Швеция. С остальными – с Данией, например, – они были союзническими, с остальными, мелкими, тоже поладили.
Меж тем были известны притязания короля Яна III на Малороссию. В своё время удалось перехватить его грамоту к протопопу Белой Церкви, где было писано: «Нет такой цены и такого иждивения, какого бы я пожалел на воздвигнутие воинства казацкого противу царя и всего народа российского».
Было доподлинно известно о кознях поляков. О них доносили доброхоты молодого царя. Посольский приказ – его чуткое ухо и верный глаз – насторожил свой слух и зрение в сторону двух самых опасных своих соперников, если не сказать врагов: Польши и Швеции.
В кознях были более всего причинны князья и графы, кастеляны и старосты, расшатывавшие королевскую власть. Король Ян, столь победоносно бивший турок при Хотине, Львове и Вене, был не в силах утихомирить собственную шляхту. На сеймах и сеймиках она вопила «Не позволим!», что бы ни предлагалось от имени короля. А он был уже на ущербе, возраст давал себя знать, сторонники его было немногочисленны, как бывает, когда власть начинает шататься.
Правивший в Швеции Карл XI, напротив, сумел наконец утихомирить свою знать. В годы его малолетства она, заседавшая в государственном совете, правила от его имени. То было постыдное правление, отличавшееся неимоверной вздорностью. Шведы задирались со своей недавней союзницей – Францией, с Данией и Бранденбургом, с Голландией. Причём все свои военные кампании они позорно проигрывали.
Войдя в возраст и перехватив бразды правления, он повёл себя как умный государь. Прежде всего он укротил дворянство, отобрал у него похищенные им государственные земли. Потом стал пополнять казну, совершенно истощённую в годы регентства с его разорительными и проигранными войнами. Шестидесятитысячная армия при нём являла собой грозную силу, и соседи Швеции ведали об этом и не посягали на её пределы.
Но из Стокгольма приходили вести неутешительные. Король будто бы был тяжело и опасно болен, и придворные медики прилагали все свои способности, чтобы поставить его на ноги. Будто бы он был разбит параличом и потерял дар речи. Но у него не было столь способного и изворотливого канцлера, как у его бабки, прославленной королевы Христины Августы.
О ней рассказывали легенды, дошедшие до Москвы, где царствовал тогда благоверный государь Алексей Михайлович, батюшка нынешнего царя. Тогда Русь была упокоена со стороны шведов и царь был в приязни с королевой.
Старые дьяки и подьячие Посольского приказа вспоминали о ней со странным умилением. Хотя чему было умиляться? С одной, правда, стороны, королева Христина вела себя на троне чрезвычайно разумно, и страна при ней достигла известного процветания. Она была просвещённой правительницей, приглашала ко двору учёных, литераторов и сама была не только меценаткой, но и собирательницей, притом взыскательной, произведений искусства прославленных мастеров Италии, Голландии и других стран, где оно процветало. Она сумела зазвать к себе прославленного французского философа Рене Декарта. Он и умер в Стокгольме, обласканный королевой.
Но женщина на троне?!. Некий пришлец из Италии, отличавшийся мужской статью и красноречием, сумел увлечь королеву, а затем сделать её своей полюбовницей. Христина потеряла голову, отреклась от престола в пользу своего кузена, будущего короля Карла X, и, можно сказать, бежала с полюбовником в Рим, а затем в Париж.
Конец её был трагичен. Шестидесятитрёхлетняя женщина, не вынеся измен своего полюбовника и погубителя Мональдески, убила его и себя. Это случилось как раз в год падения царевны Софьи – 1689. Шведы о ней жалели.
Жалели и на Москве: с той стороны нечего было опасаться в недолгие годы её правления. Теперь не то. Теперь приходилось гадать, каков будет преемник Карла XI. Об этом подростке слухи были определённы. Говорили, что он задирист и воинствен, что всё время проводит в воинских экзерцициях.
Возраст! Мальчишество! Пётр сему не удивлялся. Однажды он сказал Лефорту:
– Коли Карлуша станет королём, мы с ним схлестнёмся непременно. У нас характер схожий. Токмо я намерен чрез шведов пробиться к морю, что полагаю справедливым, ибо те пределы есть отчие, а брат Карл станет тому противиться.
При этом разговоре присутствовал дядька царя правитель Посольского приказа Лев Кириллович Нарышкин. Он и наказал Кревету и прочим особо блюсти шведскую сторону.
– Оттоль грядёт опасность. У старого короля войске скроено на новый образец, а его наследник задорен, как сказывают наши конфиденты[25]25
Конфиденты – доверенные люди, осведомители.
[Закрыть].
Стали чутче ловить вести из Швеции. Езживали туда и торговые люди, с коими были родственно связаны Шафировы, отец и сын. Те люди были приметчивы, они в Стекольне, как в Москве именовался Стокгольм, свойственников имели. А те свойственники имели ближних аж в королевском дворце, и мимо них ничего не проходило. Дворец тот был расположен на одном из островов, коих немало в той стороне, и построен в 1653 году.
Двор у нынешнего короля был немногочислен. Он приблизил к себе министра Вальдсена, лейб-медика фон Штадена, родом немца, и француза де Мерона.
Торговые люди всё, что могли, выведали у королевской прислуги. Известное дело: челядь всегда держит нос по ветру и обо всём осведомлена иной раз лучше, нежели министры двора.
– Торговые люди суть переносчики вестей, – выразился Пётр, когда ему доложили о том, что было выведано. – Однако же надобны особливые конфиденты в самом войске шведском. Да и в польском не худо бы, и сложить им награждение мягкой рухлядью – тамо она взамен золота идёт. За важное предостережение – сорок соболей. Аккурат шуба с остатком.
– Трудно, государь, конфидента вербовать. А вдруг донесёт? – опасливо заметил Лев Нарышкин.
– Коли вербовщик бойкий да находчивый – ништо. Да ещё при нём манок изрядный – неможно сплоховать. Служба конфидентов – важная служба. Они в государстве свои люди, не то что пришлецу. За нашим-то доглядчиком тамошние станут доглядывать. А за своими кто ж?
Решили всё-таки послать и своих – и для вербовки, и для представительства. В Стокгольм, с согласия шведского резидента Киперкрона, дьяка Семернина.
Для догляда и доклада. Потому как король Карл, по всем известиям, был не жилец. Велено было дьяку сблизиться с наследником престола юным Карлом тож и всяко улещать его. И даны дьяку для улещения немало сороков соболиных и куньих.
Но будущий Карл XII на мягкую рухлядь не польщался. Он был боевит и задирист. Его прельщали охота и другие кровавые потехи. Во дворец пригоняли баранов и телят, и Карл с ровесниками тренировал свою руку: с маху рубил им головы саблей. А то верхом его орава неслась по улицам Стокгольма, срывая на ходу парики у бюргеров. Бесчинства в королевских замках вошли в обычай: рубили мебель, били стёкла, срывали кафтаны у слуг... И никто не мог утихомирить сорванца и его команду: королю, не покидавшему постель, было не до него, да и придворные опасались огорчать своего государя. Они заранее оплакивали его: смерть в расцвете зрелости, в сорок два года, и в расцвете могущества...
Правда, Киперкрон не одобрял своего монарха. Он был из той части дворянства, которое по королевскому указу было лишено государственных земель, земель коронных. Это касалось как самих шведских аристократов, так и лифляндского, курляндского и эстляндского баронства. Карл XI был неумолим. И благодаря своей непреклонности сумел основательно поправить государственные дела. Он был основательным королём.
Его наследник, как видно, будет совершенно иным. Пётр с неувядаемым интересом ловил вести о наследнике, приходившие из Стокгольма.
– Драчлив мальчишка, драчлив. Воинствен, далеко пойдёт, – говаривал он; будучи на десять лет старше молодого Карла, он видел в нём повторение своего отрочества. Однако в том была только задиристость без любознательности, без желания проникнуть в суть человеческих дел. А одни только задиристость и воинственность не украшают монарха и неумолимо ведут к обнищанию государства.
– Гляжу вперёд: придётся с ним схлестнуться. Взойдёт на престол родительский и станет воевать, ибо других себе занятий не найдёт, – убеждённо заканчивал Пётр.
– Похоже, государь, что так оно и будет, – вставил Фёдор Головин. Он всё чаще и чаще был вызываем к Петру для совещательных разговоров. Был тут и Киперкрон, набивавшийся в последнее время в дружбу с власть имущими. В предвидении кончины своего короля и перемены власти в Швеции он прощупывал намерения молодого царя. Хочет ли он сближения с Швецией? Хочет ли мира с ней? Или у него воинственные намерения? В последнем случае ему бы стоило остеречься: Карл XII заведёт такое войско, которое станет первым в Европе. Да ещё остерегал от происков шведского капитана Иоганна фон Паткуля, который намерен взбунтовать шведское рыцарство против нынешней власти и вернуть ему отобранные Карлом XI земли и привилегии. Этот Паткуль намерен пробраться и в Россию и побуждать русских идти войною на шведов. Он авантюрист и беглец, в Швеции он будет предан смертной казни.
– Пока что сей Паткуль на Москве не появлялся, а коли появится, мы его управим, – отвечал Пётр.
– Ещё, великий царь, прибегаю с докукой, – продолжал Киперкрон. – В Молдавском княжестве есть город Сучава. Говорят, он был некогда его столицей. Там чеканят шведскую монету – солиды из фальшивого серебра – и засылают её в ваше государство...
– Эвон как! – оживился Пётр. – А разобрать-то можно ли, подлинно ли она ваша, шведская?
– Блеска в ней нет, тусклая она.
– А от кого чеканят?
– От Христины королевы, от Карла Густава, от Густава Адольфа и иных наших королей.
– Это пусть торговые люди разбираются, а нам пресечь сего неможно, – отвечал Пётр. – Ловить перевозчиков сей монеты рук нет.
– Коли речь зашла о монете, – вступился Лев Нарышкин, – то не пора ли и нам, государь, с твоею царскою персоною монету чеканить? А то что наша копейка – срам! Ни виду, ни весу не имеет, дунешь – улетит. Да ещё ухитряются её разрубить: чихнёшь – и нету.
В самом деле: российские деньги были и смехотворно малы и разномастны. Чеканились от имени Петра и Ивана; тонкая серебряная проволока разрубалась на бесформенные кусочки.
Из Нерчинска стало притекать серебро, открытое там Фёдором Головиным. Но текло оно хилым ручейком, и на все побуждения усилить его не получалось ответа. Далеко был Нерчинск – не достать. А монета, столь же приглядная и полновесная, как западные ефимки – йохимсталеры, шиллинги и риксдалеры, – была нужна позарез, ибо деньги, как не раз говаривал царь Пётр, были артерией его войны. А война с турком – вот она. Азов во что бы то ни стало должен быть русским. И прилегающие к нему земли – тоже.
– Пора, пора, – подтвердил Пётр. – Чеканить рубли, полтины и полуполтины, гривенники и алтыны, копейки и деньги до медных полушек. Дабы монету нашу уважали и ходила она наравне с талерами. Завесть монетные дворы где сподручней. Надзор учредить, дабы монету не портили. Вот поедем за рубеж, тамо выучимся и этому делу. Где давно да и с уменьем оно ведётся и к нему разные хитрости приспособлены. А то у нас рука мужика на всё про всё, – и он засмеялся.
– Без неё, руки мужика, тоже не обойтись, – заметил Фёдор. – Она на всё горазда. И государство подпирает. Ему бы воли поболее.
– Ишь как заговорил, – нахмурился Пётр. – Ныне ему воли не видать. Не то время. Ныне нам всем напружиться надобно, дабы державу нашу из трясины вытянуть да в ряд европейский установить. Не то нам все на загорбок сядут. Те же шведы норовят. Хоть батюшка наш, царство ему небесное, мир в Кардисе (местечко такое под Юрьевом, он же Дерпт и Тарту) подписал и тем честь нашу порушил: три года воевали со шведом, и всё занапрасно – пришлось отдать все завоёванные в Ливонии города и крепости, тот же Юрьев, Мариенбург и иные.
– А всё потому, государь милостивый, что великий государь-батюшка твой затеял и войну с Польшею: негоже было ополовинивать рать, – назидательно произнёс Лев Нарышкин. – И упаси тебя Бог от таковой войны на две стороны сразу.
– Поляки вознамерились отобрать у батюшка Малую и Белую Русь, так что в войне с ними он не причинен. Да и Божий промысел в те поры его миновал. Стрельцы худо воевали. Они не воинский, а торговый интерес имеют, в бой идут разряженные, а один покажет зад, за ним остальные в ретираду.
Заговорили снова о шведах. Посольства посольствами, а конфиденты важней. Они вглубь вгрызаются, а послы поверху глядят.
А из поражений армии шведской при регентстве риксдага[26]26
Риксдаг – парламент в Швеции.
[Закрыть] надобно извлечь урок. Заключается он в том, как сказал Пётр, что коли много голов, каждая мнит себя главной и важной, а от того и рознь в мыслях, и все вертятся в разные стороны. А раз нет истинно начальной головы, способной избрать самый разумный манёвр, а это голова короля, то и баталии проигрываются.
С этим были согласны все. Но втайне каждый думал, что именно он есть обладатель начальственной головы.
– Я обид для чести российской, её умаления не допущу, – решительно молвил Пётр. – Из Азова урок вывел: не зная броду, не суйся в воду. Доподлинно не разведал, какова сила турок, отколь их брать надо. Отныне научен: прежде чем открывать кампанию, надобно семь раз отмерить, прежде чем резать, да. Из каждого деяния должно извлекать урок не токмо из виктории, но и из побитий.
– Истинно так, государь, – согласился Фёдор Головин. – Истинно так. Сколь раз я оскользался, но всякий раз, потирая бока, думал: шёл слишком торопко, не глядел под ноги и по сторонам, вот и грохнулся.
– И я не один раз зарывался, оскользался, падал, но восставши точно так прозревал. Видел, где моя ошибка коренится.
– Так что, государь милостивый, Паткуля, коли объявится, пригреть? – спросил Лев Нарышкин.