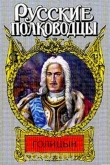Текст книги "С Петром в пути"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Глава двенадцатая
...БЫТЬ ЕМУ ГЕНЕРАЛИССИМУСОМ!
И восстанет царь могущественный,
который будет владычествовать с великою
властью и будет действовать по своей воле...
И все потопляющие полчища будут потоплены
и сокрушены им, даже и сам вождь завета...
Книга притчей Соломоновых
Страдаю, а всё за Отечество! Желаю ему полезное,
но враги демонские пакости деют. Труден разбор
невинности моей тому, кому дело сие неведомо.
Един Бог зрит правду.
Пётр Великий
Это Шеину. Боярину Шеину Алексею Семёновичу. Возглавил он войско московское и повёл под Воскресенский монастырь, где стояли мятежные стрельцы.
А пока оно брело, воздымая пыль ногами и копытами, пока бояре на всякий случай – то ли пожарный, то ли бунташный с непременным пожаром – поразъехались по своим вотчинам, подмосковным и иным, по Москве ползли слухи один другого сердитей. Говорили, что и патриарх, и некоторые архиереи стали на сторону мятежников. Потому-де государь отшатнулся от православной веры и предался иноземцам; оттого в народе брожение, в войске стрелецком тоже, что донские казаки, соединившись с запорожскими, поднялись и двинулись к Москве. А ведёт-де их сам пан гетман Мазепа. И клянут они на чём свет стоит иноземцев, кои царя совратили, и грозят всех их извести и домы их сжечь, а ненавистный Кокуй, волчье логово, их смести с лица земли, а место то распахать и засеять, дабы и памяти не осталось.
Вместе со слухами ползли страхи, и все, у кого был повод опасаться, позапирались на замки и запоры, позадвигали засовы и щеколды. Известно: у страха глаза велики.
Павел Шафиров тоже запёрся в своём дому, уговорившись прежде с греком Николаем Спафарием оповестить друг друга, если опасность надвинется.
Казалось бы, чего опасаться Спафарию. Он был православный, греческого исповедания. Однако сообща рассудили: стрельцы народ тёмный и не станут разбираться. Для них он всё едино иноземец и вдобавок чернокнижник – какие-то там книги стряпает мудреные – не поймёшь чего.
Павел пробовал молиться, несмотря на своё неверие. Начал с Иисуса Христа. Просил его защитить чад и домочадцев, изъявлял готовность сам пострадать за них. Однако никакого знака, что молитва принята, не последовало, хотя ждал он довольно долго. Потом обратился к Саваофу с теми же просьбами. И опять ничего, полное безмолвие.
Икон у него в дому было достаточно. Была и Богородица с младенцем Иисусом. Чин у неё был: Утоли моя печали. Очень нравился Павлу этот образ. Была ещё и Умиление. И хотя, глядя на неё, полагалось умиляться, он сего чувства не испытывал.
А вот Утоли моя печали действовала на него умиротворяюще. Была в ней какая-то утешительность, тихая и нежная скорбь. Так она пленяла его, что иной раз он прикладывался к её лику сухими губами. Говорили, что икона эта письма суздальского, тонких суздальских изографов, и что возраст у ней почтенный.
Павел долго простаивал перед нею. Иной раз казалось ему, что уста её задвигались, и он жаждал и ждал услышать её божественное слово. Но потом опоминался, понимал: слишком напрягал глаза, оттого и дрожание. От напряжённого ожидания слова. Слово должно било исторгнуться из сжатых уст.
Ожидание было напрасным. Уста не размыкались. Слово – желанное, жданное – не звучало. Взгляд, казалось, обещал нечто. Но и обещание это не исполнялось.
Не снизойдёт ли Яхве – бог жидов, его былых единоверцев? Ведь он должен исполниться милости к бывшему сыну богоизбранного народа. Ясно, он отринул перекрещенца. От него, естественно, нечего было ждать и не на что надеяться.
Ну кто-де, кто же подаст наконец знак, что молитва услышана и что помощь будет подана?
Да никто не подаст помощи. Ибо уши божеств отклонены от людей и скотов. Они там, наверху, заняты, как видно, своими делами, непостижимыми для человечества с его несметными пороками. В который раз Павел убеждался в этом, жизнь его продлилась далеко за середину, и вот оно уже рядом – дряхлое старчество.
Снова и снова размышлял он над бытием богов. И всё глубже и глубже проникала в него мысль об их земном происхождении. Оказывается, жрецам было проще всего объяснить непознанное вмешательством Вседержителя, Всемогущего и Всесущего. Он снова вспомнил изречение одного из столпов христианства, именем Тертуллиан: «Верую, хоть и абсурдно!»
Абсурдно думать, будто иконописный Бог вдруг сойдёт со своего изображения и станет творить чудеса. Абсурдно ждать от него слова, а тем более пророчества. Бог, разумеется, нужен. Он нужен прежде всего его слушателям. Он нужен отчаявшимся людям, у которых не осталось другого прибежища. Он нужен светской власти, дабы держать в узде подданных своих. Он нужен для того, чтобы держать людей в страхе. В страхе Божием!
Павел устал от этих размышлений. Они то и дело затопляли.
Помощь могла прийти только с земли. Её могли принести только человеческие руки. Шеин и Гордон. Павел повторял слова своего духовного отца: да приидет одоление над супостатом!
– Да приидет одоление над супостатом! Да приидет... – Он повторял и повторял эти слова, втайне надеясь, что у них есть достойные исполнители.
Они были. Медленно двигалось воинство к Воскресенскому монастырю, где, по одним сведениям, стояли, а по другим – окопались мятежные стрельцы, четыре полка, из коих уж бежали самые благоразумные либо самые трусливые.
Воскресенский монастырь был избран стрельцами неспроста. Это было детище мятежного же патриарха Никона, его Новый Иерусалим. Мощны его стены, не пробить их ни ядром, ни тараном, укроют они многотысячное войско бунтовщиков. Да и бунтовщики ли они, если разобраться по справедливости? На Москве у них семьи – жёны и детки малые, престарелые родители, с ними они более года не видались. На Москве был у них и прокорм достойный. А ныне они страждут в холоде либо в жаре несусветной да в голоде. Доколе будут держать их в нелюбимой стороне, вдалеке от родного дома?! Нету мочи терпеть! – вопили они, вопили – стенали, однако ещё не помышляя о бунте. Бунт явился тогда, когда Ромодановский стал приневоливать их. Просились они в Москву хоть ненадолго, повидать своих детишек, переспать с жёнами, наконец. На что им естество дано? Сколь можно жить без бабы? Это бояре должны понимать!
Бояре, однако, знать ничего не хотели. Не хотели мирволить стрельцам. Войско они или не войско? Должен быть для них устав? Войско обязано беспрекословно повиноваться своим начальным людям.
Сколь можно?! Сколь можно терпеть гнёт боярский? Гнёт иноземца поганого Францка Лефорта?!
Взгромоздился на бочку Артёмка Маслов, вынул из обшлага бумагу, потряс ею. Близ него сгрудились свои – сотня.
– Чти, Артёмка! – стали кричать: раз бумага, стало быть, в ней нечто важное. Бумаги без важности не бывает.
– Во, благодетельница наша царевна Софья Алексеевна, из затвора своего отписала нам. Была она правительницей – мы и горя не знали. Государством правила мудро, иноземцев не жаловала, а жаловала нас, стрельцов. И князь Василий Васильевич Голицын был к нам благосклонен.
– Ведомо нам, ты чти, чти! – вскрикнули из толпы.
Артемий развернул бумагу и стал читать:
«Ведомо мне учинилось, что ваших полков стрельцов приходило к Москве малое число; и вам бы быть к Москве всем четырём полкам и стать под Девичьим монастырём табором, и бить челом мне идтить к Москве против прежнего на державство; а ежели бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали с ними бы управиться, их побить и к Москве быть; а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
При последних словах заревела толпа в один голос:
– М-а-атушка! Государыня наша!
– Ну как, братцы? – крикнул Маслов.
– Пойдём!
– Всех побьём!
– Изрубим иноземцев в куски!
Однако биться с солдатами, по зрелому размышлению, раздумали: несходно-де. А порешили сначала послать ходока в Москву разведать, чем солдаты дышат да не хотят ли быть со стрельцами заедино против бояр да чужеземцев. Солдаты тоже народ подневольный, глядишь – и сами возмутятся.
Вызвался стрелец по кличке Пузан. У него и в самом деле брюхо из кафтана выпирало. Да только вернулся он ни с чем. Братки-солдаты из Бутырской слободы сказали ему: вы как хотите, мы сами по себе, и нам бунтовать неможно, нас всего лишат.
Тырк-мырк, туда-сюда, из ворот в огород, из огорода в рот. Куда деваться? Двинулись было, ощеря пики, сажен с сотню прошли и встали, а потом и назад похиляли.
Тем временем царское войско во главе с воеводой Шеиным при генералах Гордоне да князе Кольцове-Масальском не шибко, не торопко, а приблизилось к Воскресенскому монастырю.
Стрельцы окопались за рекой Истрой – архимандрит за стены их не допустил. Объявил: гнев государев и так над нами довлеет, примем вас – он ещё пуще разгорится.
Стрельцы били челом Шеину. Терпели-де они всякую нужду, а ныне мочи нет терпеть. Изгалялся над ними воевода Ромодановский всяко, селил по сто пятьдесят человек на одном подворье, велел отобрать всё оружье, припас, даже знамёна, а коли станут поступать по не его – коннице рубить безо всякой пощады.
В лагерь стрельцов отправился Пётр Иваныч Гордон. Но ему там веры не было, сколь ни упражнялся он в красноречии, сколь ни называл бунтовщиков безумцами, коим не избежать гнева государева. Он-де и так на них злобится по старине их, а ныне никак не стерпит. Болтаться-де им на виселицах либо лишиться голов на плахе.
Но Гордон был ошикан. Нехристь-де он, с Лефорткой заодно, а мы свою волю соблюдём и на Москве побываем, хоть душу отведём. А потом пойдём куда пошлют, хоть на край земли.
Отправил боярин Шеин к стрельцам другого уговорщика, чисто русских кровей, князя Ивана Михайловича Кольцова-Масальского, подлинного генерала. Открыл было князь рот, дабы начать свои уговоры, как встал перед ним десятник Василий Адрианович Зорин, дюжа уважаемый всеми, и князь рот захлопнул. А Зорин стал читать жалобное челобитье:
«Бьют челом многоскорбие и великими слезами московские стрелецкие полки: служили они, и прежде их прародители, и деды, и отцы их великим государям во всякой обыкновенной христианской вере, и обещалися до кончины жизни их благочестие хранити, якоже содержит святая апостольская церковь; и, будучи под Азовом умышленном еретика, иноземца Францка Лефортка, чтобы благочестию великое препятствие учинить, чин их московских стрельцов подвёл он, Францко, под стену безвременно, и ставя в самых нужных в крови местах, побито их множество; его ж умышлением делан подкоп под их шанцы[36]36
Шанцы – окопы.
[Закрыть], и тем подкопом он их побил человек с 300 и более. Его же умыслом на приступе под Азовом посулено по 10 рублёв рядовому, а кто послужит, тому повышение чести, и на том приступе, с второю сторону они были, побито премножество лутчих, а что они, радея ему, великому государю, и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он оставил. Он же, Францко, не хотя наследия христианского видети, самых последних из них удержал под Азовом октября до 3 числа. А из Черкасского пошёл степью, чтоб их и до конца всех погубить, и идучи ели мертвечину, и премножество их пропало. Азов привалом взяли и оставлены город строить, и работали денно и нощно во весь год пресовершенною трудностию. И из Азова... велено им идти в полк к боярину и воеводе князю Ромодановскому... и они радея ему, великому государю, в тот полк шли денно и нощно, в самую последнею нужду осенним путём, и пришли чуть живы; и будучи на польском рубеже, в зимнее время в лесу, в самых нужных местах, мраком и всякими нуждами утеснены служили, надеясь на его, великого государя, милость. Они же слыша, что в Москве чинится великое страхование и от того городи затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость; им слышно же, что идут к Москве немцы, и то знатно последуя брадобритию и табаку во всё совершенное благочестия ниспровержение».
Когда читал это Зорин, нашла на князя икота. С чего бы это – со страху либо с умиления? Да нет, потом он понял: Зорин потребовал, чтобы боярин Шеин зачёл сие челобитье перед всем своим войском.
– Сие не можно, – наконец выговорил князь. – Ик... ик... сие не можно, – повторил он.
Дело заваривалось круто. Францко Лефортка – первейший друг царя, а на него падает обличение. Это всё равно что обличать самого царя. Это злокозненный умысел, это государственная измена, это ниспровержение власти и закона. Ясное дело: всякие переговоры не то что бесцельны – они опасны. Тут должны говорить не люди, а пушки.
Повелено было служить молебен за победу над супостатами. Протоиерей Акинфий заколебался было:
– Господине, как же так, то есть не супостаты, а русские воины. Заблудшие овцы. Их надобно пасти добрым словом, увещанием.
– Какое такое увещание, отец Акинфий! То бунтовщики. Восстали они противу государя! Нет им пощады! – совсем уж вызверился Шеин. – Служи как сказано, и всё тут!
Делать нечего. Вышел протоиерей с причтом и хоругвями к растянувшемуся в поле войску, взошёл на дровяной помост и слабым голосом провозгласил:
– Крепость и держава мужественная, буди твоим людям пренепорочнам, сила и оружие и меч обоюдоострый супротивные полки да посечёт... Но стена неразрушимая и непобедимая стойте противу супостатов, лютых и безбожных шатания...
И вдруг осёкся. Всё это вылетало из уст его как бы само собой, а тут нежданно вмешалось сознание... Какие же они безбожные? Все возросли в лоне православной церкви, все крещёные и свято обряды чтущие. Нет, это не те слова! А какие те? Он совершенно запутался и не знал как быть.
А тут ещё отец дьякон, маша кадилом, громко возглашает:
– Господу помолимся! – Шепчет: – Ну же, отче, ну же. Эвон уж и воевода спешит к нам, недоумевает...
Шеин скорыми шагами приблизился к протоиерею и начал укоризненно:
– В людях смущение. Что это вы, отец Акинфий, запнулись? Или вам квасу испить надоть?
Отец Акинфий не отвечал. Лицо его то багровело, то остывало. Наконец он очнулся и хрипло продолжил первое, что пришло ему в память:
– Отче щедрот, пристанище милосердия! Человеколюбия неистощимый источник! Гордым противляйся, смиренным же дай благодать. Его же державою содержится вся тварь...
«Господи, что это я? – испугался он. – Куда это меня занесло? » На мгновение он замолк, но потом память подхватилась и стала выдавать ему всё, что лежало сверху:
– Боже истинный, благоприимным и милосердным оком призри на люди твоя согрешившия и отчаявшия, и ниспошли на ны милости твоя богатыя, пощади наследие твоё...
Он снова споткнулся: перед глазами стояла какая-то муть.
«Кто меня слышит?» – вдруг с отчаянием подумал он.
Над ним был не купол храма, а голубой бескрайний купол неба, а перистые облака напоминали крылья ангелов в полёте. Перед ним колыхалась людская шеренга.
Близ него топтался причт с недоуменными лицами. Верно, решили: жар в голову вдарил, вот батюшка наш и сбился с панталыку. Замешательство продолжалось не более минуты. Затем отец протоиерей воспрянул и жиденьким голосом повёл службу к окончанию:
– И даровай им за преимущую благость и долготерпение их победу над беззакония и согрешения, полное одоление над супостатом. Прийми и наши молитвы со благоволением и кротости, яко с нами твоими непотребными рабы. Во имя отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков, аминь!
– Аминь! – нестройно отозвались пономарь и псаломщик, но их всех покрыл густой бас дьякона, раскатившийся над головами:
– А-а-минь!
– На колени, на колени! – заорал князь, стоявший перед строем.
И солдаты бухнулись на колени.
В это же время в стрелецком стане их священник служил молитву «На одоление». И тоже косноязычил, тоже колебался. Но у него колебания были другого рода. Он понимал, что идёт против закона, против власти государя. Понимал, что благословляет на бунт против верховной власти. Простится ли ему это? Не расстригут ли его, если победа останется на стороне московского войска? О том, что он благословлял стрельцов на бунт, непременно проведают от тех же стрельцов-перемётчиков.
Однако ходу назад не было. Откажись он, стрельцы мигом расправятся с ним. И он бубнил привычные слова перед строем, и стрельцы пали на колена, когда притч поаминил, и закрестились кто во что горазд.
Воевода Шеин не терял надежды на покаяние бунтовщиков и с этой целью послал к ним сержанта Афанасьева с предупреждением о том, что повелит открыть огонь из пушек, если они не покорятся.
Афанасьев стращал их всяко: и что пушкари стоят у пушек с зажжёнными фитилями, и что пушки заряжены и ядрами, и бомбами, и что стрельцы потерпят великий урон.
Но стрельцы были тверды в своём безумстве. Их ободрял всё тот же десятник Зорин.
– Видали мы и пушки, нюхнули и пороху, бывали под ядрами и бомбами, а всё ж устояли на службе его царского величества, устоим и теперь. Так и передай боярину, коли спросит.
– Ну Бог с вами. На верную погибель идёте! – крикнул Афанасьев.
– Истинно молвил: Бог с нами. А с вами непотребный Францко Лефортка, – дерзко отвечали стрельцы. Афанасьев вернулся и доложил:
– Упёрты, боярин, истинно говорю.
– А кто там в заводчиках? – стал было допытываться Шеин. Но сержант пожал плечами: откуда ему знать.
– Пальнём над головами, может, образумятся, – решил воевода и приказал: – Пали, братцы, поверху!
И поднёс к глазам зрительную трубку. То, что он увидел, поразило его и вместе с тем придало ему решимости. Стрельцы стали распускать знамёна. А иные стали кидать вверх свои горлатные шапки, с которыми не расставались, несмотря на жару. В их рядах не видно было смущения. Тогда Алексей Семёнович Шеин ожесточился.
– Бей прямой наводкой! – приказал он бомбардиру Елисееву. Грохнул залп. Боярин приложил к глазу трубку. И довольно ухмыльнулся: в стрелецком войске началась паника. Передние кинулись бежать, сминая задних. На траве, мгновенно заалевшей, одни корчились в муках, другие лежали недвижно. Рядом валялись пищали, пики, секиры.
– Всё! Им конец! – провозгласил он. – Конницу вперёд! Тесни, забирай в полон!
Но не всё оказалось так гладко. Иные стрельцы, опомнившись, открыли огонь из пищалей. Вот пал один солдат, пал другой.
Продвижение вперёд замедлилось. Замешательство в рядах царского войска длилось, впрочем, недолго. Победа была явственна: массы врага обратились в бегство. И куда девалась словесная удаль, решимость во что бы то ни стало быть на Москве?!
Кавалерия нагнала бунтовщиков. Все они стремились укрыться за стенами монастыря. Но архимандрит приказал не отворять ворота – они были на крепком запоре.
Тут, у ворот, многих и повязали. Остальных переловили в поле, в лесу. К вечеру всё было кончено. Шеин приказал составить рапорт.
Стрельцов было побито насмерть пятнадцать, и тридцать восемь всё ещё мучились в смертных корчах. Выхаживать их было некому, да никто и не собирался. Они были отданы на попечение сердобольных монахов. У западной стены, под навесом был устроен лазарет. На досках настелили соломы, и там, где жевали сено монастырские лошади, положили раненых. Среди них, правда, особняком, поместился один солдат из шеинова воинства. Он был ранен смертельно пищальною пулей. Над ним склонились двое его однополчан: один стремился обнажить его грудь, другой тщетно пытался закрыть кровоточащую рану какой-то тряпицей.
– Отходит, – пробормотал он, – вестимо отходит, – и стал торопливо крестить умирающего.
– Попа бы сюда, – буркнул второй. – Их тута немерено, отчего не идут?
– Начальство не велело. Пущай-де мрут без покаяния.
Ни докторов, ни фельдшеров не было в заводе. В монастыре лечились травами и заговорами. Прибрело четверо чернецов. Не для того чтобы пользовать раненых, а с целью читать над ними молитвы.
Солдат перестал стонать и затих.
– Царствие тебе небесное, Акимушка, помирай с Богом, – сказал тот, который пытался остановить кровотечение. – Все там будем.
Стрельцы лежали в ряд. Многие уже отошли, иные всё ещё стонали. Запёкшаяся кровь бурыми пятнами покрыла кафтаны. Шапки валялись поодаль.
Монахи бубнили нечто невнятное, слов нельзя было разобрать за стонами. Вдобавок ко всему затрезвонили колокола, сзывая к вечерне, – жизнь в монастыре и округе шла своим чередом. Жизнь была сильней страданий и смерти.
У соседней коновязи ржали лошади. По монастырским дорожкам тянулись богомольцы, тут же важно расхаживали гуси и утки.
Наконец в монастырь стали сгонять повязанных стрельцов. Шеин решил устроить здесь привал для войска и судилище.
Архимандрит Нектарий пробовал было протестовать, но боярин цыкнул на него так, что тот вздрогнул и отшатнулся.
– Я здесь вся власть по воле бояр и самого государя! – грозно объявил он. – Стану чинить суд да расправу. А ты, святой отче, должен мне в том способствовать.
– Мне в мирские дела ввязываться грех перед Господом, – вяло пробормотал он.
– Господь в вышине, а государь на земле, – отрезал Шеин. – Тут слово и дело государево, и тебе ему способствовать.
– Святые места, да и имена их святы: не Истра это река, а Никоном наречена, святейшим патриархом, – Иорданом. Сей холм есть Сион, – бормотал архимандрит, не сдаваясь, – и Гефсимания у нас тут, и холмы окрестные Елеон, Фавор-гора. Купель Силоамская опять же, поток Кедрон, Голгофа...
– А дело государево не свято?! – продолжал наступать Шеин. – Очисти нам настоятельские палаты, там станем заседать.
– Ты, боярин, больно крут: устроился бы в Никоновой пустыни, не нарушал бы благолепия монастырского жития.
– Ишь чего захотел, старый козел! – взорвался Шеин. – Сам туды переедешь!
Никонова пустынь располагалась за стенами монастыря: опальный патриарх, демонстрируя показное смирение, повелел выстроить ему малый скит за стеною.
Но архимандрит упёрся:
– Мне по чину должно быть вместе с братией.
– Приневолю! – грозился Шеин. Пока же он распорядился выставить караулы на всех восьми башнях монастыря, паломникам дать от ворот поворот. А под тюремное помещение занять монастырские конюшни и коровники, равно и Никонов скит. Первыми призвали к допросу Маслова и Зорина.
– Было ли, как сказывали многие, письмо от царевны Софии? – допытывались судьи при очах верховной троицы: Шеина, Гордона и князя Кольцова-Масальского.
– Не было никакого письма. Знать не знаем! – упорствовали они.
– Не ты ли, вор Маслов, зачитывал сей подмёт?
– И на дыбе отрекусь! – Твёрдый был орешек.
– Всё едино – не избегнуть тебе, вору, плахи либо петли.
– Воля ваша, сила ваша, – отвечал Маслов, опустя голову.
Следствие упорно искало самоглавнейших заводчиков. В конце концов они были названы после долгого мучительства.
– Васька Тума да Ванька Проскуряков – от них всё и пошло, вся зараза. Они в полки ходили и велели всем идти на Москву. А ослушников грозились побить, – объявил стрелец полка Ивана Ивановича Чёрного именем Никишка Федотов. – Ворвался к нам в полк стрелец Бориска из Чубарова полка и возопил: всем идти с нами! Мы и пошли неволей.
Шеин вёл розыск неделю. Многое открылось, но многое так и потонуло во мраке. Сердца ожесточились и с той и с другой стороны.
А на Москве – стон и рыданье. Стрельчихи и стрелецкие дети, так и не дождавшиеся своих мужей и отцов, прознав про усмирение бунта и провидя, какая кара ждёт бунтовщиков, били челом царицам Прасковье и Марфе и царевнам Марфе, Марии, Екатерине и Феодосии Алексеевнам и Татьяне Михайловне, их тётушке. Страждут же невинные души, стремившиеся повидать своих семейных.
Царицы и царевны о том ведали. Они через постельниц своих, через услужающих девок сносились с бунтовщиками. А всё потому, что сострадали своей сестрице Софье, милостивой правительнице, при которой всем было хорошо: и стрельцам, и самим царевнам. Царь Пётр был суров и им не потакал, а во всём ограничил. Установил за ними надзор, велел переловить их талантов и вообще был суров и неправеден.
А Софью, сестрицу их, стерегли ровно преступницу какую. В Девичьем монастыре у ворот установили караул из солдат Преображенского и Семёновского полков, это были царские цепные псы.
Первое время было вольготней. Туда-сюда сновали спальные карлицы, сёстры-царевны. Переносили вести и вещи, и Софья ни в чём не знала отказа, и утеснения были не очень велики. Жаловался ей обильный припас: рыбы разные, икра стерляжья, пиво, брага и водка вёдрами, мёд тож. А уж печева – калачей, саек, булок я прочего – сколь душе угодно.
Но перед отъездом своим в иноземные страны немилостивый братец приказал ужесточить затвор. Он подозревал, что Софья была в сговоре с обезглавленными участниками заговора Цыклера-Соковника, а сёстры её переносчицами служили. А потому им запрещалось бывать в её келье. Да и караул был усилен. Теперь в нём было более сотни солдат при полуполковнике и двух капитанах.
Но у Софьи по-прежнему оставалась немалая обслуга: две казначеи, старая кормилица и девять постельниц. А уж они никаких солдат и полуполковников не страшились, а были с ними накоротко и по-прежнему переносили цидулки к нужным людям.
Шёл десятый год Софьиного затвора. Нужных, преданных ей людей становилось всё меньше. Была утеряна связь с её великим утешителем, с её милостивцем и любимцем, князем Васильем Васильевичем Голицыным. Каково-то он страждет, бедный. Там, в северной стране, жестокая стужа, долгие снега и свирепые ветры. Она-то хоть в тепле и холе, что бы там ни говорили при людях, сострадающих её горю. А он-то, князинька, со своими домочадцами. Это он, привыкший к княжеской роскоши, к услугам множества холопов, к дружескому кругу, к своим хоромам с зеркалами и часами, разными мудреными приборами, с картинами и портретами предков, он, которому дивовались иноземные послы, а свои бояре завидовали. Мёрзнет сейчас, поди, в грязной избёнке, весь в рванье, в обносках.
Да, нет хуже немилости, чем немилость царя, владыки живота твоего. Он волен поступить с тобой как с постылой тряпкой. Так оно и вышло с князем Васильем, мудрей которого, как сказывали именитые иноземцы, во всей Руси не было. А вот впал он в немилость царя Петра, и постигла его жестокая опала. Лишён он был всего имения своего и сослан на край света – в Пустозерск, где были сожжены в срубе знаменитый расколоучитель протопоп Аввакум и его сподвижники.
Первое время посылала она ему с оказией денежки, получала скупые вести. Но вот уже который год нету от князя никаких вестей. Жив ли он, нет ли – неведомо. И когда ходила она на молебны в Смоленский собор монастыря, не знала – то ли за здравие, то ли за упокой в поминанье свечу ставить.
Дивилась она, царевна, бабьей робости стрельцов – на них было всё её упование. Да видно, напрасно: четыре полка могли бы на Москве власть взять и всех ей неугодных бояр побить, особливо всех Нарышкиных. А от них огнь бы зажёгся по всей Руси: стрелецких-то полков было близ двух десятков, и стояли они в разных городах. Ежели бы все поднялись да встали за неё, за царевну, ого-го что было бы! Ведь все они помнили её радение о стрельцах, её милости. Она называла их придворным войском, щедро наделяла из казны, выкатывала им бочки с вином. Да и князь Василий им мирволил и во всех своих походах их не неволил.
– Не робейте, не медлите, слышно, царь в Неметчине сгинул, – наказывала она Ваське Туме. Того обрядили в женское платье и тишком провели к ней. Пал он на колена, стукался лбом о пол, называл её милостивицей, благодетельницей и иными словесами.
Софья же, бледная не то от волнения, не то от прихлынувшей надежды, понукала его:
– Вижу, ты мужик не робкий, к подвигу способный. Отчего бы тебе, коли ты грамотный, не возглавить полк? Чего уж там мудреного: ать-два, ать-два! Пали, коли, руби! За тобой, за твоим полком все бы остальные потянулись, яко за вожаком стадо. Ведь полки всё едино что стадо, лишь бы вели да в свирель дудели. Можешь ты повести? Отвечай!
– Могу, милостивица наша, великая государыня-матушка, – отвечал Тума, стукаясь лбом о пол как заведённый.
– Коли бы явились на Москве, да стали табором у монастыря, да били челом мне на царство, я бы к вам вышла и с общего согласия стала бы сызнова править. При мне бы вы стали бы вновь надворной пехотою, и я вас бы блюла яко своё войско верное.
– Пойду и всем объявлю твою волю, великая государыня, милостивица наша, – бормотал Тума, всё ещё не поднимаясь с колен.
– Ну ступай, объяви братии своей мою державную волю! – с блеском в глазах произнесла Софья, и бледные щёки её зарумянились. – Ступай, ступай, да не медли.
Тума медленно поднялся, Софья протянула ему свою руку, и он припал к ней, чмокая, словно младенец.
– Довольно тебе, ступай же!
Постельница Акулина уже была наготове. Она проводила стрельца к потаённой калитке. Она была отворена, солдат возле неё не было.
– Ступай с миром, да не медли. – И, видя, что Тума опасливо оглядывается, прибавила со смешком:
– Не бойсь, они купленные.
Тума бросил прощальный взгляд на замшелые стены и башни да сияющие купола, отражающиеся в воде озерца, подступавшего почти к самым стенам – вероятно, отводка из Москвы-реки. Стайка уток пролетела над его головой и плавно опустилась на воду, всколебав её поверхность. Никак не думал он, что всё это видит в последний раз.
За ним охотились, как за всеми бунтовщиками. И после сражения под монастырём, когда стрельцам пришлось в панике бежать с поля боя, он вознамерился пробраться к Москве. Шапку свою он потерял, но ничуть не жалел об этом. О шапке ли жалеть, когда сама голова в опасности.
Пробирался он без дорог, тропами, с двумя однополчанами. Шли по большей части ночью, а днём отлёживались в потаённых местах, чаще всего в лесу. Однажды стая волков окружила их, еле отбились, в другой рэп медведица с медвежатами чуть не напала ни них.
На четвёртый день донёсся до них призывный звон московских колоколов. Воздух гудел, временами пел. Они приободрились, присели у ручья, обмылись, напились. Уж который день у них во рту маковой росинки не было, кроме плодов лесных. Глянули на своё отражение и ахнули: зверье. Пооборвались, извалялись.
– Стоит ли в таковом виде пробираться? – спросил Васька своих спутников. И сам себе ответил: – А-а-а, семь бед – один ответ. Пошли!
У Рогожской заставы их и взяли. Повязали и повезли, связанных по рукам и по ногам, на телеге в Преображенское. А там уже ждали в приказной избе. Большая изба была со многими отделениями-кагорами. В одной допрос вели, в другой щипцы в горне калили – для пытки огнём, а в третьей – дыба, а рядом колесо.
Крик и стон стояли в избе, воняло жареной человечиной, тяжким духом мучительства. А за стенами, за городьбой, окружавшей приказ, вопль воздымался.
Там жёны и девки стрельцов вопили, прибредшие сюда со всей Москвы порыдать, проститься. Кормильцев ведь смертной муке предают. А им как быть? Как быть стрельчихе Насте, у которой дюжина детишек мал-мала меньше?