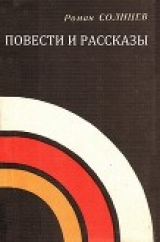
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 44 страниц)
Прошёл ещё один год. Мать всё хуже говорит по-русски. А невнятный её голос мне всё труднее понять. А писать письма старухе даётся уже тяжело.
А недавно до меня дошла страшная мысль: я ведь взрослым человеком так с мамой своей и не поговорил, чтобы при этом абсолютно понимал её. Во всю жизнь так и не поговорил.
Хоть и часто навещал её прежде. Но сейчас билеты хоть на самолёт, хоть на поезд такие дорогие. страну словно топором разрубили.
Правда же, со своим знанием татарского языка я вряд ли смог рассказать ей подробно и ясно, как жил, как работал.
И она мне многого не поведала, потому что есть чувства, понятия, которые невозможно выразить на примитивном языке про погоду и здоровье.
Когда же мы услышим друг друга и поймём?
Невыносимая беда произошла с нами. Бывший комсомолец, романтик, подчинявшийся всю жизнь воле великого государства, седой болван, не плакавший, когда в тайге рысь, прыгнув с дерева, ободрала мне голову, сижу над письмами матери и плачу.
Мне уже по-настоящему не изучить татарский язык, а ей – русский.
Даже если куплю ещё десять словарей.
Чем дальше, тем мучительнее нарастает непонимание между матерью и сыном.
Нет, живи подольше, мама! Живи подольше, багерем! Живи подольше, родная! Может быть, нам повезёт с тобой уйти в один день.
И кто знает, может быть, где-то среди звёзд… говорят, там другой, единый язык. Я расскажу тебе, как любил тебя и помнил каждую минуту в своей жизни твои тёмные печальные глаза… а ты простишь меня.
ГОРЕ
– Здрасьте… – этот милый интеллигентный человек, слегка картавящий, по фамилии – Ивашкин, всегда здоровался первым, как-то искоса, может быть, лукаво заглядывая в глаза. Он узкоплеч, в любое время дня в узком строгом костюме, при галстуке, в начищенных до блеска ботинках, даже когда вышел в огород, и мы с ним переговариваемся через невысокий забор.
Впрочем, у него на огороде такой порядок, что можно и в зеркальных ботинках ходить – вдоль грядок уложены тротуары из ровных досок, да и сами грядки с луком и морковью, петрушкой и прочей зеленью, в дощатых рамочках, как в воротниках.
Вода для полива у Ивашкиных в высоком баке, ярко окрашенном зелёной – под стать миру растений – краской. А трубы, которые идут к нему и от него, красные и жёлтые. Всё тут исполнено аккуратно и красиво.
– Здрась-сте… смотрите, облака перистые… неужто испортится погода?
– Да не должна… – успокаиваю я его. – Вон паутина блестит.
– Да, да. Паутина – это примета. Это верно. Я знал, что Виталий Викторович работает каким-то чиновником в областной администрации. Да и правду сказать, трудно было бы ему на одну зарплату построить такой хороший небольшой дворец, какой у него стоит на участке: из белых и красных блоков, как шахматная доска, с башенкой наверху, со стрельчатыми окнами второго этажа и с овальными – на первом. Да и ворота из железа, и асфальт двора говорили о том, что, конечно, ему на службе помогли с обустройством.
Этот милый, повторяю, очень милый в общении человек жил-бытовал рядом со мной. Бытовал, разумеется, как и я, только летом-осенью, так как зимой даже у него, я думаю, в коттедже холодно, не говорю уж о своей деревянной даче с кривой печуркой.
Изредка мы беседовали с ним на философские темы, стоя каждый на своей «платформе» (его выражение), а проще сказать, каждый в своём огороде. Для меня лично наступила свобода, дремучая и наивная, я, мгновенно забыв марксизм-ленинизм, которому нас учили, по-своему что-то воображал и соображал о причинах и следствиях, о психологии толпы, о расцвете и крушении государств, о жизни и смерти. Он же, Виталий Викторович, осторожно меня порицал и поправлял, цитируя багровые книги прошлого века.
– Уверяю вас, там были очень, очень умные мысли. Вот Владимир Ильич, например.
– Не надо, – умоляя, останавливал я его.
– Хо-ошо, хо-ошо, – тихо смеясь, отступал сосед и переводил разговор на более общие, метафизические темы, которые, несомненно, были всегда ближе мне. – Я с вами совегшенно согласен, что в космосе мы не одиноки, кто-то или что-то присутствует, несомненно. Но ведь и Ленин говорил. ну, не буду, не буду. – он снова смеялся.
Смеялся и я. Очень мило мы с ним беседовали. Наши жёны, выходя на огород, так же раскланивались друг с дружкой и обсуждали, какой сорт помидор выбрать на будущий год – может быть, устойчивые «фонарики»? – так как ночные заморозки повалили нынче половину рассады, хоть она и была укрыта плёнкой.
Иногда наши соседи – худенький супруг с толстенькой супругой – картинно замерев на своём участке, едва ли не взявшись за руки, слушали музыку, которую я крутил у себя на огороде – чаще всего певцов-итальянцев: Джильи, Марио Ланца, Бергонци, Тито Гобби.
А бывало, его жена, напялив кокетливую шляпку с пером, садилась у них там на покрытую прозрачным лаком розовую скамейку из кедра и, тренькая на гитаре, исполняла нежный романс:
Я поцелуями покрою
Тебе и очи, и чело.
И всё было так прелестно, так славно. Ни нам от них, ни, тем более, им от нас ничего не было нужно. А если что нам и было нужно, ведь не будешь выпрашивать. Например, им привозили конский навоз, вываливали две машины подряд на дальний край огорода. От него шёл пар, он был чист и великолепен. Или появлялся камаз и, пятясь задом, опрокидывал чёрный, бархатный перегной. и откуда такой?
Я тоже пару раз заказывал – мне за мои деньги везли обычную серую землю, со щепками, осколками зелёного стекла, с прочим мусором. А уж навоз, который наполовину состоял из гнилой соломы, через два года прострочил весь мой огород такими хищными красноглазыми сорняками, каких я с детства не видел.
– Спроси, по какому телефону он заказывает, – говорила моя жена.
– Думаю, он заказывает по особому телефону, – беззлобно отвечал я. – Ладно, как-нибудь.
– И то верно, – соглашалась жена, глядя, как соседям через сосновые посадки ведут телефонную линию. – Может, разрешат запараллелить? Я за маму беспокоюсь… а так в любой момент можно бы позвонить.
Но кто же с чистой душой разрешит кому-либо подсоединиться к своей телефонной линии? Даже если вы пришли с купленным блокиратором и обещаете оплачивать все счета.
Я и спрашивать не пытался, чтобы не портить отношения с соседями.
Да к тому же Ивашкин стал знаменитостью – готовилась книга «Кто есть кто?» о видных людях в наших краях, и, видимо, его попросили подготовить о себе лаконичный, но достаточно хвалебный текст, а также передать в издательство свою фотографию.
Я слышал, как счастливый Виталий Викторович кричал в трубку, стоя среди огорода (она у него с антенной):
– Как называется? «Кто есть кто?» Замечательно! – он явно повторял уже известную ему информацию для того, чтобы соседи услышали. – Но я поскромнее, поскромнее текст… Чёрно-белую или цветную фотографию? Можно цветную? Очень хо-ошо! Я завезу!
Когда к нему в непогоду в дачный дом залезли «бомжи» (правда, ничего особо дорогого не сумели украсть, наверное, не успели – завыла сирена и замигали лампы по углам… разве что, убегая, унесли из сада белую пластмассовую скамейку…), приезжала милиция, искала по оврагам эту скамейку, извинялась… в общем, всё сделала, что могла. И мы понимали: так надо. Он человек государственный.
Выезжая со своего участка на белой чиновничьей «Волге» с номером, где буквы сплошь ааа, Ивашкин выглядывал в дверцу с опущенным стеклом и здоровался буквально со всеми:
– Зд-асьте, зд-асте!.. – и участливо спрашивал, как дела, как здоровье, и даже, остановив жестом машину, минуту-две выслушивал людей. Все знали, что он небольшой начальник, есть повыше его, но всё же ведь начальник, а не чинится, простой, можно сказать, любезный в общении, как Ленин из кино или американский президент..
Иногда – в субботу-воскресенье он приезжал на дачу на личной машине, тёмно-вишнёвого цвета «пятёрке» – за рулём сидел долговязый сын лет 15–16, а сам Виталий Викторович – справа, влюблённо глядя на отпрыска, и горделиво – на всех встречных. Пару раз случалось, что глох двигатель этих «жигулей», особенно во время летнего зноя, и тогда к нему шли мужики с соседних участков, хорошо разбирающиеся в моторах, в хитростях карбюратора, и бесплатно помогали оживить механизм.
Ивашкин, кажется, сам не пил, но специально для того, что отдариться, покупал нежную «Шушенскую-медовую». Но, надо сказать, водку у него никто не брал – все за рулём, да и гордость мы имеем, да и захочешь взять – жёны стоят за спиной, к чаю торопят. Однако, повторяю, к картавому чиновнику ласково, с улыбкой относились. Он такой чистюля, такой уважительный, и огород содержит в красоте.
Так мы и жили, как вдруг с соседями что-то произошло. Нет их! Нету! Как будто исчезли из наших мест.
Наконец, уже под осень приехал на дачу в одиночестве Ивашкин, вылез из своей, словно бы вдруг постаревшей машины, и сам будто постарел – в тесной старой куртке, не сына ли куртка?.. небритый, взошёл на крыльцо. Боже, как переменился! Скулы вылезли, руки дрожат.
Постоял на крыльце, глядя на заросший молочаем огород и – уехал прочь… А где же его близкие? Что такое?! Развелись? Беда какая? Жена умерла? Сын погиб?
Дня через три Виталий Викторович вновь появился на участке. Прошёл к своим грядкам, постоял, исподлобья озираясь. Вид у него был столь убитый, что и спрашивать о чём-либо мне показалось страшновато. Я ему кивнул пару раз через забор – он, как от удара, отвернулся.
Что? Что такое произошло?!
Когда мимо открытых ворот проходили другие соседи, привычно заглядывая в гости к доброжелательному человеку, окликали его:
– Привет, Витальич!.. – или: – Здоровы будем!. – он, не здороваясь, резко поворачивался прочь, топя подбородок в куртке.
Да что же такое случилось с человеком? Я не понимал. Музыку в своём дворе я более не крутил. И не курил возле общего забора – его жена, помнится, как-то попеняла, что пахучий дым пролетает в их владения.
Наконец, другой мой сосед, депутат Никитенко, однажды в дождливый вечер заглянув ко мне на огонёк (я печку топил), присел рядом, огромный, добродушный, и на вопрос, что происходит с Ивашкиным, стукнул меня по хребту, словно овода пришиб, и, похохатывая, объяснил:
– Гриша, ты чё, на Марсе живёшь? Новый-то губернатор весь старый аппарат на х. погнал. разве не слышал? Только баб внизу оставил. И этот тоже попал под сокращение.
– Вон оно что.
– Ну и что! И чего куксится?! Ему ещё полгода будут бабло платить. За это время с его-то связями.
Из весёлого рассказа соседа я понял, что до того, как стать главным специалистом, а затем и председателем комитета по строительству, а затем и заместителем губернатора, Ивашкин работал именно в сфере градостроительства, хорошо показал себя, как грамотный руководитель, и, стало быть, запросто найдёт себе хлебную работу – вон сколько нынче строят, в XX – то веке!
Согласившись с Никитенко, я забыл об Ивашкине. Но вскоре снова задумался о его судьбе – люди рассказывали странные вещи.
Оказывается, вот уже всю ненастную осень Виталий Викторович, с отросшей щетиной, в старомодном расстёгнутом плаще, в потёртом костюме, ходит по ночным улицам и собирает пластмассовые бутылки в мусорные баки. Срывает афиши, которые висят не на месте, замазывает подходящей по цвету краской хулиганские надписи на стенах – выполняет роль добровольного городского дворника. И его уже не раз показывали по телевидению.
К середины октября город привык к этому странному бродяге в стоптанных ботинках, над ним, конечно, все кому не лень посмеивались, потешались – ага, уволенный начальничек-чайничек, теперь, небось, ближе воспринимаешь заботы простого народа? Причём иной раз он попадался на глаза телеоператорам в весьма пристойном виде – в белой рубашке, в зеркальной обуви. Это, очевидно, для того, чтобы народ не забыл, узнавал в лицо прежнего заместителя губернатора, не спутал с обычным бродягой. На Ивашкина в газетах рисовали шаржи – и он, в облике Чарли Чаплина с метлой в руках, постепенно стал печальной городской знаменитостью.
Впрочем, был слух, что его приглашали на должность в строительную фирму, где он прежде работал, и зарплату пообещали хорошую – он отказался. По-прежнему шатался по городу с пластмассовым мусорным ведёрком жёлтого цвета, в стоптанных, с загнутыми носками ботинках, с кривым галстуком на шее, собирая мусор и заискивающе, мокрыми глазами заглядывая в телекамеры. И глядя на странного дяденьку, городские школьники тоже стали устраивать рейды по сбору бутылок и бумажек. И он гладил их по голове и, мечтательно, картаво, читал стихи Маяковского:
– Я знаю, город будет. я знаю, саду цвесть. когда такие люди в стране российской есть.
Но когда Ивашкин встречал вдруг старых знакомых – по-прежнему грубо отворачивался и ни на какие вопросы не отвечал. Я и сам столкнулся с ним на центральной улице поздним вечером, он стоял, прикуривая от спички, под мокрым, сломанным зонтом с торчащей спицей.
– Виталий Викторович!.. – искренне воскликнул я. – Не хотите ли со мной?..
Но он сделал вид, что споткнулся и, пригнувшись, как бы перешнуровывая ботинки, отвернулся от меня.
Что ж, вольному воля. Да и, правда, мог бы на свою зарплату, которая раза в три больше моей, спокойно пожить эти полгода, новый зонт себе купить, а не изображать несчастного бомжа.
Никитенко, зайдя ко мне вечером после спектакля (жена надоела за три часа щебетанием о нарядах актрис, изображавших на сцене француженок), рассказал, что видел Ивашкина в дым пьяного возле павильона «Одна рюмка».
– Не может быть! Он же не пьёт.
– А вот в дым. Стоит, плачет. Я спрашиваю: чё ревёшь, а он… Составители «Кто есть кто?» позвонили: оставим в книге, если заплатишь. – Как, вы же раньше не просили? – Раньше ты был персона, а теперь. Все платят, кроме знаменитостей. – А я теперь уже не знаменитость… Нет, заплачу, но могу ли я надеяться?.. – Обещаем – никто не узнает… но только как теперь написать? Ты теперь безработный… – Хохочут. – Хочешь – напишем: известный общественный и политический деятель? – Нет. Лучше просто… известный общественный деятель… Можно? – Пятьсот долларов. – А где я возьму пятьсот. стоит, ревёт.
Я приехал домой, из дождя в тёплую городскую квартиру – жена говорит, что ей звонила Элина Васильевна, супруга Ивашкина. И что она тоже плачет.
– Я, говорит, его утешаю. ведь и так можно жить… ты же умный, руки-ноги на месте, а он как ребёнок: нет, нет! Теперь чем хуже, тем лучше!.. И как побирушка по дворам. А ведь для чистоты дворники есть, они за это деньги получают… А он как с ума сошёл. Я его дома почти не вижу. Срам какой!
Шли дни. Бедный Виталий Викторович, по слухам, и среди наступившей зимы продолжал бродить по городу, стирая тряпкой меловые надписи в подъездах, сдирая гнусные листовки, тем более, что их развелось великое множество: на середину декабря были назначены выборы в областное Законодательное собрание. В городе мела метель бесплатных газет, больших и маленьких… Работы у Ивашкина прибавилось, поэтому он не переставал возникать на экранах тв – грязный, в кепке, жалкий, при оттянувшемся к животу галстуке – жестикулируя и картавя, убеждал народ любить свой город, ценить экологию.
Ему в народе дали кличку «Чистильщик». И мало кто удивился, узнав, что он взял да зарегистрировался кандидатом в депутаты. Наверное, какие-нибудь юмористы убедили, а то и политики в свой список внесли. Вряд ли Ивашкин пройдёт, подумал я, он же говорить разучился, а тут вон какие вулканы в пиджаках бегают на митинги.
Но закон есть закон, и Виталия Викторовича стали теперь буквально каждый день показывать горожанам на синих экранах, его фотографии замелькали в газетах. Я подумал, что, наконец, он воспрянет духом, побреется и приоденется, но нет же, он по прежнему представал перед людьми убогим странником, всё в том же ужасном виде, с недельной щетиной, к слову сказать, как у спикера Совета Федерации, со сломанным зонтиком с торчащей спицей. И всё улицы мёл, и мусор собирал в урны.
И вы можете смеяться сколько угодно, но наступил день, – подсчитали голоса в Заводском районе, и выяснилось: Ивашкин Виталий Викторович избран депутатом от упомянутого района, обогнав на двенадцать процентов громогласного и огромного Никитенку, проработавшего в Законодательном собрании области два срока.
– За что, мля?!.. – клокотал в гостях у меня Коля Никитенко. – Я хоть магазин для бедных старушек открыл, а он нюни распустил, на жалость взял наш русский народишко. Нет, мля, погибла Россия!.. Мы потерянное поколение!..
Да, да, наш Ивашкин снова попал в начальники, он теперь депутат Законодательного собрания края. Что ж, я рад, рад.
Но, Господи, что же с ним было, думаю я порой, вот – недавно, что же с ним такое происходило?! Ведь и здоров, кажется, во всяком случае «Скорая помощь» его не подбирала, и деньги человек получал… Может быть, он всё же болел какой-то особой болезнью?
И я увидел его в прошлое воскресенье. Виталий Викторович въехал на территорию нашего садового товарищества в серой, сверкающей, как вымытый жеребец, казённой «Волге» с номером, где сплошь ааа. Лицо у Ивашкина торжествующе-закаменелое, с каменной широкой улыбкой. Но это было лишь мгновение. Он тут же, опустив стекло дверцы, замигал, залучился уже как бы стеснительной улыбкой, увидев прежде знакомых соседей (и меня в том числе на углу):
– Зд-асьте… здра-сьте… – Всё так же мягко грассирует. – Как вы, господа?.. всё хорошо?.. На нём вновь гладкий великолепный костюм из английской шерсти, бордовый новый галстук, он вновь ласков к людям и внимателен. – Говорят, свет на дачах гас? Разбе-ёмся.
Я стоял, как мешком ударенный, глядя на счастливого человека. А что же с ним было-то эти три или четыре месяца?
А было, видимо, вот что. Когда его уволил новый губернатор, он почувствовал себя совершенно голым. Он испытывал огромное, мучительное, невыносимое горе, оказавшись вне тёплых стен власти. Он готов был умереть со стыда, что снова среди всех, как обычный муравей или коза, и над ним могут посмеяться, могут запросто ударить, обидеть. Он не знал, где спрятаться, в какую нору залезть. Люди жалеют пьяниц, но пить много – вредно… и он решил демонстративно унизиться… наслаждайтесь! Я собираю ваше дерьмо! Но, пряча лицо, в душе, конечно, лелеял надежду, что придут, поклонятся, прощения попросят, цветами забросают и под руки снова возведут на холм, устеленный красными коврами, где белые телефоны звонят, и секретарши златокудрые бегают, где свой, такой тёплый, такой важный мир.
И ведь колесо повернулось обратно!
И теперь Виктор Витальевич мог уже улыбаться людям и быть снова добрым и внимательным. Ему это ничего не стоило. Тем более что другие существа он, видимо, всё-таки любил.
Раскалённые облака тянутся вечером над муравейником нашим… Куда спешим? Чего обижаем, а порой и убиваем друг друга? Во имя чего? Во имя любви? Во имя лишнего рубля? Во имя эфемерной славы? Есть, есть, помимо нас, вечная, огромная жизнь в космосе, и нам не перебороть этой звёздной славы, мы – лишь малая часть, еле видимые в микроскоп, живые, глупые, редко – умные.
Но рождаются порой на земле особые люди, у этих людей – своё, особенное счастье, грандиознее любви и любой гениальности. Это – власть. Оно для них – вино высочайшей пробы. Радость божественного, как им кажется, отбора. И лишиться её – лишиться жизни.
НЕСГОРАЕМЫЙ ДОМ
В нашем городе решили выпрямить и расширить улицу Лопатина – она соединяет бестолковый район железнодорожного вокзала с новым районом города, и уже давно здесь в часы пик выстраивается очередь разномастных машин – гудят, толкаются.
Здесь прежде царила деревянная окраина с названием Николаевка, на огородах за полусгнившими заплотами, да ещё кое-где с колючей проволокой, желтели подсолнухи и безгрешно разрасталась конопля, во дворах кричали и бегали петухи, сипло лаяли собаки. В пригороде время от времени вспыхивали пожары, ночами слышалась перестрелка, жил не сказать хулиганистый, но отчаянный народ. Да и в самом деле – ни город, ни деревня.
Со временем от Николаевки остался маленький дощатый базарчик с коричневым от крови пнём, старая церковь с новым, деревянным крестом да пара кривых улиц. И вот, на том самом месте, где остановились бульдозеры, чтобы освободить пространство для широкой асфальтовой полосы, на самом локте переулка оказалась избушка одной старухи, Галины Михайловны Никоновой.
Галина Михайловна – грузная больная женщина, лечит ноги в тазу с муравьями, которых носит из недальнего, за оврагом, бора. На старом жакете у неё криво пришпилена верхняя половинка медали «За труд» (сама латунная кругляшка давно слетела), на шее два крестика перепутались на цепочках, один – собственный, а другой – сына, который попал в тюрьму ещё при советской власти за разбой, крестик его был сорван и брошен в кусты милиционером с соседней улочки, когда обритого Саню увозили.
Галина Михайловна всю жизнь говорит негромким, но гулким голосом дородной женщины, живёт бедно, питается картошкой и свёклой со своего огородика, пенсия у неё крохотная, нет и тысячи рублей, хотя в молодые годы она и на железной дороге шпалы таскала, и уборщицей в николаевской школе работала, пока та не сгорела…
И приходит к ней молодой паренёк, завитой, как барашек, одеколоном пахнет.
– Баба Галя, – кричит с порога, – день твой счастливый грянул. Хочешь в новую квартиру?
Старуха оглядела его без очков, жмурясь, словно против света:
– Что-то я тебя не помню.
– Да наш я, наш! Но разве в этом дело?! В одном городе живём. Вот и о тебе решили позаботиться. Хочешь переехать в новую городскую квартиру?
– Нет, – ответила старуха.
– Ты, наверно, меня не поняла, – моргает рыжими ресницами парень. – Тебе в полную твою собственность новую квартиру дадут на улице Щорса, там многим дали с нашей Николаевки. – и, надо сказать, в эту минуту Галина Михайловна вспомнила, признала паренька – он возле рынка крутился, велосипеды воровал. Его ещё сын лупил. Видимо, потому и подослали такого – своего, авось легко договорится.
– Да всё я поняла, Толя. Иди своей дорогой.
У Толи глаза моргают, как две бабочки над сладким цветочком.
– Подожди, баба Галя! Ты тут в гнилой избе. а там отопление, свет, лифт. Антенну проведут общую, в грозу нечего бояться.
– Да не желаю я, – таков был ответ сумрачной большой старухи.
Сплюнул парень в раздражении с её крылечка и ушёл. И явился в тот же день мужчина, этот повыше ростом, одет получше, при галстуке, и волосы на пробор.
– Уважаемая Галина Михайловна, – громко начал он ещё с улицы, отворяя калитку, которая едва держится на проволочных восьмёрках, – Уважаемая госпожа Никонова. Позвольте войти к вам?
– Входите, – тихо отвечала старуха. Она стояла перед ним в валенках среди лета, кофта цвета горчицы на локтях продрана, на плечах обвисла старая шаль с выцветшими петухами и подсолнухами.
– Уважаемая Галина Михайловна. Я инженер, дорожный работник, вы сами когда-то на железной работали? А я вот – на каменной. Но тоже надо, Галина Михайловна! Здесь будет широкая улица, жить станет веселей, машины не будут собираться в кучу и душить своим дымом народ. Можно, конечно, пройти стороной с заворотом, но, согласитесь, это большая трата народных денег. Если же вы согласитесь переехать в новую квартиру, мы спрямим шоссе и сэкономим народные деньги.
Старуха молчала.
– Вы согласны?
– Я никуда отсюда не уеду, – ответила еле слышно Галина Михайловна. – Я сына дождусь.
– Я знаю, знаю, – закивал головой начальник. – Такое горе. Сколько ещё ему сидеть?
– Семь лет. Обещали раньше, да он гордый… ни за что, говорит, посадили, прошение писать не буду.
– Напрасно. Хотите, мы посодействуем? – Инженер достал записную книжку и ручку, что-то черкнул. – Обратимся в надлежащие структуры…
– Обращайтесь, – без особой веры ответила хозяйка избы. – Но покуда он не вернётся, никуда я не съеду.
Через пару дней инженер вновь явился, лицо весёлое.
– Галина Михайловна, у нас маленькая радость для вас. Нам пообещали. Мы объяснили генералу, женщина, говорим, одинокая… страдает… просим срочно рассмотреть вопрос.
Старуха молчала.
– Так что давайте переезжать. – Инженер кивнул за окно. – У нас техника стоит. Люди стоят. Войдите в положение, Галина Михайловна!
– Вот сына дождусь, там, как он решит.
– Что значит, он решит?
– Может, и согласится. Дело молодое. Инженер нахмурился, поправил бордовый галстук.
– Сколько ему сейчас лет?
– Тридцать три.
– Конечно, он согласится! – Важный гость нетерпеливо посмотрел на часы на своей руке. – Давайте прямо сейчас письмо ему напишем. И если он ответит «да», вы переедете. Хорошо?
Старуха молчала, ухватившись от слабости за узкую спинку обветшалого стула.
– Галина Михайловна, тут сыро… гул стоит от соседства с дорогой. электропроводка, вижу, старая. Не дай бог искра – и сгорите…
Никонова, молча, смотрела на него.
– Так мы напишем ему?
– Напишите, – отвечала старуха. И тот ушёл.
Наверное, приходивший человек очень где-то хлопотал, попросил своё ли, чужое ли начальство, но явился через три дня с ответом из колонии. Старуха надела очки в толстой роговой оправе, с одной дужкой, и внимательно прочитала письмо, написанное на бумаге в клеточку.
«Мама, – писал сын. – Конечно, переезжай, чего уж там. Только собери по углам все мои вещи. Поняла? Фотографию Татьяны найди, хоть ты её не любила. Обнимаю. Твой Саня».
Прочитав и перечитав ещё раз, Галина Михайловна отвернулась от гостя и долго стояла у окошечка с подоконником не выше её колен, с горшком расцветшей красной герани.
– Ну? – спросил участливо начальник.
– Нет, – ответила старуха. – Как он меня потом найдёт? Где я буду?
Инженер раздражённо сжал и разжал кулаки.
– Да мы можем прямо сейчас сказать ваш будущий адрес! И ему написать!
Старуха сложила письмо и вздохнула.
– Я должна посмотреть сама.
– Да ради бога!.. идёмте, садитесь в машину! Вот же, «Чероки» стоит, бьёт копытом!
И дорожный начальник повёз хмуро молчащую старуху на другую окраину города, и привёз под заводские трубы. Вот и улица Щорса, вполне хорошие бетонные дома. Даже тоненькие деревца у подъездов посажены.
– Это ваш дом, видите? Совсем новенький! Ну как? – спросил инженер, ослабив узел галстука. Ему было душно, ему было некогда.
– Я сюда не поеду, – ответила Галина Михайловна.
– Почему?
– Тут заводы всякие. У сына моего лёгкие больные. он с детства кашлял.
– Кашлял!.. А сам человека убил!.. – уже злясь, пробормотал инженер. – Здесь вполне чистый воздух! Люди же живут! Видите вон, идут, смеются! У вас будет двухкомнатная! Две комнаты с балконом. да ещё кухня!
– Нет, – отвечала Галина Михайловна. – Отвезите меня домой, я дорогу не найду.
И начальник, резко газуя и тормозя на перекрёстках, отвёз упрямую старуху в её избу, а на следующий день вновь явился к ней.
Но явился уже не один – с ним приехал толстый, важный руководитель с масляными губами, чернобровый.
Он был в украинской расшитой рубашке в синий крестик, в распахнутом пиджаке, в штанах, висевших на помочах.
Он, топоча, как медведь, вошёл и расхохотался:
– Люблю я русский наш народ! Упрямый! Смелый! Галина Михайловна, меня зовут Николай Васильевич. Я сам из простого народа. Давайте честно – в какой район вы бы хотели переехать?
– На кладбище, – отвечала старуха, – вот как только сын вернётся.
– Да ну уж, на кладбище! – ещё пуще заржал начальник, оглядываясь и подмигивая инженеру. – Кроме шуток. Хотите, в Октябрьский район, там возле леса новый дом сдают… куда уж лучше!
Хозяйка избы медленно покачала головой.
– Что?! – удивился, даже попятился толстяк.
– Не поеду. Сон видела – сын говорит: дождись на старом месте.
– Что значит сон? Вы же письмо читали? Читали.
– А может, это и не он написал.
– Как же не он? – Толстяк начал сердиться. – Что это вы такое говорите? Почерк видели? Там и про фотографию Татьяны.
Старуха пристально на него посмотрела.
– А ты, что ли, тоже читал? Откуда знаешь? Начальник смутился, утёр лицо просторным платочком.
– Вы уж извините, в тюрьме без конвертов… мы уж сами в конверт вложили… ну, глянули. Чтобы только узнать, согласен ли он.
– Вот он мне и говорит – не съезжай. Толстяк скрипнул зубами. Но улыбнулся.
– Так это во сне! А в письме-то.
– Какая разница, – тихо отвечала старуха, ухватясь жилистой рукой за косяк двери. – Вы уж извините меня, никуда я не поеду. Тут мой огород. смородина. картошка.
– Да мы дадим вам огород. за городом. на хорошей земле!
– Нет, милый человек. Тут всё моё. Начальник побледнел от злости.
– Слушайте, гражданка Никанорова. то есть, Никонова! Вы понимаете, что ваше упрямство обойдётся Облдорстрою в семь миллионов рублей?!. – И, не дождавшись ответа, он продолжал. – Ну, что, что вы хотите? Сына мы освободить сами не можем. обращались к начальству, но они говорят, что он ведёт себя там вызывающе, прошение о помиловании на имя президента отказался подписать… и выйдет ещё не скоро. Что же, нам тут так и держать технику, людей, лишив половину города удобной развязки?
Старуха угнетённо молчала, глядя вниз. Начальник сопел, не находя больше слов, за его спиной ходил в сенях, треща пальцами, инженер.
– Ну, ладно, – буркнул начальник. – Сколько вы хотите?
– Чё? – спросила старуха.
– Денег. Мы вам заплатим полмиллиона… это стоимость трёхкомнатной квартиры… Сами выберете, где захотите… И участок вам выделим за городом.
– Я уже сказала, никуда отсюда не поеду. Моё последнее слово. – И старуха Никонова закрыла дверь перед носом начальника строительства дороги.
– Она сумасшедшая… – только и услышала через дверь.
– Н-да. – Гости вышли на крыльцо. – Но вы знаете, Николай Васильевич, тут что-то не то. Сын её был большой разбойник. И письмо странное. «Собери мои вещи по углам». И добавляет: «Ты меня поняла?» Может, он какой-нибудь клад закопал. чего она за эту избу держится?
– Брось. Какие нынче клады.
– Ну, мало ли… золотишко… Я Толю попрошу, он местный, по-свойски поговорит. стены вместе обстукают.
– Перестань.
Но мысль о кладе, видимо, запала в голову инженеру в галстуке.
Однажды Галина Михайловна, придя из церкви, где ставила свечку во здравие и благополучное возвращение сына своего, обнаружила, что в доме кто-то побывал.
Она, наклонясь, обошла избу – вот, половицу в углу фомкой или топором поднимали… сор земляной не смели. Вот, комод её ветхий не так закрыт – дверца сползает вместе с медными петлями, и надо её приподнять, чтобы встала на место. Вот, и за настенным зеркалом письма потревожены – ближним выглядывало письмо от покойного брата, с портретом Гагарина на конверте.
Что-то искали.
Усмехнулась старуха, огорчилась старуха, голова у неё сильно заболела, и левая рука будто отниматься собралась. И пошла Галина Михайловна, еле волоча ноги, в поликлинику. Но там длиннющая очередь к невропатологу. да и платить, говорят, надо.








