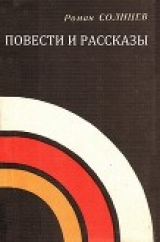
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 44 страниц)
БАБУШКА С РАЗНОЦВЕТНЫМИ ГЛАЗАМИ
У моей бабушки были глаза разноцветные – один зеленовато-синий, а другой черный. Рассказывают, ее маленькую, в возрасте невесты (четырнадцать лет), дразнили ведьмой и побаивались. Юная тоненькая Фатима за словом в карман не лезла, могла высмеять любого парня так, что тот долго ушами тряс, красный, как вареная свекла, не зная, чем ответить.
– Чего ты все время бежишь? Ты чужую курицу украл? Это она у тебя в штанах болтается?
– Зачем так на меня смотришь? Это у судака глаза не закрываются.
А ты же человек?
Как тут ответишь? Красивая была девочка.
А жизнь у нее сложилась долгая и тяжелая. Первый ее муж, богобоязненный мужичок из крестьян, надорвался, помогая мельнику ставить многопудовые жернова, и умирал неделю, читая шепотом молитвы… Второй муж (мой дед по отцу) пришел с реки Кама, из рыбной артели, – он погиб на войне с немцами перед самой революцией…
Мой же отец едва не сгорел в танке на второй Отечественной войне, а после фронта пошел работать в милицию, и бабка, помню, кричала ему:
– Зачем в пекло лезете, если нас уже ждет пекло? Чего не сидится дома? Ты же хромой.
И верно, ее сыночек был хром, повредил в пятнадцать лет левую ногу на рубке леса (сшиб топором мениск), однако на фронт попросился добровольцем, стараясь не хромать перед медкомиссией в райцентре…
Однажды я, уже студентом, приехал в начале лета на каникулы домой и, искупавшись в местной речке, простудился. Бабушка отогнала от меня мою маму, сидела рядом несколько дней и ночей. Она гладила мне лоб, заглядывая в глаза то черным, то синим глазом, и все время бормотала и пела молитвы на непонятном языке, а потом, оглаживая лицо сухими ладошками, что-то еще добавляла пугающим свистящим шепотом. Видимо, некие заговоры.
– Какие ты молитвы читаешь? – сердилась мать, в ту пору коммунистка, учительница в сельской школе.
– Какие надо, такие читаю, – резко отвечала наша сухонькая, сутулая старушонка с черными четками на красной нитке, продетыми меж пальцев.
До сих пор я вижу ее в темном платке с красной искоркой, в длинном ситцевом платьишке, в галошах. На шее мониста из старых серебряных монет. До своей болезни я с ней все время спорил о религии.
– Где рай, который обещают попы и муллы? – спрашивал я дерзко.
– Сейчас ты этого не поймешь, как не поймешь разговор синицы в окне, – отвечала она.
– Почему рай по-татарски «жьмох»? Это все равно что жмых. Пить нельзя, курить нельзя, ходи по струнке. Все хорошее из человека выжмет религия, остается жмых. Нет, я не хочу в такой рай.
Бабушка, замахав руками, ругалась себе под нос:
– Ой, пожалеешь, несмышленый парень… ой, что-нибудь потеряешь, бегая по танцам, что-нибудь отморозишь… Ой, Господи, убей его молнией прямо в глупое темя!..
Она мне порой казалась жестокой. Ругала власть за то, что народ распустился. Шипела на моего папу из кухоньки – так шипит примус:
– Ты жалуешься, что зерно с тока воруют. Надо руки рубить!
– Как это – рубить?!.. – не понимал добрый лысый мой отец.
– А вот так! Украл раз – левую руку отрубить. Украл второй раз – мизинец правой руки. И человек поймет…
– Мама, так нельзя. Человек иногда ворует из-за голода.
– А пусть он хорошо работает. Зарабатывает много трудодней. И на чужое добро не заглядывается. На чужую жену. На чужие деньги.
– А если заглядывается, тоже рубить? – уже ухмылялся отец.
– А если пьет, керосином напоить и поджечь ему язык! – выдавала бабушка нечто уже и вовсе несусветное.
Но надо признать: в душе она была иная. Бесплатно вязала из чужой шерсти носки новорожденным в деревне, за копеечную плату – взрослым женщинам кофты, пока начальство не попеняло участковому милиционеру, что его мать занимается капиталистической деятельностью. Если бабушка испекла пироги – несла в соседние избы дать отведать. Если дети первого мужа, ныне тоже старики-рыбаки, привезут сорожек мешок – половину раздаст. Но на язык, на язык остра…
Я думал, бабушка ненавидит меня за глупые слова о религии, а вот же – сидит возле моей кровати и бормочет нараспев какие-то незнакомые слова…
Отец, учивший в детские годы в медресе молитвы на арабском языке, послушав, усмехнулся:
– О смерти она ему читает.
Он сам был коммунист, но, как сейчас сказали бы, контактный. Мать же, услышав слова отца, расстроилась и заплакала.
– Зачем ты ему про смерть читаешь?
– Я читаю, потому что он все равно умрет… – отвечала грозно старуха. – Не сейчас, так позже. Но я уже могу не успеть ему почитать эти молитвы. Он же должен знать, какая дорога его ждет.
– И ты что, знаешь, какая дорога его ждет? – язвительно воскликнула мать. – Отойди, я сейчас ему горчичники буду ставить!
– Ставь, – не возражала старуха. – Только мне не мешай, я дочитаю эти суры.
Мне было то жарко, то холод пронизывал меня, такой, что зубы мои стучали. И однажды среди ночи я очнулся – рядом, как привидение, сидела в темноте снова она, моя бабушка, и, тряся головой, продолжала бормотать нараспев, несколько в нос, свои мольбы.
А в окно светила луна, на улице играла гармонь, смеялись и визжали девушки. И лиловые тени ложились от рамы на золотые половицы. И в окне билась прозрачная бабочка, и тень от нее была огромная, она порхала по мне, как смерть.
– Бабушка, – попросил я старуху, – а ты не можешь мне объяснить по-русски или хотя бы по-татарски, что ты и кому говоришь?
Бабушка словно и сама очнулась, долго на меня смотрела, потом улыбнулась черным беззубым ртом…
Впрочем, вру, мне так показалось из-за болезни и со страху, что рот у нее беззубый. У нее до глубокой старости оставались целы все зубы!
Помню, мама этому изумлялась. А однажды я увидел и вовсе диковинную сцену: наша бабушка Фатима сидела возле горящей печки и, моргая от усердия, напильником шоркала себе во рту.
– Что ты делаешь?! – ахнул я.
– Зуб точу. Грызла орех, зуб сломался, режет язык. – И, вынув напильник, пальцем попробовала во рту. – Теперь гладкий.
– Бабушка, – повторил я уже среди ночи, когда через волнистые зеленоватые стекла окошек светила луна и по комнате порхала огромная тень бабочки, – кому и что ты говоришь в своих молитвах?
Старуха погасила улыбку, поперебирала шарики четок и сказала так:
– Я прошу Аллаха, мой дорогой внучек, чтобы, когда ты будешь переплывать огненную реку… ну, как твой Щапаев, – пояснила она, – чтобы тебя не клевали железные птицы в голову… ну как твоего Щапаева.
Оказывается, она видела фильм «Чапаев» и он очень ей понравился.
И далее весь рассказ свой она вела, сопоставляя с этим знаменитым фильмом.
– Потому что огненную реку можно переплыть, если только не разговаривать. А если тебя будут клевать железные птицы и ты закричишь – огонь тебя засосет.
– А дальше?
– Дальше? – переспросила она, глянув на меня как-то строго. – Дальше будет другая огненная река.
– И там тоже будут пикировать железные птицы?
– Откуда ты знаешь? – удивилась старуха. – Да, там тоже будут железные птицы прыгать на тебя и клевать… но ты должен молчать… ну, как твой Щапаев.
– А дальше?.. – не унимался я.
Старуха вдруг разгневалась. Щелкнула меня костлявым пальцем по лбу.
– Ты не понимаешь? Это очень долго… человек умирает долго… но пока он плывет и старается молчать, он живой…
Я разочарованно кивнул и задремал. На улице девушки пели песни, играла гармонь, а я валялся больной, весь склизкий, с прилипшими к телу майкой и трусами, но я знал, что едва успею выздороветь – уеду, улечу обратно в город, к своим друзьям-студентам…
И я уехал. А через пару месяцев узнал, что бабушку похоронили. Она ходила к подруге через улицу по гололеду, оскользнулась и упала…
И после этого не долго прожила… Болела тихо, ни на что не жаловалась, а перед самой смертью попросила подвесить над могилой кормушку для птиц, четки же, которые постоянно держала в руках, передать внуку, то есть мне.
В мой очередной приезд на родину эти четки мне мать и отдала, сказав почти раздраженно:
– Смотри, чтобы люди не увидели… Религия – это опиум для народа.
Четки были легкие, красная нить была продета сквозь дырочки в круглых шариках. Из чего эти шарики? Кажется, из каких-то отшлифованных семян. Для чего четки? Для чтения молитв? Но чем они помогают? Ритм отбивать? Количество сур? Кто мне объяснит? Теперь уже никто…
Однажды я был в командировке, сошел ночью с поезда и в чужом городе искал гостиницу. И ко мне на темной улице пристали подростки.
Человек семь.
– Эй, у тебя есть закурить?
Я медленно, стараясь держаться максимально спокойно, шел по улице.
Постукивая портфельчиком по коленке.
– Спички есть? – Они приблизились сзади.
Я не ответил.
– Ты что, бля, глухой?! – Меня толкнули в спину, но с опаской (а вдруг сейчас развернусь и вмажу им? А то и оружие достану?)
Я остановился, и – судя по шороху ног – они тоже остановились. Но я – нет, не оглянулся, – я посмотрел на свои часы и зашагал дальше.
– Сколько время? – был следующий вопрос.
Я каменными шагами шел по улице, готовый в любую минуту закричать и броситься бежать. Но сдерживался.
– Да ладно… Он, наверное, немой, – сказал кто-то наиболее малодушный из ночной шайки. И остальные с этим согласились.
И отстали от меня.
Я добрался до гостиницы на трясущихся ногах и долго не мог уснуть. И почему-то вспомнил мою бабушку, ее совет молчать, когда переплываешь огненную реку. Конечно, метафора. И все же…
Прошло несколько лет, серьезно заболел мой отец – и я потерял моего молчаливого отца. Мать моя стала верующей и однажды, когда я прилетел в гости, спросила:
– А четки бабушкины ты хранишь?
– Кажется, – засомневался вдруг я. – Да, они у меня дома висят на гвоздике.
– У меня тоже есть, – похвасталась мать и показала крупные, из красного стекла или пластмассы четки. – Только я не знаю молитв. Что она тебе рассказывала, ты помнишь?
– Конечно, – отвечал я. – Когда мы будем умирать, а мы все будем умирать… мы будем переплывать огненную реку. Ну, как Чапаев. Но мы не должны жаловаться. Нам на голову будут пикировать железные птицы, чтобы мы от боли закричали, открыли рты. Если закричим, нас тут же проглотит огонь.
Мать подумала и спросила:
– А разве бывают железные птицы?
– Наверное, это метафора, – предположил я. – Может, какие-то видения? Вон в тибетской «Книге мертвых» сказано… после времени, равного вдоху и выдоху, ты увидишь…
– Ты такие книги читаешь?! – испугалась мать. И наивно пропела: – Заче-ем?!
– Но ведь мы все равно все…
Мать закрыла мне ладонью рот.
– Не надо так говорить. Дальше. Что она тебе рассказывала дальше?
– Дальше?.. – Я пожал плечами. – Дальше будет другая огненная река.
А там за холмами еще одна… И надо плыть.
Мать молчала.
– И чем спокойней, терпеливей мы будем плыть, тем дольше мы будем жить.
– Тогда она не про смерть тебе рассказывала! – воскликнула мать. – Про жизнь!
Она была мудрая бабушка!
– Конечно.
– Я зря ее не любила! Она была умный человек… – И мать заплакала.
– Я зря, зря не любила ее…
А я однажды плыл-таки через реку. В дикой тайге. И вдруг над моей головою показались железные птицы. Птицы кружились и пикировали, сбрасывая какие-то воющие грузы.
Наверное, шли учения. Но почему не предупредили население? Впрочем, здесь нет никакого населения. Два-три человека на сотни квадратных километров.
Геологи. Бомжи. Беглые зэки.
Я старался не кричать. Потому что бесполезно.
Но когда доплыл, и, сняв с головы почти не намокшую одежду, разжег костер, и понял, что остался жив, я подумал: отныне любые огненные реки я переплыву терпеливо.
Потому что меня заранее предупредила бабушка, которой в свое время очень понравился фильм «Чапаев».
НЕРАССКАЗАННЫЙ РАССКАЗ
Кате повезло – она два летних месяца отдыхала и лечилась в Италии.
Это та самая замечательная страна, которая на географической карте похожа на сапожок, там когда-то жил Микельанджело, а теперь поет Челентано. Катя и еще одиннадцать девочек из разных районов Западной России были бесплатно приглашены в Венецию, где и жили в маленьком пансионате под присмотром врачей, каждый день глотая по шестнадцать, а потом и по четыре разноцветных шарика – говорят, из моркови и чего-то морского… А так – полная свобода, ходи себе по городу у воды и смотри! Только чтобы утром в 9.30, к врачебному осмотру, была в палате, да на обед-ужин забегала. «Повезло!» – говорили друг дружке девочки. «Повезло!» – писали они домой на красочных открытках.
«Повезло!..»– вздыхали они, когда ехали домой и разглядывали сквозь пыльные окна отечественного поезда убогие избы и мостки родины…
«Ой, сколько же мне нужно рассказать!..» – размышляла Катя, как бы собирая в душе горы света и радости, готовая поделиться ими с матерью и отцом, и младшим братом Витей… И про посещение Флоренции с ее выставочными залами и огромным Давидом на улице, и про Верону, и про Падую, и про саму Венецию с ее гондолами и дворцами, про широкие и гладкие дороги Италии… И про манеры итальянцев, про то, какой у них красивый язык… И про долгую поездку в автобусе в оперный театр… надо же, как ласково прозвали: «Ля Скала»… и вообще, у них много этого «ля»…
Народ ласковый, все время смеются, поют, а у нас угрюмый, все злобятся друг на друга… Матери и отцу будет приятно послушать. И еще не забыть бы, как она заблудилась однажды в Венеции, в самом еще начале лечения, и как бесплатно ее привел к пансионату бородатый человек, голубоглазый, весь как бы в голубых волосах… подтолкнул к колонне с крохотным лицом Матери Христа на белом лепном кружочке и заплакал, и пошел прочь… Кате показалось, что это никакой не итальянец… А какие там яркие, жаркие площади, когда каменная ажурная вязь на храмах как бы сплетается с вязью серебристых облаков в небе и оттуда щекочет тебе в груди… Много, много светлого, звенящего везла домой Катя, всю дорогу задыхаясь от счастья, ёёно не участвуя в разговорах, только иногда открыв рот и кивая, приберегая все слова до той поры, когда она доберется к своим… «Один» по-итальянски «уно», «все» – «тутто»… А еще они любят объясняться без слов – Катя сразу, как увидит брата, приставит к щеке пальчик – это означает «сладко», «радость». Скорей бы домой!
Но дом у Кати был уже не тот и не там, откуда она выехала. Жила она прежде с родителями в селе Чудово, возле ручки Чудной и озера Чудного, которое весной соединялось с речкой. По берегам плясали белые березники, на горячих откосах вызревала земляника(сейчас, наверно, уж от солнца сгорела!). В озерной воде белые и желтые кувшинки стоят, как салюты. Захочешь сорвать – стебли тянутся, как резиновые, и неожиданно рвутся: дн-дук!.. Будто говорят: дундук!.. Зачем рвешь? Но не сюда, не сюда возвращалась нынче Катя. Весной в село приехали на машинах с красным крестом и на зеленом вертолете прилетели люди в белых халатах и напомнили всем на сходке и по радио, что в этих местах восемь лет назад выпали нехорошие дожди.
Так вот, на кого упало пять-шесть капель, так ничего, а на кого пятьдесят-шестьдесят, то уже человек мог заболеть. Но разве вспомнишь через столько лет, на кого сколько капель упало? Катя и вовсе не помнила тот апрель… Маленькой была. Говорили, где-то на Украине что-то взорвалось, а потом погасили. Катя только что второй класс закончила, радовалась – каникулы начинаются… Кажется, тоже кто-то приезжал, говорили – уполномоченый… еще шутка ходила: упал намоченный… С чем-то вроде будильника ходил по селу… После его отъезда председатель колхоза Шастин приказал нынешние яблоки и прочие фрукты-овощи не есть, и даже скоту не давать! Но, конечно, и сами ели, и скоту давали. Яблоки уродились огромные, алые. Брат Витя бил по рукам сестренку: нельзя!.. Почему?удивлялась Катя, разглядывая тяжелый плод как бы с нарисованными лучами. Я только посмотрю. Кожица, что ли, толще? Может кишки порезать? Или яд в мякоти? Витька трус, как девчонка… И постепенно забылась вся эта история со взрывом. И в последующие годы в деревне яблоки ели. И коров гоняли к пойме, в сочные травы. И за ягодой в лес ходили… Но вот нынче весной всех так напугали. С железными шестами обошли все окрестности, в землю их совали, в старое сено, и эти шесты все попискивали и попискивали…На вертолете прилетел толстый с погонами и постановил: село Чудово немедленно переедет. Для особого лечения отобрали двух девочек, Катю Жилину и Нину Бабушкину, только эта Нина попала в Германию… Увидеться бы, да где теперь? Нина со своими тоже, небось, куда-то переехала. Чудовлянам были на выбор предложены полупустые села в Поволжье и даже в Сибири. Катя-то как раз и ехала на новую родину – в Сибирь. Долго ехать – от границы пять суток.
Родители с братиком ждут ее под Красноярском, в селе Желтый лог.
Интересно, что за Желтый лог, – думала Катя. – Наверно, все истлело от зноя и воды нет. Желтый лог, улица имени Ленина, дом 31-а. Вот уж она им расскажет про старинную речку Тибр…Говорят, русское слово «стибрить» от названия этой речки. Русские матросы были некогда в Италии и стибрили какую-нибудь черноглазую красавицу. Вот и пошло слово «стибрить». А слово «слямзить»? В какой стране река Лямза?.. В Москве, перед тем как «итальянок» рассадить в разные поезда, их целый день водили по огромной больнице, из кабинета в кабинет. И слушали, и просвечивали. И анализы брали. И ничего не сказав, только погладив по русым головам, отвезли на вокзал и усадили в поезда.
Дали десять тысяч рублей на дорогу, и Катя успела их все уже истратить. Что делать, если буханка хлеба стоит…
Но разве эти горести могут заслонить в Кате радость, которую она везет домой? И даже то, что тетенька-проводница сказала, что титан сгорел, кипяченой воды нет и не будет, и Катя пила сырую, и у нее разболелся живот… И даже неприятные взгляды какого-то небритого дядьки в тельняге и пятнистой куртке, пятнистых штанах и разодранных кедах… Он ей сиплым шепотом то стишки собственного сочинения читал, то матерился, ощерив гнилые зубы, залезая на третью почему-то полку, под самый потолок плацкартного вагона, как раз над Катей…
Катя лежала, зажмурив глаза, и мысленно успокаивала страшного дядьку, как успокаивают незнакомую злую собаку: «Ты хорошая, хорошая, не трогай меня, я невкусная, одни кости и жилы…» Конечно, последнюю перед Красноярском ночь Катя не спала. Кто-то оставил на столике мятую газету «Российские вести» с портретом президента, вот Катя и делала вид, что читает ее при тусклом ночном освещении, искренне надеясь, что угрюмого соседа с третьей полки портрет руководителя государства отпугнет, тем более что ниже грозно чернел заголовок: «Пора решительно взяться за борьбу с преступностью!» А когда проводница объявила, что поезд подходит к Красноярску, Катя обнаружила, что у нее пропала из сумки шерстяная кофта, подарок для матери – лежала на самом верху, а Катя всего лишь отлучалась в туалет, лицо и руки помыть… Катя заплакала и исподлобья оглядела соседей – и смуглую бабушку с двумя курчавыми внуками, узбеки едут, и отвернувшегося к окну, проспавшегося на конец дядьку в пятнистой робе, и носатого, суетливого типа с золотыми зубами… И все, решительно все показались Кате подозрительными, все могли украсть…
И добрая Катя второй раз всплакнула, теперь уже от стыда – как она может подозревать людей на своей Родине? Этак и жить нельзя…
На перроне стоял братик Витя, держал в руке телеграмму, которую из Москвы послала домой Катя. Он подрос за это лето, лицо у него стало суровым, рыжие вихры были смешно обкорнаны, как у петуха. Ах, ведь это у нынешних пацанов во всем мире такая мода. Катя стояла перед ним вся в заграничной одежде, в нелепой панамке, с кожаным дорогим чемоданом подарок итальянской больницы – и сумкой, в которой лежал для Вити очень похожий на настоящий пистолет с патронами. Витя же был, как тот сосед по купе, в афганке, в кроссовках. Он, конечно, сразу узнал сестру, но почему-то оглядывался и сопел.
– Витя, – тихо сказала Катя и снова захныкала. Что-то она часто стала плакать. – А мама, папа здоровы?
– На работе, – буркнул брат и забрал у сестры чемодан. – Нам на автобус. – И как бы нехотя сказал. – Ты здорово изменилась. Как они там, буржуи? Хотя и тут!.. – и махнул рукой.
Автобус был набит битком и кренился, как кораблик в море. Катя через желтые немытые окна толком не видела города, но город, кажется, был большой… По ту сторону реки дымили трубы заводов… Но вот выехали в чистое поле, Катя увидела бульдозеры, асфальтоукладчик… А вот и картошку окучивают… А вот пошел лес, замелькали холмы… Где же село Желтый лог?
В автобусе поначалу громко говорившие люди замолкли. Шофер включил радио, визгливо пела какая-то певица. Потом водитель выключил радио и объявил:
– Приехали. – Но никто и не вздумал подниматься. По голосу пассажиры поняли, что автобус сломался, вернее – прокололась шина. Пока шофер в очках менял колесо, часть мужчин вылезла покурить, и вместе с ними – Витя.
– Ты куришь? – только и успела ахнуть ему вослед сестра. Он смотрела в окно, как он солидно затягивается, стоя возле водителя, как он помогает тому – вот старое колесо понес подвешивать на задке автобуса, вот вернулся, закурил вторую сигарету.
Катя понимала, что он курит как бы для нее, устанавливая некую дистанцию: ты там по заграницам отдыхаешь, а мы тут работаем, и еще неизвестно, будет ли от тебя прок в новой тяжелой российской жизни… Наконец, автобус покатил дальше, и холмы раздвинулись, и перед Катей возникло небольшое село как бы в чаше, раскинувшейся до горизонта, с рыже-зеленым лесом по краям. Катя поняла, что это и есть ее новая родина. Она суетливо, несколько стыдясь своей праздничной одежды, вышла за братом из жаркого, вонючего автобуса, и он, не оглядываясь, повел сестру по пустынной улице. Дома здесь были разные – и дорогие коттеджи из красного кирпича, и сиротские избы, полубараки… Дом 31-а оказался именно таким, серым, под латаной шиферной крышей, но зато со своим двором и сараем. Ворота покосились, крыльцо было новое, из свежей доски, и эта малость уже как бы давала надежду: мол, ничего, было бы откуда стартовать… На дверях висел амбарный замок, и Катя поняла, что родителей дома нет.
Витя достал из глубокого кармана штанов длинный ключ, отпер дверь, и брат с сестрой вошли в темный дом.
Каждый дом имеет свои запахи. Дом, в котором жили Катя, Витя и родители до переезда, пах деревом, табаком, кипяченым молоком…
Здесь же воздух был сырой, какой-то каменный, наверное, потому, что строили эту хибару из шлака, кое-где штукатурка отлипла и из щели сыпался песок… Но предметы сюда почти все были перенесены из катиного детства: зеркало на стене, швейная машина мамы, сундук бабушки, обитый лентой из железа, и конечно же, все одеяла, одно – бывшее бабкино, а потом ставшее катиным – ватное одеяло с пришитыми разноцветными клочками ситца… Но, несмотря на родные вещи, воздух здесь был казенный.
– Чаю с дороги? – баском спросил Витя и поставил на новую электроплитку новый зеленый чайник. Заглянул в зеркало, пригладил… нет, наоборот, как-то еще более нелепо взъерошил волосы на голове и только наконец улыбнулся: – Чинзано не привезла?
– Чего? – изумилась Катя и вдруг поняла, вспомнила – ведь он же дитя, об Италии знает по фильмам, а там все чинзано пьют. – Брала, но на таможне отобрали, – соврала Катя. – Зато я тебе… вот… – Она вытащила из-под одежды в сумке тяжеленный револьвер и коробочку с патронами. – Все говорят, как настоящий…
В первую секунду вздрогнувший от радости, Витя с надеждой спросил:
– Газовый?
– Н-нет… Но грохает – испугаться можно. – Катя поняла, что подарок ее для брат смешон, и с виноватой улыбкой сказала:
– Не дали бы пропустить, я узнавала. – Она снова поймала себя на мысли, что совсем упустила из виду: брат вырос. И добавила. – Я слышала, там что-то сверлят… и он становится, как настоящий.
– А! – это уже меняло дело. Витя сопя принялся более внимательно оглядывать оружие. И буркнул. – Спасибо. – Вставил патроны, открыл запертую форточку и, высунув руку во двор, нажал на спусковой крючок…
– Ты что?! – только и ахнула Катя.
Раздался оглушительный выстрел. Удовлетворенно улыбнувшись, Витя сунул револьвер в карман пятнистой куртки и принялся заваривать чай.
«Cейчас я ему что-нибудь про итальянских карабинеров расскажу», приготовилась Катя, но Витя сказал, глянув на часы, что ему надо идти узнавать насчет угля. – А ты пока сиди… отдыхай с дороги… – и брат, которого она не видела столь долгое время, убежал… «Ну, что ж… вечером…» – вздохнула Катя и принялась доставать из чемодана обновы. Слава богу, и кроме кофты она кое-что купила матери: блузку, платок с видом Венеции, легкие тапочки для дома… А отцу привезла толстый свитер и часы на ремешке. Сэкономила из лир, выдаваемых на карманные расходы. Ах, надо было и для Вити что-то еще купить! Может, часики отдать? Хотя часы у него есть. А свитер явно будет велик.
«Интересно, ванная у них есть?» – подумала Катя и тут же смутилась.
Какая ванная? Дай бог, если есть баня. Катя переоделась в трико и простенькую кофту и вышла во двор. А вот в Италии есть дворы – деревья и цветы растут вокруг фонтана… надо будет рассказать… В сарае валялся всякий хлам, видимо, принадлежавший прежним хозяевам: колеса от телеги, грязная рогожа, смятые бидоны, разбитые аккумуляторы… А вот в Италии Катя видела – на площади перед дворцом чернолицые, как черти, мальчишки выдували изо рта пламя.
Говорят, они берут в рот керосин и поджигают возле лица, когда выдувают… И сидит в стороне угрюмый такой дядька, возле ног прикрытые тряпкой предметы, и человек протягивает тебе руку, и если ты пожмешь, то тебя бьет током! У него под тряпкой аккумуляторы! И ему платят за такое развлечение. Надо будет Вите рассказать… Бани у Жилиных еще не было – за сараем стоял белый сруб без крыши, рядом громоздилась гора черного битого кирпича. Наверное, отец собрался печь с каменкой выкладывать. И речки рядом никакой. Но зато на углу между сараем и домом – железный бак с водой. А поодаль – за холмиком бурьяна картошка растет, налились тускложелтые помидорки размером с морскую гальку. Видно, поливали, когда рассаду садили… А сейчас вода уже ни к чему. Катя заглянула в бак темнозеленая вода, поверху сор плавает… Катя сходила в сени, взяла одно из чистых, кажется, ведер и, раздевшись за сараем, облилась теплой водой. И услышала голоса приближающихся людей, сдавленный смех. Кто-то воскликнул:
– Ой, бабы, голая! Совсем стыд потеряли…
– Это чья же это?..
Катя метнулась к баку, пригнулась – в стороне заржали. Где же эти люди, откуда они ее увидели? Торопливо, трясясь, оделась… потеряв равновесие на одной ноге, чуть не упала – ободрала локоть о ржавую жесть бака…Медленно, пунцовая от неловкости, выпрямилась – из переулка, незамеченного ею, на улицу выходили несколько мужчин и женщин с мешками на плечах, уже не глядя на девушку. Катя прошмыгнула домой…
Она попила чаю и села у окна, как когда-то в детстве сидела. Больше никто на улице мимо не проходил. Унылая рыжая местность, какие-то тусклые дома, отсутствие деревьев, сломанный трактор посреди улицы, без гусениц, три грязные свиньи в сухой яме – все это вызвало в душе такую острую, страшную тоску, что она в третий раз за этот день зарыдала… И сама не зная почему, Катя бормотала сквозь слезы:
– Бедные мои! Куда вас занесло… за что?.. Разве тут можно жить?
Бедные мои… – Перед ее глазами вставали тополя в деревне Чудово, чистая речка с золотым песком на дне, кувшинки в Чудном озере, гуси и утки, церковь на холме с золотым куполом… И тут же, близко, за спиной деревни Чудово – суровый мраморный Давид Микельанджело, виллы с белыми колоннами, увитыми плющом и виноградом… и высоко, до облаков бьющие фонтаны, а над ними, как папаха, алозеленые радуги…
Катя сама не заметила, как перебралась на топчан, принадлежавший, видимо, брату и, подтянув по привычке коленки к животу, уснула…
Ее разбудили шаги по дому, чайник, запевший, как оса, запах бензина и кашель матери. Катя поднялась – горел свет, на дворе уже стояли сумерки, родители накрывали стол.
– Мама! Мамочка!.. Папа!.. – Катя обняла мать и закивала отцу. Извините… не знаю, где что…надо было яичницу поджарить?.. – Она помнила, что отец любил яичницу. – Ой, такая была поездка!.. Как я вам благодарна!
– Нам-то за что? – отец как-то странно смотрел на нее. – Это уж партии-правительству… или как теперь?
И Катю удивило, что и мать смотрела на нее непривычно-пристально.
– Как себя чувствуешь, дочка?
– Нормально.
– Говорят, ты купалась…
– Где? – Катя покраснела. – А-а… Да с дороги хотела окатиться… Я не знала, что тут подглядывают. А что?
– Ничего. Осенью как, учиться пойдем? Или работать? Тебе врачи что сказали?
– Врачи? Ничего.
– Совсем ничего? – накаляющимся голосом переспросил отец и, стукнув кулаком по столу, смирив себя, прошептал. – С-су– ки!..
– Коля! – умоляюще прервала мать этот малопонятный разговор. – Давайте есть. – И позвала. – Витя-я? Ты скоро?
Вошел брат, обтирая ладони о штаны в опилках. От него пахло струганым деревом.
– Готово, – сказал он. – Сверху поролон ей кину – будет, как царевна, спать… – Катя поняла, что Витя мастерил ей лежанку.
– Ой, мам… а в Венеции у нас были койки! Что в длину, что в ширину…
– Потом расскажешь. Небось, от картошки отвыкла? Папа, ты что же все в окно глядишь?
– Налей.
– Коля, тебе сегодня не надо.
– Как это не надо? Дочь приехала.
Мать ушла в сени, а Катя быстро проговорила:
– Пап, а у них там вина…красное называется кьянти…
– Потом! – чуть не зарычал отец. Видимо, его глодала какая-то обидная мысль, он пробормотал. – Все на свете знают, что нам, русским, надо… когда пить… где нам жить… когда помирать… А вот хрен им! Скоро ты?!
Мать уже наливала ему в стакан водки.
Отец угрюмо выпил и начал жевать хлеб. Катя еще раз хотела было как-то скрасить стол рассказом об Италии:
– А еще они перед едой молются…
– Потом как-нибудь! – отец повернулся к Вите. – Уголь дадут, нет?
– Обещали. – Витя, подражая отцу, ел с суровым видом картошку с хлебом.
– Нам всю жизнь обещают… сначала коммунизм обещали, потом капитализм… А в итоге – люди все хуже живут, да еще их травят, как тараканов… – Отец вынул из кармана что-то вроде карманного фонарика с плоской батарейкой и прислонил к стене дома. – Так. Даже здесь… около тридцати… Ну-ка, твои волосы? – И он больно ткнул железкой в голову Кате. – Тэк-с. Тридцать.
– Он, наверно, у тебя неправильно показывает, – заметила мать, кашляя в платок и старательно улыбаясь. – И здесь тридцать, и на улице тридцать…
– А потому что везде заражено! – закричал отец, наливая себе еще водки. – Где-то в тайге атомный завод… Нету чистой России! Бедная моя дочка!.. Что они с тобой сделали?!
– А что? – не понимала Катя. – Зато как нам повезло… Мне и Нинке…








