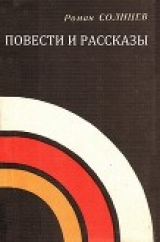
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 44 страниц)

Роман Солнцев
Повести и рассказы
ДЯДЯ МАКСУМ
В нашей деревне жил учитель рисования, долговязый, в шляпе, улыбчивый дядя Максум. Не Максим, а именно Максум – так изменилось в татарской речи знаменитое имя. Впрочем, знаменитым оно стало, когда по стране прокатился кинофильм «Юность Максима», и мы все его посмотрели раза по три, и нам казалось, что дяде Максуму, конечно же, приятно слышать каждый день имя, которое, пусть и не совсем, совпадает с именем самого учителя.
Но дядя Максум, как ни странно, не был в восторге от этого фильма.
Неизменно улыбаясь и жмурясь (как слепой, который ощупывает в солнечный день палкой дорогу), он уклонялся от разговоров, когда мы взахлеб пересказывали тем, кто еще не видел фильма, эпизод за эпизодом из «Юности Максима».
– Крутится, вертится шар голубой… – напевали мы, очень нам нравилась эта песенка. – Кавалер барышню хочет украсть.
И спрашивали у нашего учителя:
– Здорово, да?
Он ничего не говорил. Нет, я не скажу, что снисходительно отмалчивался. Как теперь я понимаю, он молчал, как молчат мудрые люди, глядя на божий мир, на бабочек над цветами, на овец у речки, – ласково и не желая раньше времени что-то объяснять визжащим от радости детишкам.
И уже в девятом, кажется, классе на мой вопрос:
– А помните, дядя Максум, кино про Максима?.. – он ответил негромко:
– Там очень мало красоты.
– Какой красоты?.. – удивился я. – А песня?
– Песня, да. Но остальное не совсем по правде. Я не люблю комедию, у которой в галошах кровь. Ну, ладно, – он спохватился или сделал вид, что спохватился, и, улыбнувшись отечески, потрепал меня по голове. – Ты обещал воду вечернюю нарисовать.
Я смутился. Мне мама купила дешевых акварельных красок (вроде разноцветных пуговок, пришитых к картонке), их полагалось размачивать мокрой кисточкой. Но кисточка у меня была самодельная: на деревянную палочку я насадил жестяную трубочку, свернутую мною самим, из нее торчали в разные стороны несколько волосков, срезанных с хвоста моего пса. И когда я вел этой кисточкой по бумаге, краска ложилась плохо, брызгалась. Оставались следы, похожие на белые лучи.
Но если постараться, можно было что-то нарисовать.
Сам же дядя Максум работал масляными красками. Помимо того, что он преподавал в школе, он занимался копированием знаменитых картин русских художников. У него имелся альбом с цветными репродукциями, над которыми он и колдовал. Причем трудность усугублялась тем, что дядя Максум натягивал холст или резал картон именно того размера, что указан под репродукцией.
У некоторых односельчан, его родственников, в избах уже висели на гвоздиках его внушительные творения («Бурлаки на Волге», «Иван Грозный убивает своего сына»), и посмотреть на них учителя водили школьников.
И даже нашей семье он подарил копию левитановской запруды. Я иногда стоял перед этим чудом в струганной желтой раме и не мог понять, как дядя Максум добился того, что вот справа вода гладкая, как стекло, а слева льется, живая, слоями…
Понятно, моими акварельными красками этого не изобразить, и я умолил отца купить мне в районном центре масляных красок. Они тогда не были столь уж дороги, но ведь и денег у нас, у колхозного люда, имелось только на самую необходимую одежду, на закупку сахара и городского хлеба к празднику. Отец повертел лысой башкой, удивленно разглядывая меня, и привез-таки десяток тюбиков, на которых было написано печатными буквами: краплак, сиена, берлинская лазурь и прочие волшебные слова.
Полбаночки олифы и две кисточки (настоящие, шелковистые) мне торжественно вручил дядя Максум. У него этих кисточек и олифы, и красок много, ведь он, когда ездил в город, по-моему, ничего больше и не покупал. У него даже патефона не было.
Правда, собираясь в клуб смотреть кино, дядя Максум всегда надевал свою знаменитую шляпу, серую, как табачный пепел, с розовой опояской. И костюм на нем был глаженый, брюки со стрелками. И полушубок аккуратный, – гладить и штопать он умел не хуже женщины…
Получив от него орудие труда, я вдохновенно принялся писать (так принято говорить среди художников) воду.
О, вода! О, вечернее небо!.. Как легко, на первый взгляд, изобразить закат, смутнозеленые ветлы, отраженные в малиновой воде… Кажется, и получалось, да только вода выходила мертвой. Как на картонках с целующимися лебедями, которые свернутыми продаются на колхозном базаре. Фу, пошлость и бездарность! Хотя народ-то покупает и приколачивает их на стену возле кроватей и топчанов…
Конечно, дядя Максум таких лебедей, если бы захотел, малевал бы десятками и зарабатывал бы большие деньги (или брал бы дровами, курицами, овцами). Если бы у него была жена (а он, как вы уже поняли, жил бобылем, причины этого никому не были понятны!), она бы уговорила его. Но учитель рисования лишь ласково улыбался, когда мы намекали на столь выгодную работу.
Поделки разрешалось продавать на колхозных ярмарках, при условии, если художник пожертвовал в «ленинскую комнату» или в клуб что-то бесплатно.
Дядя Максум подарил правлению колхоза «Зимний лес». Там все снежинки как настоящие. И для сельсовета изобразил нашу речку с лодкой, в которой сидит, согнувшись, рыбак в брезентовом плаще. В нем все мы узнавали старика Ислама, хоть и лица не видно. Вода вокруг сверкала, как зеркало или как оклады на иконах…
И вот уже месяц дядя Максум старательно копировал «Трех богатырей» Васнецова. Да и правду сказать, картина огромная, там лоснящиеся лошади с буграми мускул на груди, на лошадях богатыри в расшитых золотом одеждах, под сапожками у них серебряные стремена, в руках полувынутые грозные мечи… надо же все это тщательно прописать. А репродукция, как и другие репродукции в альбоме, была блеклая, словно подмороженная осенью трава, поэтому дядя Максум изобразил богатырей такими, какими их представлял себе: один из богатырей, Алеша Попович, стал огненно рыжим, как наш кузнец Василий, хотя и сохранил сходство с оригиналом на листочке. Илья Муромец напоминал Вахитова, секретаря райкома, грузного бранчливого дядьку с вечно надутой щекой. А Данила Никитич получился ну точно как наш председатель колхоза – ленинский прищур, скулы… Постепенно картина стала яркой, заиграла красками, куда репродукции до нее!
А почему дядя Максум напомнил мне про воду? А потому, что я любил смотреть на воду (и в воду!) в самое разное время дня, именно изображение воды, этого живого хрусталя, восхищало меня.
Сам он, учитель рисования, не окончивший никакого училища, умел как никто создать глянцевитую светящуюся поверхность. Работая тщательно тонкими кисточками, выписывая рябь или пену, он в некоторых местах, где вода должна получиться зеркальной, по-моему, и какой-то тряпочкой подглаживал…
Однажды я пришел к нему домой, принес замученную свою работу – (вечерняя вода в камышах). У меня никак не получалось, чтобы черные (коричневые? темные?) свечи рогоза таяли в огне вечернего света, но и угадывались…
Явился я к дяде Максуму, а у него гости вокруг большого медного самовара на углях. Я уже мельком видел этих людей, недавно приехавших в наше село. Отодвинувшись от стола и важно помаргивая, сидел в тесном костюме, в багровом галстуке Кузаков, новый директор школы (прежний директор, Рустам Валеевич, умер в лесу, когда грузил с завхозом на зиму для школы спиленные березы). Рядом с ним восседала, высоко вскинув голову в черных кудряшках на тонкой шее, его жена, учительница литературы. Про нее говорили, что она знает немецкий язык и вообще знает про все на свете. И между ними моргал, точно как его папа, румяный пухлый мальчик в красном галстуке. И не сразу я заметил – в стороне, на отдельном стуле, лежал плоский чемоданчик затейливой формы (как у груши).
И я услышал продолжение разговора. Поглядывая на завершенную копию «Трех богатырей», которую дядя Максум, видимо, по просьбе гостей, выставил на могучий, сколоченный им самим мольберт (не путать с Альбертом Эйнштейном, как шутил сам дядя Максум), тетя в кудряшках высокомерно говорила:
– Что это такое?! Это же примитив. Сами-то картины пошлые… а зачем еще и копии снимать?! – Она поднялась и подошла к двум другим картонкам, висевшим на бревенчатой стене справа и слева от черного картонного репродуктора. – Да и это… Сусальный сюжет… гладкопись… нет места для мысли, для тайны… Есть же и другие учителя! Вот Юрий Михайлович воевал, был в Европе, пусть он скажет.
Но ее муж молчал, опустив глаза, помаргивая и крутя в пухлых розовых пальцах рюмку с водкой.
– «Три богатыря»… Товарищи! – Она обращалась к дяде Максуму, но слово «товарищи», видимо, относилось теперь ко всем местным учителям. – Вы хоть представляете, какой век на дворе?!
Замечу, что это были пятидесятые годы, их последняя треть.
– А что такое? – спокойно спросил дядя Максум. Он, глядя на нее, очень доброжелательно улыбался. – Вы имеете в виду абстракционистов?
– Да не только! Были же импрессионисты, постимпрессионисты… Они чувствовали цвет, свет, они умели передать объем, они умели расчленить предмет, показать его… – Она запнулась, подбирая слово.
– Внутренность? – подсказал дядя Максум.
– Ну, не совсем!.. Сущность, суть предмета!..
– Хорошо, сущность… например, сущность женщины… – продолжал с улыбкой хозяин стола. – Я видел у Пикассо… на открытке… портрет, кажется, жены… Мне это не нравится. Если бы вас так изобразили, вряд ли Юрий Михайлович повесил картину на стену.
– Да при чем тут Юрий Михайлович и я?.. – заговорила гостья, сверкая глазами. – Почему так примитивно?.. Я про язык искусства. В этой тщательности столько убожества… в этой гладкописи… Художник должен быть небрежен, он может недоговаривать… два-три мазка – и мы понимаем…
Ее муж продолжал молчать, крутя в руке рюмку. Отсвет от водки играл на потолке.
– Это как в поэзии!.. – не унималась гостья, расхаживая по комнате.
– Блок писал: любое стихотворение держится на двух-трех словах, как на звездах… А всему виною наше подражательство, терпеливость… серость наша… Боже мой, как я от нее устала!
– А зачем ты сюда поехала?! – вдруг зло спросил ее муж.
Она обернулась к нему, вспыхнула лицом.
– Ну как зачем?! Из-за тебя!
– Ну, ладно, пошли домой… – пробормотал новый директор школы, тяжело поднимаясь из-за стола. Недопитую рюмку он поставил, словно ввинтил, на столешницу.
– Да подождите же! – приложил руки к груди дядя Максум. На ногте одного из пальцев у него синела краска. – Ну зачем так? Пришли, мы рады вам. Нам вместе работать. Это же нормально, если люди учатся другу у друга. Мне очень интересно было послушать Зою Николаевну. А теперь, может быть, мальчик ваш сыграет на скрипке? Я слышал, он хорошо играет.
– Да нет, Алик пока еще только учится, – смутился отец семейства.
Но жена его словно споткнулась, чуть поехала на половиках, вернулась к столу, заулыбалась, поправила волосы.
– Конечно, конечно! – и подала толстому мальчику чемоданчик с кривыми стенками. – Конечно!
Алик (Альберт?) раскрыл футляр, вынул скрипку и смычок.
Вопросительно глянул на отца, – тот не сразу, но хмуро кивнул. И мальчик встал из-за стола, сделал привычно-плаксивое лицо и заиграл (завизжал) на струнах. Он вытягивал какую-то знакомую мне мелодию, но я не сразу сообразил, какую. Кстати сказать, в те годы по радио часто передавали классическую музыку. Мне показалось, Алик пару раз сфальшивил… даже у отца его дернулась щека…
А вот дядя Максум слушал юного скрипача с восхищенной улыбкой, как слушал бы в другое время пение синички или воробья. Мальчик играет, как умеет, мальчик старается, это очень хорошо.
В самом деле, Алик старался, – по его лицу вниз к шее ползли капельки пота, как белесые зерна риса…
Когда он закончил и поклонился, как принято у музыкантов, мы зашлепали в ладони. Звонче всех аплодировала мать, она разрумянилась и совсем по-простому, даже как-то наивно, спросила у дяди Максума:
– Ну как? Правда, он способный мальчик?
– Я думаю, да, – ответил дядя Максум.
– Его учитель говорит, у него пальцы живые… стойка хорошая… А то, знаете, некоторые скрипачи дергают плечами, сутулятся, хлопочут физиономией… а он как столбик.
– Да, – подтвердил дядя Максум. – Может быть, еще что-нибудь сыграет?
– Нет-нет, хватит, – кусал губы новый директор школы. – Ему надо в одиночестве пока… без зрителя… – И снова поднялся. – Спасибо вам, Максум Валеевич. Мы пойдем.
Гости двинулись к сеням. Зоя Николаевна, глянув на копию левитановской «Запруды», вдруг засмеялась и сказала:
– А правда, в этой наивной старательности есть что-то… чистота души… когда я была маленькой, я очень любила такие картины. А ты, Юра?
– А мне и сейчас нравится, – буркнул он. – Ну, нет тут телевизоров пока… и в Лувр дети не поедут… пусть хоть у него поучатся красоте…
– А я что говорю?! – уже шла на попятный учительница литературы. – Я только о том, что ему, может быть, пора ставить себе уже более высокие задачи. Он же прекрасно владеет кистью.
Новый директор школы ничего не ответил говорливой жене, а дядя Максум согласился:
– Конечно, Зоя Николаевна, нам тянуться да тянуться к совершенству… я же это понимаю…
Когда он захлопнул за ними дверь сеней и вернулся, лицо его было сумрачным. Я подумал, он сейчас выпьет водки. Но дядя Максум, брезгливо выпятив губы, выплеснул в ведро под умывальником остатки алкоголя из рюмок, ополоснул их. И снова, заулыбавшись, как после хорошего веселого рассказа, спросил у меня:
– Чай будешь пить? С молоком. Соседи молоком поделились.
Я хотел было поделиться обидой: почему эта тетя так себя вела? Она же потом все-таки призналась, что тонкая живопись ей тоже нравится?
Или сказала так лишь потому, что дядя Максум похвалил игру ее сыночка?..
Но я передумал терзать вопросами учителя рисования.
Он пил горячий белый чай, с улыбкой поглядывая вверх, на «Трех богатырей».
– А как твоя вода? – спросил он в который раз. – Старайся. У тебя получится.
– Почему вы уверены?
– Уверен, – ответил дядя Максум и положил мне ладонь на темя. А рука его показалась мне вдруг ледяной. Он так переволновался за время разговора с гостями?
Я часто его вспоминаю.
Только позже я понял, каким он был ранимым, этот бесконечно добрый человек.
Сменилась местная власть, новый секретарь райкома, побывав в гостях у дяди Максума, достал ему туристическую путевку в Москву и Ленинград, пообещав через год-два путевку и за границу.
Дядя Максум посетил в Москве Третьяковскую галерею, Музей изящных искусств им. Пушкина, а в Ленинграде – Русский музей.
Вернулся из поездки, привычно улыбаясь, но каким-то рассеянным. Мне говорили, он кому-то сказал:
– Картины великих лучше, чем я мог себе представить. Это с ума сойти, как сотворено.
И вскоре грянула беда. Односельчанам стало известно, что все свои холсты и картонки он сжег в печи. К нему прибегали, просили передать, если какие остались, работы в школьный музей. Но дядя Максум ничего никому не отвечал – сидел, небритый, босой, глядя в рокочущее пламя огромной печки.
А перед Новым годом слег и умер. И даже районные врачи не смогли сказать, чем он болел.
Одиночество сломало мужчину, говорили женщины села. Многие из них, и не только вдовые, втайне любили этого странного человека, который ни разу за все годы не произнес на людях ни одного бранного слова, всем улыбался и всем, кто хотел, дарил красивые картонки – копии великих картин.
Только почему-то целующихся лебедей не рисовал…
УСЫ
Из историй нашей веселой семьи
1
Нынешняя молодежь вдруг отказалась от усов, а начала отращивать смешные вертикальные серпики на подбородке, какие можно увидеть на картинах старинных живописцев, сохранивших облик королей и прочей надменной знати. Иной раз встретишь и усы, но в сочетании именно с такими волосяными полуколесиками, реже – с торчащей вверх бородкой оперного Мефистофеля.
Молодежь ищет лицо.
А я, лишь только встречу так снаряженного подростка (у него, конечно, еще и золотое колечко на левой ноздре, и серьга на ухе, и «косичка Мастера» на затылке), слышу хриплый хохот своего дядя Саши, который носил усики-треугольник, похожие на усики маршала Ворошилова.
– Бороду носит старый человек. Бороду носит мудрый человек. Мужчина должен носить усы. Пока он может действовать.
– В каком смысле, дядя Саша?
– В любом! – был ответ. И ответ казался бы запальчивым, если бы не весь облик невысокого, слегка кривоногого (привык сидеть в седле), но чрезвычайно сильного, темноликого дяди Саши, по-татарски, – Шаех.
Его мы звали иногда дядя Шейх, на что он гневался.
– В нашей стране не может быть шейхов, мы уничтожили богачей как класс.
– А зачем же, дядя Саша, начальство обещает людям процветание и благополучие?
– А затем, малыш, что все это будет, но сразу у всех, постепенно. А не так, чтобы кто-то выделялся, один богач, а другой в лаптях.
– А если, дядя Саша, один работает хорошо, а другой не хочет работать?
– Воспитаем! – рубил он ладонью воздух крест-накрест, в разговорах со мной становясь как бы и сам подростком. – Заставим! В Конституции написано: кто не работает, тот не ест.
– А если он упорно не работает? А голодовка – это уже политика… я слышал…
Он замирал, уставив на меня свои вздрагивающие желтоватые тигриные глаза. И усики, треугольные его усики тоже подрагивали, словно дядя Саша принюхивался: а не пахнет ли от меня чем-то вражеским, буржуазным, не начитался ли я чего-то недозволенного… Хотя где и откуда? Кроме хрестоматии и разрешенных книг из библиотеки в руках ничего не имел. Разве что слышал россказни, которые и до нашей деревни доходили… да и сам иногда сквозь треск и вой радиоприемника поймаю неведомую станцию, где квакающим голосом кто-то рассказывает ужасные новости из жизни советской страны…
Врут, наверно.
– Врут! – прищурясь, продолжал смотреть на меня дядя Саша. – Отрабатывают деньги капиталистов. Ты мне веришь?
– Верю, – отвечали мои губы, мое горло. Кому же еще верить, как не обладателю двух орденов Боевого Красного Знамени, ордена Красной Звезды и десятков медалей, кто, по рассказу моего отца, переправил в свидетельстве о рождении 1925 на 1923, чтобы попасть на фронт. Когда военврач с сомнением глянул на подростка, мол, не слишком ли хлипкий, дядя Саша подпрыгнул и в воздухе вихрем перевернулся и приземлился на ноги и честь отдал! Отец к тому времени был уже в частях, но если бы оказался в селе, ни за что бы отпустил младшего братишку в пекло…
Как не верить человеку с таким взглядом, у которого пульс девяносто и даже сто, который живет, как горит. Приехав к нам в родную деревню из города, он за месяц отпуска столько полезного делает для нашей семьи, для соседей, для колхоза: поднимет ворота при въезде в нашу Разгуляевку, договорится, приведет на случку знаменитого жеребца с медалью из соседнего колхоза, прибьет доски на протекающую крышу школы, выкопает новый колодец, потому что прежний заилился, да и мусора туда много накидали мальчишки. А еще он обязательно устроит гонки без седел на самых быстроногих лошадях колхоза по лугу и сам выиграет приз – подхватит с травы растопыренными пальцами расписной платок самой красивой девушки села, а еще он поиграет с детьми в войну, побегает с нами по холмам и оврагам, гукая, изображая выстрелы, а потом покажет класс стрельбы из ТОЗовки, которую всегда возит с собой.
Сверкающий черный маслянистый ствол… гладкое деревянное цевье… насечки на боку приклада… прицельная колодка с движущейся планочкой: можно поставить на 50 метров, можно на 100… О, с каким трепетом я брал в руки это оружие! С каким восторгом я разглядывал тонкие медового цвета патроны со свинцовыми пульками…
– Дядя Саша, а на охоту нынче пойдешь?
– Я, – по-немецки отвечал мне дядя Саша, горделиво вскинув голову.
Да, я забыл сказать, у него и нос особенный – с горбинкой, как у коршуна или орла. Почему-то у папы и у меня обычный, скромный… а ведь родня…
– А меня возьмешь?
– Яволь, – отвечал дядя Саша. И нарочно ломая русское слово, как если бы он был полуграмотный татарин, добавлял: Канишно. Абазателно.
После чего весело хохотал…
Никогда не забуду эту охоту на уток. У нас в те годы еще мельница на реке была, жернова крутила, сотрясая гулом и рокотом воды берега, обросшие ежевикой. Перед плотиной стояла, подрагивая, зеркальная вода, во все стороны уходили озера и старицы, поросшие белыми купавками и камышом с тяжелыми веретенами. И сюда, конечно же, время от времени приводнялись стаи крякв. Прилетали они откуда-то с верховьев реки.
У дядя Саши не было бинокля, но рыжие глаза у него зоркие, как у нашей кошки Люси, которая может с места вдруг прыгнуть на стену и шаркнуть когтями невидимого для меня комара или мушку.
– Ага! – цедил из-за стола дядя Саша, втянув губы под усики-треугольник и сверкая глазами в сторону лугов. – Летят!
– Где?! – вскидывался я и выбегал на крыльцо. – Где, Шаех-абый?
– Главное, я здесь, на месте и в нужный момент! – отвечал он, выходя на пружинящих ногах следом, на плече уже висит мелкокалиберка, в руке сумка с патронами и с двумя фляжками – с водой и водкой. – Шнеллер!
И мы бежали, старый и малый, мимо колхозной бахчи с наросшей капустой размером с футбольный мяч, мимо старых ветел, по выжженной зноем стерне скошенного луга, – я босиком, подпрыгивая, когда уколюсь, а бывший солдат в ботинках.
И чем ближе к кудрям ивняка, к рябине и ежевике, тем ниже пригибается дядя Саша, и я подражаю ему.
Вдруг слышу плеск – где-то совсем рядом на реке плеск: это утки…
Вот крякнула одна, вот закрякали сразу несколько других… Какая радость! И вдруг с шумом и свистом, словно их пугнули, они взнялись и полетели прочь – низко, низко… уходят, уходят… даже отогнутые назад лапки видно… Что-то почуяли?
– Падаем! – прошипел дядя Саша, и мы рухнули, разгребая ветки еремы.
Прямо перед моим ртом – сизая, туманная ягода ежевики, я ее беру дрожащими губами. Сердце бешено колотится, ягоду не могу проглотить.
– Вернутся… – щерит зубы дядя. И, подтягиваясь, ползет по-пластунски к воде, к кочкам рогоза, к розовым его цветам, к белым кувшинкам с округлыми тарелками листьев, распластанными по воде.
Я локтями уже в воде, неловко булькнул, – дядя Саша сердито оглядывается… Тишина.
Охотник, медленно развалив перед собой стволом винтовки стену камыша, изготовился и замер.
Комар лезет мне в ухо, а другие два крутятся возле носа. Но руки мои заняты: я на них упираюсь, если я освобожу их – лягу грудью в черную воду. А между тем пальцы мои в тине наткнулись на что-то шевелящееся, от страха и брезгливости я выдергиваю со чмоканием одну руку и шепчу:
– Дядя Саша, тут раки, да? – Я неплохо плаваю, я неплохо рыбу ловлю, но боюсь всего невидимого, живущего в иле: пиявок, волосоподобных существ, червей.
– Летят, – свистом губ отвечает, толком не расслышав меня, охотник.
И правда, утки, кажется, возвращаются. Сделали круг, чуть выше зеленых зарослей, и вот, не завершив второго круга, вытянув «шасси», посыпались на воду. И молча, умиротворенно закачались на сверкающей поверхности.
Дядя Саша огладил двумя пальцами свои ворошиловские усики и явно изготовился стрелять, хотя расстояние до цели неблизкое – метров семьдесят. Может, поближе подплывут?
К моему восторгу, одна неожиданно приблизилась и замерла на воде боком к нам. Почему же дядя Саша не стреляет?! Вот же мишень!
– Дядя Саш!..
Он в ответ только дернул щекой: не мешай.
Вот серая уточка совсем уж близко… Ну, почему, почему дядя Саша не стреляет??? Он боится не попасть? Тут и я попал бы.
Гребя желтыми перепончатыми веслами, птица вновь отдаляется. Эх, ты, дядя Саша! Упустил! Ну, стреляй хоть в кого.
В эту минуту охотник полуобернулся и, отлепив палец от спускового крючка и разогнув, показывает: видишь? Что он хочет сказать? Тычет то вправо, то влево.
И вновь приник к ружью.
И хлесть!.. Две уточки в середине стаи уронили головы и закружились на воде. Третья лихорадочно, тряся крылышками, помчалась сдуру прямо к берегу, а остальная стая с шумом и стоном вновь заторопилась на разбег и взлет… Но вот и утка, которая бежала к нам по воде, наконец оперлась о воздух и поднялась, и улетела…
– Иди, доставай, – хмыкнул дядя Саша, – если раков не боишься.
Слышал он, слышал мои слова про раков, заряжает ружье очередным патроном.
– Ах, не получилось!
– Что не получилось? – спрашиваю я, раздеваясь и входя по колени в помутневшую воду.
– Я же тебе показывал. Почему выжидал? Хотел поймать момент, когда шеи трех уток совместятся. Не получилось. Только две попались на линию. А ты что, в трусах полезешь? – удивился дядя Саша. – А потом сушиться. А мы еще к дальним озерам пойдем, там, может быть, подцепим.
Я растерянно стоял перед ним. Я никогда не плаваю без трусов. Все как-то боязно… укусит какая-нибудь рыба… разговоры ходили, что сомы хватают мальчишек за эти самые места… да и раки все же тут водятся… Но, превозмогая жуть под насмешливым взглядом бывшего солдата, я кладу на макушку тальника свои длинные трусы и плюхаюсь в воду.
Я быстро ухватил одну утку за лапу, а другая птица то ли утонула, то ли, еще живая, забилась под листья камыша. Я бултыхаюсь среди водяных трав, стыдясь своей ненаходчивости.
Но дядя Саша умеет и поощрить.
– Правильно ведешь разведку… а ты поднырни и снизу посмотри.
И точно, я окунулся с головой в воду и сразу ее увидел, притонувшую и подбившуюся снизу к зеленой ряске, сверху и не углядеть.
Когда я вытащил обеих уток и уже на твердом холмике берега оделся, дядя Саша сказал, нарочно коверкая слово:
– Маладис. – И, глянув на часы, которые тикали на его жилистой коричневой руке, объявил: – Идем покажем женщинам, как нужно готовить уток…
Нужно ли говорить, как хвалили нас женщины. Моя мама сразу же бросила упрек отцу:
– Шаих только немного моложе тебя, а смотри – как юноша. А у тебя пузо, как у секретаря обкома.
Отец страшно обиделся, отказался есть утку. С трудом уговорили.
Уговорил дядя Саша:
– Ты, Соня, напрасно на него. Он лучше меня стреляет. Но ему нельзя браконьерничать: он тут в колхозе не последний человек, – а я приехал-уехал.
Тетя Альфия, – коротко Аля, – своего мужа, конечно, похвалила, но, как всегда, с легкой насмешкой.
– Если бы вы так на войне стреляли, до Москвы бы немец не дошел.
В ответ на это обвинение, звучавшее, надо полагать, не раз и не два в их жизни, дядя Саша зубами скрипнул, но сдержался и только руки поднял:
– Яволь, яволь… их хенде хох…
Так что без укора похвалили только меня. Особенно после того, как дядя Саша рассказал, как я полз по-солдатски, как сплавал за трофеем. Правда, не стал говорить, что плавал я совсем нагишом. До занятий в школе еще оставалась неделя, ругать меня еще не было за что, так что хвалили чрезмерно.
– Он еще покажет, как надо стрелять, – говорил дядя Саша. – У него рука твердая, а глаз острый.
После знаменательного обеда мы с ним пошли подремать на сеновал. И там вновь состоялся разговор про усы.







