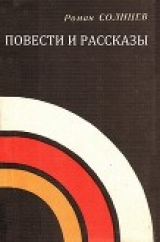
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
Можно и подсказать, конечно, как это делается…
Пока наблюдатели обменивались соображениями о дальнейшим своих действиях, вдруг из золотых вечерних сумерек с хриплым лаем на толстого Платона бросилась красноязыкая собака – и за ногу! И когда только овчарку успели приобресть, капиталисты проклятые?! Тройка бездельников ретировалась сквозь кусты шиповника, где тщедушный Павел Иванович, щелкая металлическими зубами, и завис в колючках, как в гамаке – ни туда, ни сюда… Слава Богу, страшная псина с ошейником и белым пятнышком над глазом, будто подмигнув, вернулась к пацаненку в матроске.
А еще к концу лета стало всем известно – там же, в русских полях, чужеземной семье выделена земля… кто говорил – сорок, кто говорил десять гектаров… и уже посеяны рапс и рожь. А затем и корова подала голос во дворе у Коннелей.
А вскоре еще выяснилось – сам-то хозяин, помимо того что и на тракторе ездит, и пчел не боится, и на моторке храбро в одиночку к Малым порогам поднимается (правда, весь с головы до ног в зеленом резиновой одежде), в свободное время, вечерами, вытачивает на токарном станке из кедровых обрубков всякие деревянные поделки. Как раз использует брошенные возле плотбища комли, прочий сор. Уже два раза вывозил в райцентр на базар медножелтые подсвечники в виде чертей, плошки, братины и гору матрешек симпатичные такие у него матрешки, и вовсе не похожи на Горбачева или Ельцина, как нынче делают, а именно такие, по каким соскучились простые люди – красавицы сибирские. Когда до последней, маленькой доберешься, мяукает, как дитя… Развернулся же проклятый англичанин!
– Пусть, пусть помогает нам, оболдуям, обустраивать Россию… – пояснял жителям Весов, то уезжая в город, то возвращаясь, русский друг подслеповатого англичанина Николай Иванович. – Есть чему поучиться, верно?
– Верно, – тихо отвечали местные люди, отдавая дань расторопности и уму иноземного гостя.
А три наших наблюдателя с болезненной тоской молчали. Как бы подружиться им с этим Френсисом? Он же добрый, кажись. И денег, небось, как у дурака махорки…
И вот в начале октября, если автору не изменяет память, девятого в субботу, в дождливую холодную пору, когда уже и снежком пробрасывало, а грозный Николай Иваныч, по слухам, насовсем укатил в областной центр (видимо, убедился – никто представителя Великобритании не обижает…) ходили они, бродили мимо нового огромного дома, скуля, как псы, и решились, наконец, позвонить в ворота – давно заприметили, там кнопка черная в белой чашечке.
– Тр-р!.. – кнопку нажал самый смелый, толстяк Платон. Нажал и на всякий случай на два шага отступил.
2– Good Lord, but why, why should we let these dirty people in on our clean floors? – взвинченно говорила в доме тоненьким голоском маленькая хозяйка, бегая от окна к окну и одергивая до колен свитер. – Who are they? After all, no one introduced them to us! – Если перевести на русский, ее слова означали: – Боже мой, ну почему, почему мы должны пускать этх грязных людей на наши чистые полы? Кто они такие?! В конце концов, нам их никто не представил!
– Их трое, вот друг друга и представят, – вздохнув, отвечал ее муж, также выглядывая за ставенки. – Так принято, Элли… мы же в одном селе живем.
– There are lots of peaple who live in the same village or in the same district or in the same region with us! – тараторила хозяйка. – Мало ли кто живет с нами в одном селе, или в одном районе, или в одной области?! – Она пристукнула каблучком. – Как хотите, но я скажусь больной… Ты, – она кивнула мальчику, который с утра колол дрова, а сейчас собирался выполнить другое ответственное задание: натереть редьки к обеду, – идешь к себе.
А вы, сэр, как угодно… только умоляю, не пейте с ними, а то приучите потом из ружья не отгоните. Кстати, советую держать оружие поближе…
Коннель, сделав плаксивое лицо, скребя в раздумье горло, заросшее шотладской бородкой, спустился по винтовой лестнице на первый этаж, прошел в сени, нажал на особый рычаг – и калитка во дворе отворилась. Но, разумеется, из приличия необходимо было там и встречать гостей – Коннель, сутулясь в три погибели на сыром ветру и протирая поминутно очки, выскочил на доски двора.
Здесь, как в старинных сибирских дворах, тротуар был из лиственничных досок.
– Com'in!.. Входайте!.. – воззвал он сквозь сумерки.
– Ничего, мы постоим… Здрасьте, – озираясь и почему-то оглядываясь, входили во двор-крепость бездельники.
– Здрасье, здрасье… – кивал, привычно-застенчиво улыбаясь, хозяин, милый, простой такой жердина, пахнущий сладкой иностранной водой, и указал рукой наверх – мол, туда, проходите.
– О кей, если ты не Моисей! – выдал загодя приготовленную шутку Генка «Есенин». – А наш удел – катиться дальше, вверьх! – Он процитировал, переиначив, великого русского поэта, в ответ на что хозяин хмыкнул, но вряд ли что-либо понял – уж больно выговор у Генки невнятный, большими губами-пельменями под самый нос.
В сенях гости скинули уличную обувь – Платон рыбацкие резиновые сапоги с нависшими, рваными заворотами, Генка – пятнистые галоши, а Павел Иванович красные женские (наверное, женины) короткие сапожки. Коннель забормотал было на мало-понятном русском языке, размахивая руками, – дескать, надо ли разуваться, но бородатый Платон великодушно буркнул:
– У нас, у русских, так принято. – Он еще и плащ брезентовый снял, гремящий, как сорванное с крыши железо. Генка остался в мокром пиджаке, Павел Иванович – в шерстяной волосатой кепке и грязнозеленой болониевой куртке.
Гости прошли и сели рядком на приготовленные стулья – кресла хозяйка предусмотрительно отдвинула в угол и положила на них газеты и ножницы (чтобы было видно). Коннель зажег на полный свет широкую, как колесо комбайна, люстру и включил магнитофон – хор, страстно дыша, запел ораторию Перселла. Гости сидели, приоткрыв рты, положив руки на колени. Бывший капитан снял, наконец, кепку. Руки у них были немыты. Сельчане то ли слушали, то ли блаженно дремали в тепле. В камине шаяли угли. Прошло минут десять. Френсис выключил музыку и заулыбался, кивая на свои руки:
– Вода?.. моем-надо?..
– О, йес, – осклабился пузатый Платон, уже узрев за волнистым стеклом бара темные граненые бутыли (видать, с виски?). – Можно.
Они прошли через сени в мастерскую, где был кран с водой (хозяйка не захотела их пустить в ванную, расположенную в основ ном доме – еще намарают), и затем Френсис провел наблюдателей из народа вниз, на первый этаж, в столовую, где вкусно пахло, за длинный стол, покрытый клеенкой с нарисованными русскими цветами – ромашками и незабудками. Сама хозяйка появилась на мгновение с полотенцем на голове, в халате («очиен болна», как объяснил на ломаном русском Френсис) и, водрузив перед мужиками бутылку водки и стаканы, улыбнувшись мелкозубой улыбкой, исчезла. После нее остался тонкий запах совершенно несоветских духов.
– Ее зовут Элли. По-русски ни бум-бум. И вообще!.. – Френсис махнул рукой. Видимо, хотел сказать, что без женщины проще.
И мужики понимающе заржали.
Но кто знает, почему Френсис мокрыми, словно плачущими глазами, внимательно разглядывал гостей? Установилось ненадолго робкое молчание. Может, они чего не понимают? Может, у англичан перед выпивкой, как и вообще перед едой, сперва положено помолиться (так было прежде и на Руси)? Но Френсис, кажется, размышлял о другом.
– It is… это била' мюзика моей родины.
И вздохнув, пришлось спросить – это сделал пузатый Платон:
– А че к нам-то приехали? Захотелось поглядеть другие страны? Даже квартеру свою отдали дитя'м России?
– Отдал детям, – кивнул охотно Френсис. – Один этаж.
– А че, дом такой большой?
– Болшой. Там мама осталась, си'стра с детишками. Я… люблю Россию… Достоевский, Толстой… да-а.
Френсис, словно спохватившись, разлил по стаканам сразу всю водку, посверкивая золотой печаткой на безыменном пальце, нарезал хлеба и очистил ножом четыре луковицы:
– Так?
– Норма!.. – прошептал Павел Иванович, не сводя синих, как у утопленника, глаз со сверкающей жидкости. Платон завозился на маленьком для него сиденье, закряхтел, поводя брюхом, как бы перестраивая кишки для лучшего принятия угощения. Генка же «Есенин», зажмурясь, жевал пухлыми ртом, сочиняя, надо полагать, что-нибудь сответствующее случаю. Но не успел, ибо Френсис объявил тост:
– За свободную, демократишн Ро'ссию… з любовю! О кей?
– Ес!.. – хором ответили гости и выпили. И уставились на пустые стаканы. Но, понимая, что все же нужна пауза для приличия, стали подталкивать друг друга локтями – мол, давай, говори.
Френсис, улыбаясь широкой, доброжелательной улыбкой, ждал. Сам он рассказывать на русском, видимо, затруднился бы, но, судя по всему, чужую речь уже понимал.
– Да-а, богатая у нас земля, – заговорил Платон громко и короткими фразами. – Леса, поля, горы. Золото, соболь, рыба.
– О, – закивал иностранец. – Красота болшая.
– Еще бы. И у нас уже тоже это… свобода. Выбираем. Губернаторы есть. Фермеры.
– Но нар-роду нашему палец в р-рот не клади! – как бы проснулся Павел Иванович, затрепетав, как былинка, желая что-то еще сказать, но не хватило заряда – умолк, уронив плешивую с белыми крылышками над ушами голову.
Генка «Есенин», горестно и сильно вздыхая, хрустел луком.
Он готов был, наконец, произнести высокое слово, и стоило Платону лишь покоситься в его сторону, как Генка зажмурился и малоразборчиво залопотал:
– Ты жива еще, моя старуха? Только я давно уже не жив. Сам себе от скуки даю в ухо, складываю медь в презерватив… Мне бы только выпить, дорогая… сжечь бы душу всю до дна… Никакая родина другая, даже Англия мне не нужна.
Френсис наморщился, видимо, постигая смысл виршей Генки. И осторожно спросил:
– Но почему ви пьете? – он показал пальцем на мешки под генкиными глазами. – Вам очиен вредно. – И кивнул на Платона, могучего, желтокожего, как восточный Будда, но в русской бородище размером с супницу. – Ему не очиен.
– Кстати, добавил бы, – усмехнулся тот. – Мне это лично как слону дробинка первый номер. У тя виски есть? Водку мы и сами можем тебе принести.
– Уиски?! О!.. – как бы просиял Френсис и всплеснул руками.
– Я думаль, вы любите только водка. Уиски очиен крепкая. – Он ушел наверх и мигом скатился по винтовой лестнице с тяжелой четырехгранной бутылкой золотистокоричневого цвета. – О, извиняйте. – Отвернул хрустнувший колпачок и разлил снова до капли все содержимое по стаканам – правда, себе меньше всех. Принес лафитник с водой, достал из шкафчика лимон, принялся тонко нарезать узким, тонким ножом.
Платон, не дожидаясь (зачем ему эти интеллигентские штучки?!), но и не особенно торопясь, выпил и, поворочав языком под щеками, сказал вдруг уже не баритоном, а басом – у него с добавлением спиртного голос перемещался по октаве, нисходя к рокоту (очевидно, в организме что-то перестраивалось):
– Крепка-а совецка власть!.. придется мине в колхоз вступать!.. А вопрос, почему… кхм, русские пьют… вопрос философский. Да-а. – Он широко разинул рот в бороде, загадочно блестя впалыми желтоватыми глазенками. Как сразу понял Френсис, он был говорун, мог рассуждать по любому поводу и без повода, не переставая пить и закусывать. И сейчас хотел что-то сказать, но его перебил шелестящим голоском Павел Иванович.
Бывший капитан катера, сутулясь, привстал, ударил сухими кулачками об стол:
– На мостике одни с-суки!.. – иностранный алкоголь уже воспламенил его мозг, Павел Иванович был готов для выкриков и страшных воззваний. – Страну автогеном порезали!.. бакены затоптали!.. катимся боком по шиверам!..
– Примерно так, – кивнул Платон, дав знак приподнятым кривым мизинцем с черным ногтем Генке «Есенину», чтобы тот покуда помолчал. – СССР была великая держава, разве нет? С ней считались. Да, да.
– Sorry!.. извиняйте!.. – с плаксивой улыбкой поправил очки Френсис. – Но Руссия и сейчас великая! Считаются! Я знаю!
– Может, при вас считаются!.. – встрял Генка в разговор. – А при нас нет!..
– Юмор! – оценил Френсис и снова обратил свои близорукие наивные глаза на могучего Платона. – Если жизнь наладится… к вам снова придут с поклоном другие э… республики. – Он. кажется, уже и по-русски возле русских стал говорить связнее. – Разве нет? Значит, надо налаживать жизень. У вас… у вас талантливые ученые… докторы… зачем попадать… падать в отчаяние?!
– Нет, нет, мы погибли!.. – не соглашался Платон. – Это обсуждать бесполезно.
– Ночь наступила, ночь… – у Генки веки полузакрыли глаза, рот по-детски превратился в гузку. Еще не дай бог уснет тут. – При белом месяце… так хорошо повеситься…
– Налил бы еще, узурпатор!.. – взвизгнул Павел Иванович.
– Болше жена не дает, – тихо и внято ответил Френсис, оглядываясь, чтобы гостям было понятней. – Тогда я не понимаю, я плыль на лодке – смотрю… Why?.. Почему ви бросаете с берега в речку кровать… старое ведро, самовар… даже трактор… это же ваша речка, ваша ваша маленькая Руссия.
– Вода все унесет!.. – махнул рукой Платон. – Скажи, моряк!
Но моряк молчал, приоткрыв рот со стальными зубами и злобно уставясь на хозяина, который более не хотел угощать русских.
– Все унесет река времен… – вздохнул, окончательно зажмуриваясь и устраиваясь подремать на стуле, Генка.
– Не унесет!.. – печально отвечал Френсис. – Я здиес уже полгода? Не унесло. Ви включаете электричество в баниях… пилите циркуляркой… трансформатор три раза горель. Как можно. Видиротесь… ножиками… веслами… я даже видел – баграми… за чем?!
– Зачем?! А потому что душа гор-рит!.. – зашипел Павел Иванович. – Хер ли тут изображашь?! Сами нашу Расею любимую погуби ли!.. через евреев скупили, а сейчас…
Платон больно прижал локоть Павла к столу – человечек, затрепетав, умолк.
– Я понимаю, – терпеливо продолжал Френсис. – Понимаю. Но когда родина болна… помогайть надо, а не толкать дальше в пропасть. – Он понизил голос. – Говорят, у вас своих лючших крестьян опять жгут?.. Рас… как это?.. раскулач…
– Раскулачивают?.. – помог Платон и добродушно ухмыльнулся на редкость здоровыми, белыми зубами. – Да не-е!.. Это уж по пьянке… было раз иль два… из зависти… примерно так… – И толкнул Генку в бок. – В Щетинино? На центральной ферме?
Генка открыл белесые, словно замазанные сметаной, глаза.
– А х… ли?.. Дружки начальников, по блату всего себе нахватали…
– Это наши деньги! – завизжал Павел Иванович. – Прихватизировали даже пристани на Енисее… золотые рудники…
– Но разве можно жечь?.. – изумился, всплескивая руками, иностранец.
– Лесу много… – охотно заговорил Платон. – С самолета смотрел на Сибирь? Тайга до Японии. Но, конечно, лучше не жечь.
Вам-то в Англии хорошо – из камня все. А у нас и церкви деревянные… – Но более не дождавшись от хозяина каких либо слов, Платон помолчал, закрыл рот, тяжело поднялся и вздернул за шкирку поэта и бывшего капитана. – Ну, сказали спасибо и пошли? А то еще испугается, решит – алкоголики и не пригласит больше никогда!
– Почему?! – удивился нехотя Френсис. – Заходите. Интересно было поговорить.
– Вы слышали?! – спросил Платон у своих спутников, не вы пуская их из темных широких лап. – Приглашает! Пожалуй, и зайдем. Может, Федя еще научит нас снова труд любить, поверить в жизнь…
Павел Иванович вдруг припал к Платону и зарыдал, как ребенок. Тот, отчески обняв его за плечи, повел в сторону выходной двери – в ночь, в метель. Генка «Есенин», окончательно проснувшись, обернулся к хозяину – стоял, моргая, пытаясь, видимо, придумать срочно что-нибудь остроумное, но не смог. Только как можно более гордо и таинственно ухмыльнулся и, чтобы не сверзиться, затопал боком с крыльца вниз, на смутный снег…
Проследив из сеней, что гости, наконец, ушли за ворота, Френсис повернул рычаг, и калитка заперлась. Френсис потянул за кольцо с проволокой – в дальнем углу поместья открылась дверца конуры, и позванивая цепью, потягиваясь, вышел во двор для несения службы пес Фальстаф.
Френсис распахнул форточки в столовой, принялся мыть с мылом стаканы, когда зашла жена. Морщась, она укоризненно сказала:
– Зачем, зачем ты их еще раз пригласил?!
Муж вздохнул и развел руками.
– О, интеллигенция!.. – принялась ходить-бегать по комнате Элли. – Напоил раз – и выгони к черту! Эту пошлость выслушивать… они же привыкнут… Думаешь, благодарностью отплатят? Заборы твои не будут осквернять? И зачем про пожары спрашивал? Могут удивиться, запомнить и еще начнут изображать верных сторожей…
– No! У них нет памяти.
– Они хитрее, чем ты думаешь…
Френсис, жалобно скривившись, протирал голубеньким платком очки.
3Конечно, не миновало и недели – они снова заявились ввечеру, эти три бездельника. Как раз вызвездило, грянул ранний сибирский мороз, да не 5–7 градусов, а все 20 (такое случается в урочищах Предсаянья), и скрип от шагов на снегу далеко разносился. Впрочем, уже и в среду, и в четверг за воротами кто-то переминался и курил (пес во дворе пару раз рявкнул), но в звонок не позвонили. Может быть, испугались гнева хозяйки, которая строчила на электрической пишущей машинке? Повздыхав, условились выждать еще немного, чтобы получился хоть небольшой, но круглый срок? И вот именно опять в субботу – только хотел было Френсис после бани размягченно послушать музыку и испить подогретого красного вина – задребезжал звонок.
– О!.. – только и выдохнула хозяйка. – О!.. Может быть, сделать вид, что спать легли?
– Свет горит, – пробормотал хозяин.
– Ну, иди, иди. Встречай дорогих гостей.
С виноватым видом, накинув куртку с башлыком, привычно согнувшись из-за высокого своего роста, Френсис спустился по винтовой лестнице в сени. Рычаг щелкнул – калитка вдали распахнулась.
Три сизые тени, убедившись, что красноязыкий Фальстаф точно в конуре, медленно ступили во двор и, поднимая колени, как бы стараясь меньше шуметь, закрыли за собой калитку.
Френсис высился на крыльце, улыбаясь, как истинный джентльмен, который рад новым своим друзьям:
– Проходите! – Кажется, он уже лучше говорил по-русски, что тут же отметил умный Платон. Френсис употребил местное слово. – Зазимок выпал, холодно.
– Зазимок – это верно, это по нашему! А вот и по нашему ма ленький тебе презент… – Пузатый дед, сбросив незастегнутый вонючий полушубок на пол у холодных дверей, сопя, выдернул из-за спины (из-под ремня?) шкалик «Российской». – Убери куда-нибудь… пригодится – зима долгая… А мы хотели сегодня по трезвому о жизни поговорить.
Изумленный хозяин, не зная, что и ответить, машинально провел их в столовую. Убрал в шкаф дареную чекушку и, вопросительно глянув на сельчан, все же достал тяжелую бутыль виски.
– Но, нo!.. – замахал Платон свилеватыми от трудовых усилий прежней жизни руками. И даже Генка «Есенин», на этот раз тщательно побритый, с порезом на щеке, залопотал своими пельменями невнятно под нос нечто шутливое, вроде того, что «в стране подъяремной всему свой срок, даже если он тюремный…» Только Павел Иванович замкнуто и отчужденно молчал – он был в белой, почти чистой рубашке, наглухо застегнутой у самого горла, под острым кадычком.
Наступило неловкое молчание. Гости сидели все за той же клеенкой, на которой нарисованы русские ромашки и незабудки.
Френсис, не понимая, чего сегодня хотят от него сельчане, растерянно предложил:
– Может, сoffеe?..
– Кофе? Можно, – пробурчал Платон и, зашуршав клочком газеты, свернул и, ткнув ее куда-то себе в бороду, закурил густо воняющую самосадом «козью ножку». И неожиданно спросил. – А сын у тебя что, не учится? Наши-то ребятишки в Малинино ездят…
Френсис у плиты замер.
– Сын дома занимается, – почему-то насторожившись, сухо ответил он. – Жена – бившая учительница, проверяет.
– А потом экстерном сдаст? Стало быть, умный мальчуган? Как зовут-то?
– Ник. Можно – Николай.
– Николай – это хорошо. Николай – сиди дома, не гуляй. А сама твоя Эля… не хочет у нас преподавать? Или ты ее и так прокормишь?
– Она работает, переводит, – объяснил Френсис и, обернувшись, более внимательно всмотрелся в лица сельчан. Что у них на уме? К чему эти вопросы? Просто ли праздные они, из приличия, или здесь некий смысл? – Она же хорошё знает русский… то-есть, английский… – англичанин засмеялся и, изобразив сокрушенный вид, махнул длинной рукой. – Конечно, с английского на русский! Всякие статьи… Немного, но платят.
– А вот на днях… – включился в разговор местный острослов и поэт. – На днях мы тут по делу ехали… на трелевочном тракторе… Между прочим, слава рабочим, мы могли бы и в Малинино вашего паренька возить!.. – Невнятно, перескакивая с пятого на десятое, Генка рассказал, как он ехал с товарищами и услышал – в доме Френсиса пела под гитару женщина. И пела так звонко, хорошо. Не подумаешь, что иностранка. – В гостях кто был или уже супруженция научилась?
Френсис широко улыбнулся, но на душе у него стало неприятно. Он прекрасно понял – никакого трактора не было, да и кто этого Генку-дурня на трактор посадит. И невозможно услышать с грохочущего трактора тихое пение женщины… Значит, стояли под забором, подслушивали. Что им надо?
– Она когда поет – лючше говорит слова, – медленно ответил Френсис. – А просто говорить пока не… Только писаный тэкст.
– Ясно, – заключил Платон.
Павел Иванович сидел, подавшись вперед и не отрывая от растерявшегося неведомо почему хозяина синих, враждебных глаз.
– Тогда примерно такой вопрос… – Толстяк вдавил окурок с буковками в тарелку, машинально поданную ему Френсисом. Ощерил зубы, совсем как американец, и снова сомкнул полные коричневые губы в черной бородище. – Вот ты спрашивал, почему мы, русские, пьем. А как не пить, милый человек?.. У Павла Иваныча, – он кивнул на немедленно задрожавшего от человеческого внимания друга, – у бывшего героя наших таежных рек в городе сын погиб… одни девки в семье остались…
– Трамваем в городе зарезало, – пояснил Генка. – Шел трамвай девятый номер… под площадкой кто-то помер… тянут, тянут мертвеца – ни начала, ни конца…
Платон подождал, пока Генка закончит свой рифмованный комментарий, и продолжил:
– А у Генки… вообще детей нету…
– А я с ней живу… – охотно пояснил Генка. – С Танькой.
Хоть пилит меня уж двенадцать лет… – И сдвинув кверху пухлые губы, он по-мальчишески шмыгнул носом. – Но как без деток? Я бы, может, не пил… может, меня бы в союз писателей приняли… я бы сына учил – не стихам, конечно! Охотиться, хариуса дергать…
Эх, душа горит. Но нет, нет!.. – под тяжелым взглядом Платон Генка сложил ручки лодочкой на мошне. – Только кофий. И чмокая, три мужыка пили минут пять с отвращением черный густой напиток. «Зачем они резину тянут? – вконец обеспокоился хозяин. – Если дать виски, может, все-таки выпьют? А выпьют скорее раскроются?»
– А я устал сегодня, – вздохнул Френсис. – Засандалю для сугрева… так по-русски? Правда, один не пью… но что делать? Вы-то не поддержите…
– Н-ну, – Платон шевельнул брюхом и незаметно – как ему казалось – ткнул локтем в бок бывшего капитана. – Если только за компанию…
И словно утренний розовый свет в сосновой роще лег на лица сельчан – они, вытянувшись, радостно-внимательно смотрели, как хозяин отвинчивает хрустнувший колпачок с иностранной бутыли, выставляет стаканы, режет лимон на тарелочке.
– А ваша страна неплохая, – буркнул Павел Иванович, желая, видимо, продемонстрировать, наконец, более дружественное отношение. – Флот у вас всегда был большой. Но почему в НАТО? Присоединились бы к нам.
– Но мы, в общем, присоединялись уже, – отвечал Френсис. – Гитлера вместе били?
– Не приставай к человеку, – остановил Павла Платон. – Он что, Черчилль? А ты Сталин?
– Эх, калина-ма'лина… хер большой у Сталина… – потирая ладошки, пробулькал Генка.
Френсис с улыбкой поднес палец к губам и разлил жидкость. – За дружбу народов, – произнес тост Платон. – Ой, а не покажете – какие паспорта у настоящих-то иностранцев?
– Чьто?.. – Френсис поставил стакан на стол, снял очки и принялся протирать стекла. И снова заулыбался. – Как выпиваю, так стекло в любой машине запотевает, да? И очки. Пач… паспорты? Паспорта', да? Там… у начальников…
– Понятно, – кивнул Платон. – На прописке? Хоть и гость, а живи по российским законам. Ну, поехали на белых лошадях? – И первым проглотил двести грамм неразбавленного огненного виски. И словно прислушался к чему-то. – Колокольчики зазвенели.
И минут через десять Френсис успокоился – его новые друзья, собираясь сегодня в гости, наверное, всего лишь условились вести себя поумнее, позагадочней, чтобы не раздражить англичанина, чтобы не в последний раз… а уж выпить у него они, понятно, выпьют – куда Френсис денется?!
– … Плыл на теплоходе – на берегах стояли народы, честь отдавали… Я ж людя'м помогал… уважали. А сейчас?.. – шелестел тихим голосом Павел Иванович, замирая и бледнея, словно прислушиваясь к чему-то огромному и грозному, летящему над Россией. – Сына моего трамвай зарезал… Если бы он тут остался, кто бы его зарезал? Да я бы сам кого угодно!.. Санька!.. за что?!. И вот так всю Россию! Под корень!
– Другие дети у него девки… – пояснил теперь уже Генка. – Конечно, не тот уровень.
– Извините, это он от горя… – вмешался снова Платон, ворочаясь на стуле и устраивая поудобнее свое многоэтажное брюхо.
– Примерно так. Генофонд-то наш тю-тю!.. – Взяв с тарелки кружок лимона, протянул его Павлу Ивановичу, но тот не видел – почему-то продолжал неотрывно, напряженно смотреть на Френсиса.
Хозяин дома старательно улыбался. Он был, конечно, трезв – пил мало, да и постоянно разбавлял виски водой. Но гостям это было все равно – им больше достанется.
– Фонд… Форд… – Генка, блаженствуя, медленно опустил толстые белесые веки. – Этот самый Хенри Фонд погубил наш генофонд.
– Сволота!.. – Павел Иванович, наконец, не выдержал и заверещал мальчишеским голоском, как и в прошлый раз, вскакивая и биясь, будто под сильным электрическим током, и не умея сесть из-за этого напряжения, хотя его тут же потянули справа и слева за руки дружки. – Фофаны!.. Все пропало!.. Нет уважения! Нету счастья!.. веры!.. Предатели в Кремле! Вредители!
– Тихо-тихо!.. – рывком опустил его за штаны на стул Платон. – Это наши, русские дела… Ты ему зачем?! Он-то при чем?!
– А при том!.. – Павел Иванович, размахивая руками, хотел было снова подняться, да закашлялся до взвизга и до соплей. И тут словно только что до Генки «Есенина» дошла его собственная беда – он заблестел розовыми слезами, забормотал-замекал:
– Вот вы… иноземец… смотрите, думаете: зачем мы себя губим? А смысла нет жить дальше. Я вот всю жизнь с Танькой… уже не люблю… а уйти не могу – нельзя… Русь под Богом стоит! – Генка наотмашь перекрестился, нечаянно задев рукой по носу стонущего от истерики Павла. – Сам мучаюсь, баба моя мучается… а нельзя! «А годы уходят – все лучшие годы…» Где там соловьи – их нету в Сибири! Только в книгах. И счастье только в книгах! Мы верили книгам. – Он рыдал, перекосив рот. – Только книгам! Мы самый читающий народ. А пришли к чему? Обман, все обман!..
Платон нахмурился и, потянувшись, по-отчески потрепал Генку за локоть.
– Ну, хва, хва, парень… Френсис сам грамотный, сам, небось, много читал. Достоевского. Я о себе скажу. – Платон повел скошенными могучими плечами. У меня и дети есть, и внуки уже… Все у меня есть, Френсис… А когда у человека все есть, он начинает задумываться о главном. И я задумался о главном – о жизни и смерти. И чем больше думаю, тем больше пью. – Он вытряхнул себе в стакан последние капли из темной бутыли и слил в темную улыбающуюся пасть. – Я философ, Френсис. Да нынче каждый в России философ! Нас кормили даже в лагерях марксизмом. И я тебе, Федя, так скажу: в самом деле, порой жить не хочется…
– Но почему?! У вас такие возможности… – забормотал Френсис, поправляя очки и недоуменно глядя на толстяка. – Здоровье… талантливый народ… Вы же сами?.. Про реку я говорил.
А на днях, смотрите, – плот на берегу горит… разве мало сухостоя? Такой кедр напиленный лежал… как розовый мрамор… я бы даже купил, если бы сказали…
– Всех сжечь… – пробормотал Павел, не поднимая головы. – Всех, всех. Все суки.
– Ну-ну, ты че, Пашка?! – Платон повысил голос.
Генка рассмеялся.
– А в Николаевке, вот, недавно… тоже спалили… шибко богато жил, говорят, падла… всех обобрал…
– Вор? – попытался уточнить Френсис.
– Да ладно, чего ты, – ухмыльнулся Платон. – По пьянке опять. Отстроится. А вообще, народ иной раз правильно обижается… кому-то землю по блату лучшую дают… кредиты… А ведь это наша общая земля… верно Пашка говорил общие деньги…
– Но не всегда же! – вдруг вырвались страстные слова и у англичанина. Есть же своим хребтом, своим горбом?!. Есть же своими честными руками работающие люди и много зарабатывающие!
Их тоже – жечь?!
– Тоже… – еле слышно прошелестел бывший капитан, утыкаясь белым крылышком седины в стол.
– Упаси бог!.. – загремел басом Платон и выпрямился на стуле. – Вы чего, хлопцы?! Еще понапишут про нас в их газетах… Мы что, продотрядовцы-чекисты, что наших дедов грабили да сюда ссылали?..
– Да мы ниче!.. – непонимающе лупал глазами Генка.
Платон ткнул пальцем через стол на Френсиса:
– Ты прав, прав! За тобой культура… это как газоны растить… Примерно так. Ты нас стыди, стыди… А мы тебя, между прочим, охраняем от проезжих бичей… но это тебе необязательно знать! Если не дай Бог, это ж позор на наше село, на всю Россию… Мы, может, у тебя учимся жить… жизнь по-новому любить… Только боюсь, не поздно ли?.. Мы же после трех революций все тут обреченные… Самолеты падают. Военные склады взрываются. Катастрофы за катастрофами… Конец России! – И Платон провел рукой по утопленным в желтые ямки глазам.
И как по команде, Генка с Павлом Ивановичем, вскрикнув, оба заплакали навзрыд, словно дети, которым родитель сказал: поплачьте, тогда конфетку дам… Френсис уже стал кое-что понимать в играх этих легко возбудимых и, наверное, вправду конченных людей. Но ведь не выгонишь?
– Эх, эх… – бормотал Платон. – Кто душу русскую поймет?..
– Он тоже перекрестился. – Душа русская, она, брат, всех жалеет… сама умирает, а всех понимат… Мы же Африку поддерживали… Кубу… да и сейчас то этих, то тех!.. А самим нам уже ничего не надо! «Гори-ит, гори-ит моя деревня, гори-ит вся ро-одина моя!..»
Френсис обнял плачущего Генку. Тот задышал ему, икая, в самое ухо:
– Откровенно скажу, Федя, грешен… блядую на стороне, а бросить не могу… вот и пью… Скажешь: лучше бы ты бросил, она же наверняка чует?.. Да в том и беда – обожает. Вот и пью. И вся Россия вот так… с нелюбимой властью восемьдесят лет… вот и хлещем – все веселее! – И дурашливо прокричал. Ленин, Сталин и Чубайс проверяют аус-вайс!
Англичанин уговорил гостей выпить еще и налил им из дареной чекушки пахнущей ацетоном водки. И уже было часов одиннадцать ночи, когда, наконец, три сельчанина, поддерживая друг друга, уронив стул и тарелку с окурками на пол, поднялись из-за стола и побрели домой – сквозь морозную, ясную, многозвездную, как старинная русская сказка, ночь. В прежние годы, наверное, в эту пору рыдала бы от счастья гармошка, летели посвистывая сани по дороге с лунными тенями, брякали колокольца… Но в нынешней ночи было пусто, только глухо взлаивали по дворам собаки – полуволки-полулайки – и где-то в стороне железной дороги стреляли и стреляли в небо красными ракетами… Видимо, свадьба.








