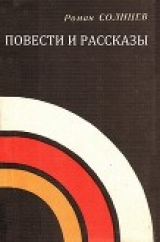
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц)
Вот и дежурный за стеклом встал из-за стола, приветливо улыбается.
Хоть какая-то забава на ночь. Интеллигентные люди, не бомжи, с интеллигентами можно повеселиться.
– Вещи на стол, – скомандовал толстый мент, кстати, лицом своим добрым, бабьим, очень похожий на прекрасного, ныне покойного дирижера и композитора Светланова. А вот поди ж ты, какой суровый!
Выкладывая на стол бумажник, я понял, что его содержимого больше не увижу. Юра картинно зажал в зубах последнюю пятисотрублевую бумажку и мычал, мотая головой: не отдам.
Сашка же, обнимая скрипку в футляре, отскочил в сторону.
– Не трогать. Это святое.
Толстый мент вырвал футляр со скрипкой и замахнулся им, чтобы ударить по башке старого лысого музыканта. Кстати, парик остался в большом ресторане.
– Стой, сучара! – вдруг заорал, приседая, Сашка блатным каким-то голосом, человек, еще недавно страстно и складно говоривший на музыкальные темы. – Как же я вас ненавижу! А вот дайте Вове-Бороде позвоню… это наш профэссор, – оскалил он кривые зубы. – Он тебе скажет, сильно бить или потише.
– Какая еще борода?.. – прохрипел толстяк, схвативший скрипку, но второй милиционер вдруг одернул его и молчаливым взглядом дал что-то понять.
– А ты откуда его знаешь? – спросил второй мент у музыканта.
– Я всё знаю в мой стране! – горделиво заявил Сашка. – Дайте мне телефон!
Судя по всему, сотрудники порядка не хотели, чтобы он звонил. Но Юра Галкин, еще не успевший выложить на стол всё содержимое своих карманов, быстро подал музыканту свой сотовый.
Слегка раскачиваясь, но вполне соображая, что он делает, Сашка набрал номер и, кашлянув, сказал:
– Вова, это я, Сашка. Меня менты замели, да в Железнодорожном. Ну, рядом с тобой. Скажи им. Моцарта играть не дают. Хорошо, – и протянул трубку. – Кто у вас главный?
На глазах багровея, трубку взял второй милиционер. И послушав две-три секунды, вдруг заныл:
– Владимир Александрович, да они просто были пьяны… ну, и мы, чтобы проводить домой… Сейчас. На нашей. Сделаем, – вынув из рук первого милиционера футляр со скрипкой, он передал его Сашке, затем, развернувшись, хлобыстнул своего напарника по морде.
– Иди, промой шары. Скажи спасибо, если завтра… – он не договорил.
Напарник молча отступил к стене. Дежурный хмуро смотрел на происходящее.
Я спросил:
– Могу ли обратно положить к себе свои предметы?
– Конечно, – спокойно отвечал второй сотрудник. – Я вижу, вы протрезвели. А выглядели очень пьяными. Извините.
– Чего не бывает, – буркнул Юра, пряча сотовый.
Сашка обнял скрипку в чехле и, ничего не говоря, вышел первым на улицу, под звезды.
К крыльцу задом подкатил «воронок», мигая фарами. Мы поняли, что его подают нам. Это выглядело смешно и ужасно. Но Сашка не стал более ни ругаться, ни веселиться перед милиционерами, только рукой махнул:
– Спасибо. Мы сами.
Минут через десять, уже отдышавшись, мы стояли возле отключенного на ночь фонтана, перед театром оперы. Музыкант выглядел смущенным.
– Извините, господа, – сказал он. – Такие встречи нарушают нормальное общение. Хотя, может быть, это и хорошо, что нас еще раз унизили…
Юра спросил:
– А кто такой этот Владимир Александрович? Полковник? Генерал?
– Генерал? Да ну что вы!.. – Сашка вдруг расхохотался, согнулся до земли – так хохочут дети от чего-то уморительно смешного. И уже снизу сверкнул глазами. – Теневой авторитет. Официально числится тренером команды борцов.
– Ты с ним дружишь? – удивился я.
– А почему нет? Если государству наплевать на Моцартов, то Сальери обойдутся с помощью донных рыб. Чтоб совесть не так грызла. Бандиты грабят одного через десятого, в основном себе подобных. А государство чешет всех подряд, – он кивнул на скрипку. – Если вы тогда по телику слушали меня, наверно, заметили: у меня была другая.
В Москве у меня ее отобрали суки в переходе. Скрипка была не ахти, но все же. Когда вернулся в Красноярск, по пьянке рассказал на авторадио… там мой приятель работает… и вдруг за мной приезжает длинный такой «линкольн», везут, бля, за город, суют в руки скрипку: – Играй.
Я осмотрелся – мордовороты сидят, будь здоров. В цепях и так далее.
Но в костюмах, что-то празднуют. И среди них бородач такой, зубы ненастоящие. Кивает.
– Что играть? – спрашиваю.
– А что любишь? Небось, Моцарта?
– Моцарта, – говорю. И вжарил им пару мелодий Сальери, им-то откуда знать? Зацвели мужики лицами, оттаяли.
– А теперь, – кричат, – давай «Мурку». Знаешь??
Да кто ж ее не знает? Заиграл я «Мурку», да со всякими отходами, каденциями и выкрутасами, заехал в пару других тюремных песен, вернулся к «кожаной тужурке»… ну, слабо ли мне, получившему серебряную медаль на Всесоюзном конкурсе?
– Молодец! – рычит бородач. – Бери скрипку. Мы слышали, у тебя горе.
Она не итальянская, но хорошая, мне в Москве сказали. А если еще раз кто обидит – звони прямо мне.
Посадили в «линкольн», отправили домой с охраной. Непьющий такой, молодой паренек, чисто одет.
– До свидания, – говорит, – Александр Николаевич.
– Да Сашка я, – отвечаю ему.
– Нет, вы – Александр Николаевич.
И тут скрипач заплакал. Звезды сыпались и сыпались на сонную страну.
– Может, мы проводим вас, – предложили мы с Юрой.
– Увы, я не могу пригласить вас к себе… – шмыгал носом лысый старичок. – Я некрасиво живу. Чтобы никому не мешать, в подвале Дома культуры. Там вполне ничего, только крысы. Но когда играю, они слушают как люди.
Мы сели на каменный парапет фонтана и долго молчали.
– Вы что же, теперь совсем одиноки? – вновь не выдержал я. – Вас же должны любить прекрасные женщины…
– Меня любила прекрасная женщина… – пробормотал Сашка. – Когда я получил серебряную, она говорит: бежим на Запад. Ты там докажешь! Но как?! Мы с ней жили, где попало, я кое-что зарабатывал, но это же смешно для человека с именем… Она специально уехала в Германию, вышла замуж, через год развелась, прилетела… а я к тому времени спекся. Я перегорел. Понимаете? Я обиделся. А женщины обиженных не любят. Да, еще была хохма, когда пытались заграничный паспорт выписать. Имя? Сашка. Нет, такого не может быть. Должно быть в документе Александр, в крайней случае – Сашко. – Он ежился, обнимая чехол с драгоценным инструментом. – Я до сих пор играю неплохо, но уже нет той свежести, да и культура уходит… кабак… ДК… похороны хороших людей, но там бесплатно! А в филармонию на заработок идти не хочу – дирижер – лошадь, гонит оркестр, как таратайку… мелодию не слышит… А ведь это диво дивное – мелодия… великие математики пытались просчитать, как это удавалось Баху и Моцарту… почему именно эта нота к этой ноте… компьютеры горят – не объяснить. А я думаю – это голос глухонемого Бога. Я один это понял.
По улице медленно проехала темная милицейская машина. Мы замолчали и стояли так, пока она не укатила прочь. Очень хотелось расспросить Сашку, как же он собирается дальше жить, может быть, ему можно чем-то помочь…
Но уже поднялся предрассветный ветер, старик мерз, и мы не решились больше тревожить этого худенького неприкаянного человека.
Мы с Юрой обняли его и пошли по домам. И больше никогда его не видели – в ресторане «Сибирь» сказали, что снова куда-то уехал…
Может быть, как гордый человек, – подальше от теневой опеки…
А может быть, и убили его. Непонятных людей мало кто любит. Видите ли, он хвалит не Моцарта, а какого-то Сальери, завистника и отравителя.
ПОЧЕМУ СТАРИК ПЛАКАЛ…
1Мне часто снится отец на молочно-белом из-за росы, светящемся лугу… Или это облако под ним? А может быть, я в мыслях своих поместил старика на пьедестал, выплавив в огне эту мерцающую плоскость из миллионов стреляных гильз и штыков Великой войны? Во сне трудно разглядеть.
Или это всего лишь оконные рамы, положенные друг на дружку, – помню, когда последний раз переезжали из плохонькой избы в избу получше, такая вот горка во дворе сверкала… но как на ней устоит человек?
Да провалится через стекло… Разве что птичка-синичка…
Но ведь и отец сейчас вроде этой птички-синички. А может быть, и еще легче. Ведь моего отца давно нету на свете.
В молодости я мечтал прославиться и явиться пред его очи, об этом были сладкие сны. Не сумел. А теперь он мне снится, когда дела у меня плохи…
И вот думаю: неужто он был прав? Я невезуч, малодушен… недостаточно во мне, как он говорил, тимера – железа. Если и есть какой-то талантик, его недостаточно, чтобы стать человеком, уважающим себя, да еще с претензиями прокатиться перед родными на белом коне с серебряными стременами – пусть даже мысленно, после рюмки водки…
Прозябаю, ревную, живу, тщеславясь, мучаясь по каждому мелкому поводу. Иногда сижу дома, глядя в никуда, и думаю: что бы делал в моем положении отец, человек, прошедший немыслимую бедность и огромную войну? А он ничего бы не делал. Просто потому, что ничего бы и не мог сделать: я пережил его по возрасту: старше его почти на десять лет.
Как это жутко! А ведь, если честно признаться, я до сих пор так и не понял, кем он был. Не для меня – для меня он был добрым отцом.
Несмотря на крайнюю бедность, нехватку живых денег в колхозе в конце пятидесятых, присылал мне, студенту, в город в дополнение к стипендии каждый месяц хотя бы десять рублей.
Иногда, конечно, бывал и в гневе, заставлял ни с того ни с сего вырыть в огороде окоп в полный рост («Мы в таких воевали!») – помню, не понравилось, когда я вернулся на побывку домой в клетчатом пиджаке, в кепчонке с длинным козырьком, прямо «зеленый брат» из лесов Прибалтики!
Конечно же, приказывал поднять с пола нечаянно уроненный хлеб и съесть его тут же. Или извиниться перед коровой (он был пьяноват), когда я сестренку обозвал коровой за нерасторопность.
– Выйди и извинись! Она кормилица наша!..
Все это было.
Но кем он был для себя? Судя по итогу жизни, неудачником. Писал в тетрадку столбиком – причем не кириллицей, а латинскими буквами (на войне на немецкий шрифт насмотрелся, понравилось?) – то ли стихи, то ли воспоминания. Но никому ни разу – ни маме, ни мне – не показывал.
А вот слезы на его глазах, когда он однажды закрывал зеленую коленкоровую обложку тетради, я не мог не запомнить…
И он же временами грудь выпячивал, как петух во дворе, становился горделивым. Девятого мая цеплял на пиджак все свои четыре ордена, в том числе орден Славы, и медали. Ставил пластинку обращения Сталина к народу: «Братья и сестры! Друзья мои!..» – и сидел набычась. О чем он думал в эти минуты?
Но это было в пятидесятые годы. Позже пластинка с красной круглой наклейкой куда-то пропала. И отец слушал только музыку с заигранных пластинок, – татарскую гармонь или «Рассвет над Москвой-рекой» Мусоргского.
Обычно молчаливый, он стал часто цедить с презрением слова о пьяницах, словно заговаривал себя, потому что сам иногда срывался и запивал. Я помню первый и самый страшный случай – это когда в конце августа в нарушение всех прогнозов метеоцентра снег внезапно лег на неубранную пшеницу, погубил урожай. Отца не было дома два дня, его привезли с дальних полей мокрого и небритого, в грязной одежде.
Не могу забыть, как лежал он на полу, а мать, воздевая руки, плакала над ним, не зная, что с ним делать. Он, видимо, отравил себя водкой на голодный желудок, на губах запеклась желчь. И первой очнулась наша бабушка, мать отца:
– Молока ему, молока… много, много!
Бывало, и в иных случаях он малодушно не сдерживался – например, когда среди людей, которым доверял, особенно среди родственников, обнаружился вор. Седьмая вода на киселе, имени уж не упомню, улыбчивый такой паренек (всё зубы скалил и кивал в ответ на любой вопрос), будто бы по поручению моего отца, сев за руль, увез неизвестно куда целую машину зерна.
Потом нашли – он свалил рожь в овраг и ночами таскал ведрами в баню и погреб. Во время суда в райцентре отец заплакал, требовал родственника немедленно расстрелять, а потом, вернувшись домой, укрылся у хмельных пасечников, под защитой грозной медоносной авиации…
В нем самом не так уж много было «железа». Или орденоносцу на войне было легче?
Конечно, то, что он прошел этот ад, дало ему огромное знание людей.
Он облысел на фронте, еще молодым, и выглядел старым уже к сорока годам. Его жалели женщины, его уважали мужики. Иначе после огромного пожара в селе не избрали бы его второй раз своим председателем, хотя приехавшие из райкома начальники готовы были все свалить на него…
Нет, я сейчас о другом: что он испытывал в старости, в официальной старости, именуемой жизнью пенсионера?
К той поре они с мамой и моими сестрами переехали в райцентр, где ему пообещали повышение (сулили место в райисполкоме), но обманули.
И он вновь самым постыдным образом запил… член КПСС, маленький, гололобый, как Ленин, шлялся по глинистой улице в расстегнутом пиджаке, надетом на майку, в старых галифе… или уже галифе к тому времени не было?.. но в галошах, в галошах, потому что мать прятала сапоги, чтобы он пьяным не выходил на улицу… бродил, сцепив пальцы за спиной (откуда такая привычка?!), пока мама, сгорая от стыда, не утаскивала его за руку домой и не укладывала спать…
Но после того, как он переболел (надорвал сердце), на два или три года начисто отверг водку. Мать говорила, он стал много читать, брал в библиотеке военные мемуары маршалов и генералов, уходил на окраину городка, одиноко и угрюмо маячил там, на холмах, глядя куда-то вдаль…
2И случилась такая история, которая не дает мне покоя вот уже много лет…
Приезжая к стареньким моим родителям, я не раз уговаривал отца съездить хотя бы на попутных (машину у местных властей он никогда не попросит!) в родную деревню, где он проработал председателем колхоза около двадцати лет.
Он заступил на этот пост сразу после смерти Сталина и разоблачения Берии, был назначен в качестве одного из «тридцатитысячников», если не ошибаюсь, или «пятидесятитысячников». В коммунистической партии объявили почин: свежими, проверенными кадрами поднимать село. И отец, сняв погоны армейского офицера, вернулся в те же долины, где перед войной вступил в комсомол и закончил сельскохозяйственный техникум…
Впрочем, сказав, что я звал его в родное село, я должен уточнить, что Старая Михайловка была для меня не первым родным селом, а только третьим. Родился я в татарской Козловке, среди холмов и крутых оврагов, заросших репьем и белладонной, затем несколько лет мы прожили с матерью в ожидании отца в соседнем Аю (означает Медведь) – это через бор и речку – в кривой избушке, подпертой свайками, с волнистыми стеклами, под соломенной крышей. А вот в третьем селе я в школу пошел…
– Ну почему не хочешь навестить старых дружков своих? – недоумевал я. Это и впрямь было странно. Отец свободен от всяких дел.
Слоняется, помню, по маленькой квартирке (родителям выделена половина деревянного дома, через стену – тоже пенсионеры), читает, нацепив очки, выписанные на дом, пахнущие керосином газеты, слушает радиолу «Латвия».
По улице идет трактор. Отец выглядывает в окно, мучительно морща навек закопченное солнцем лицо. Помню, кожа его лба мне показалась похожей на скорлупу грецкого ореха.
Конечно, здесь скучно. Хотя маме в ее заботах полегче – помимо печки есть и газовая плита. И электричество не моргает. Можно сказать, городское жилье. Но никакого огорода – во дворе за натянутой проволочной сеткой уныло склонились три подсолнуха и мерцает пестрый цветник мамы, похожий на ее старую шаль. Иногда отец идет туда и стоит, опустив голову и опять-таки сцепив, как зэк, руки за спиной…
Я понимал, я видел: он смертельно тоскует по воздуху деревни, по серо-золотым валам полей, по обжигающим осенним туманам над рекой.
Почему же не поехать? Почему?!
А он отворачивался и молчал, мой низенький лысый старик, стоя в галошах на покатом полу сеней и раскуривая «Приму».
– «Почему, почему?» Не хочу, – был наконец раздраженный ответ. И в дополнение к словам – высверк черных глаз, словно у коровы, к которой я подошел в дальней своей юности извиниться…
И все же я его уломал, уговорил. То ли отца повергли в тяжкие раздумья нескончаемые хвастливые речи властей, звучавшие из радиоприемника, то ли мать в очередной раз за что-то его отругала (за грязный платок или носки, которые он нечасто отдает в стирку, – сам, видите ли, стирает и, конечно, кое-как…), только отец мне буркнул:
– Поехали. – И с вызовом пояснил моей маме: – Сын хочет рыбку поудить.
– Да какая сейчас может быть рыба?! – ахнула мать, показывая на окна. – Сейчас дождь начнется.
– В дождь хорошо клюет, – жестко ответил старик, и мы, напялив пиджаки и кепки (я еще набросил на плечи отца брезентовый плащ), вышли на улицу райцентра.
Чтобы поймать попутную машину в сторону Старой Михайловки, надо было пройти вниз, к дамбе. Погода и в самом деле стояла ненастная: тучи неслись над землей, как это показывают в кинофильмах, неправдоподобно быстро. От ветра тальник гнулся, точно ковыль, березы на глазах оголялись, пуская по ветру рябую листву, вместе, как мне казалось, с воробьями…
Но ни одной машины не случилось на шоссе, и, чтобы зря не стоять, мы побрели пешком. До нашего села двадцать с лишним километров.
Посыпался дождь. Старик шел впереди, упрямо топая кирзовыми сапогами, я намеренно не обгонял, чтобы не раздражать его. Ох, подумал я, сапоги он давно не надевал, они усохли и, наверное, натрут ему ноги. У него и без того они больные – еще с фронта, пальцы красные к ночи, какой-то грибок привязался. Он и маминой пудрой их обсыпает, и какой-то мазью мажет, и в тазу с горячей водой парит – бесполезно… Лучше бы нам ехать.
Наконец послышался гул машины, мы обернулись – катила серая «Волга».
Я понимал: гордый отец ни за что не поднимет руку – в «Волге» разъезжают начальники. Я сам вскинул руку и загородил дорогу, но легковушка, вильнув, проскочила мимо и исчезла вдали.
Отец только усмехнулся.
Через полчаса нас нагнал старенький грузовик «ГАЗ-51» с шелестящим от ветра пологом над кузовом, этот остановился. Веселый паренек в армейской фуражке и зеленой строченой ватной телогрейке крикнул, открывая правую дверцу:
– Что, женщины из дому выгнали?
– Не говори, малый!.. – хмыкнул отец и полез первым на сиденье. Хоть кабина у «ГАЗа» и узковатая, мы легко устроились втроем.
Водителю все бы шутить, веселиться, и в знак благодарности отец нехотя, но все же ответствовал ему.
– А все женщины злые или добрые попадаются?
– Редко попадаются, как… на червя рыба-кит.
– Ха-ха-ха!.. Рыба-кит – да чтоб на червя! Это уж точно! – закатывался шофер. – А вы когда женились, дядя?
Отец кивнул в мою сторону:
– Спроси у него, сколько лет, и добавь год.
– Сколько тебе лет? – простовато, на «ты», обратился ко мне шофер, хотя был, конечно, помоложе меня.
– Много, – ответил я. – Сколько тебе, умножь на корень квадратный из четырех.
Паренек рассмеялся, а я смотрел, как бьет дождь в лобовое стекло.
Когда проскочили мимо кладбища и мы вышли, дождь миновал. Дул ветер, тряся деревья и перемещая тучи, как сердитый председатель колхоза в прошлые времена менял местами на столе официальные бумаги перед тем, как сказать нечто важное.
– Постой здесь, – сказал мой старик, не глядя в глаза, и зашел в чью-то калитку. Я стоял на улице, рядом бродил, тряся бородкой, козел и валялся в морщинистой луже розовый поросенок.
Минут через десять отец вышел со двора и, махнув мне рукой (подожди!), тут же исчез за другой калиткой. И минут через двадцать вновь появился, уже слегка усмехаясь. Неловко перешагнув канавку, полную воды и желтых листьев, ничего мне не говоря, сутуло потащился дальше, по бывшей улице Ворошилова (ныне Тукая), прикрывая ладонью щеку от ветра (а может быть, от меня слезы прикрывая?), сел возле бывшей почты на сохранившуюся, изрезанную мальчишками скамейку и опустил голову, уронив при этом кепку на землю.
Когда я присел, недоумевая, рядом, он медленно повалился на меня. И я со страхом понял, что он смертельно пьян. Он отключился. Я поднял его кепку и растерянно смотрел на него.
Зачем, зачем он так быстро напился? Он намеренно это сделал? Не хотел со мной говорить? Не хотел ни с кем тут здороваться?
Но ведь он к кому-то зашел? И его угостили!
Срам какой… Если бы сказал мне, я бы сам его угостил… купил бы водочки… в такую-то погоду и я бы хлестнул сорокаградусной…
Но отец кренился возле меня, падал на мои руки, бесчувственный и тяжелый. И что я должен был делать?!
Конечно, теперь не до красот деревенских, не до поиска одноклассников… Нужно ехать обратно. И поскорее. Пока нас не увидели знакомые.
Я потряс отца за плечи – он приоткрыл глаза, что-то промычал и снова повалился, теперь едва не соскользнув в грязь. Я с огромным усилием поднял его на ноги, поставил – нужно было немедленно выбираться из села, прочь от стыда, от срама, на околицу, где, может быть, нас подхватит попутная машина или, если не будет никакого транспорта, старик подремлет у меня головой на коленях. Хорошо, что я уговорил его, выходя из дома, накинуть плащ. А я – молодой, не сахарный, не растаю…
Медленно пошли мы по улице Ворошилова, если можно так сказать: пошли. Я волок старика, подхватывая под мышки и ставя на ноги, они у него подгибались, но порой и делали шаг-другой.
Тем временем из калиток показались старики и старухи и смотрели на нас темными, недружелюбными лицами.
– Ну и где твой обещанный железный мост? – крикнул жиденьким тенорком ветхий старичок в ватной фуфайке. – Этот сносит кажную весну. Похерело село совсем.
– Где обещанный глиняный завод? – рыкнул толстый, как баба, усатый седой мужик в шерстяной кофте. – Думали, игрушки детям будем лепить, деньги будут.
– Перекидной календарь тебе, а не деньги, – отозвалась бабуля в очках.
– Где дети наши? – спрашивали от покосившихся ворот, мимо которых я, с помутившимся сознанием из-за нехватки сил, волок своего старика. – На какие такие «гесы» их отпустил?
– Где церковь наша?.. В Москве-то, говорят, возвращают…
И совсем уж наивным и страшным был вопрос голубоглазого деда на двух костылях:
– И где? Где твой коммунизм? Обещал! А жись-то все хуже…
Следует напомнить, что наш приезд случился в конце семидесятых.
И хоть народ никогда не верил красивым словам (разве что в семнадцатом году), но все же запомнил обещание партии: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!» А коли она пообещала в шестидесятых, когда стали наконец и крестьянам выдавать паспорта, видимо, все же сказочная надежда теплилась в людях…
– Сам-то в город укатил, а тут асфальта нет до сих пор!.. – зло бросали люди, образовав чуть ли не коридор, через который мы еле перлись к окраине Старой Михайловки.
Вряд ли отец слышал их крики, но, я думаю, он еще дома знал, предвидел, что именно такие обвинения и будут. Почему и отказывался ехать. Согласился же ради меня. А напился – чтобы самому не слышать ничего…
Но не мог же я кричать людям в ответ: «Он воду вам провел? Он погорельцам за счет колхоза семь домов поставил? И разве не он сам, когда тушили, получил по башке горящим бревном, две недели лежал в больнице? Разве это не он моих сверстников, детей, воровавших ночью зерно с тока, от суда спас? Разве не он…»
Многое я мог бы напомнить им, но имел ли я право? Я тоже отсюда уехал и родному селу ничего доброго после себя не оставил, кроме пары кустов рябины и трех березок, которые посадил в школьном саду, когда мы его вокруг школы создавали…
На околице выл ветер, снова больно били в лицо дождинки, острые, как зерна ржи…
Мы постояли, шатаясь, и опустились на мокрый бурьян и лопухи возле дороги.
Отец что-то промычал и затих, он спал мертвым сном…
Как рассказать про наше возвращение? На старом «ЗИСе», а потом снова на «ГАЗ-51»… Только машина другая и водитель другой: половина лица малинового цвета, словно обваренная, и зубы стальные. Он ни о чем не спрашивал, сразу понял – человеку плохо. От денег отказался… Одно сказал на прощание:
– Пусть отоспится… потом горячего борща ему.
Так я и сделал, когда мы добрались до дому. А когда на следующий день отец пришел в себя и был в состоянии говорить, он словно не замечал меня. Играя желваками (будто у него там, за щеками, пельмени), делал вид, что читает книгу. Причем схватил с полки первую попавшуюся, моих школьных времен томик – роман про Спартака…






