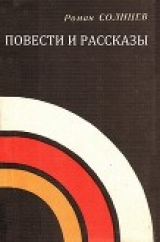
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц)
Наконец, некое дуновение прошло по Дворцу радости – подъехали машины, и се – шагает впереди свиты, победительно улыбаясь всеми зубами, высокий, совершенно лучезарный восточный человек. Почти без акцента обращается к нашему «классику», что-то говорит о значении письменного слова в деле воспитания человека будущего и показывает рукой вверх. И сразу же туда устремляются молодые смуглые с небольшими усами мальчики в штатском, а золотозубые девушки устраивают живой коридор, кланяясь и роняя на ковры лепестки белых роз. И Хозяин рядом с нашим Первым идут, скромно потупясь, на второй этаж, и мы, естественно, следом. Где-то на середине лестницы у меня темнеет в глазах, закружилась голова. Я хотел было приостановиться и опереться о гладкие мраморные перила, но словно боком наткнулся на железный борт грузовика – с улыбкой меня подвинул прочь один из малозаметных людей. Я не понял, почему он это сделал, но машинально пошел-таки вместе со всеми дальше, надеясь, что до стола дойду, а там коньячок мне поможет… Нас предупредили, что нужно садиться только на свое место: «Ищите карточку с вашей фамилией». Столы стояли буквой «П», и стулья были поставлены только с внешней стороны столов. На вершине «П», прямо посередине, уже восседал, склабясь, но глазами как бы уйдя в глубокие раздумья, Гейдар Алиевич, справа от него шмыгал носом наш багроволицый «классик», слева прикипел к стулу массивный человек серого цвета, с седыми усами, со стальными глазами. Он ни разу не улыбнулся, и я до сих пор не знаю, были ли у него зубы золотые, как у большинства, или обыкновенные. Он на протяжении всего вечера угрюмо сопел, разглядывая гостей одного за другим. Я, шатаясь, тащился мимо стульев и никак не мог найти свою карточку. Я уже обогнул угол и пошел к «президиумному» столу, как меня снова кто-то остановил незаметным движением – мне почудилось, я наткнулся на невидимый сейф. Кажется, это сделал улыбающийся официант.
– Извините, – пробормотал я. – Не могу найти своего места. Моя фамилия такая-то…
– Спасибо, что обратились ко мне, – отвечал человек в белом костюме. И показал рукой в дальний конец. – Там ваше место. Приятного аппетита!
И точно – вернувшись туда, откуда я начал свое унизительное путешествие, я понял, что проглядел свое место по той простой причине, что моя карточка упала «лицом» вниз. И почему-то это обстоятельство ввергло меня в тоскливые размышления о своей никчемности на пиру жизни, о том, какой же я бестолковый, и не лучше ли попросить начальство отправить меня срочно домой, в Сибирь. (Предполагалось, что мы поедем еще в Душанбе… или в Ташкент, не помню…) Но, добравшись до места и увидев, что моя рюмка наполовину заполнена коньяком, я тут же выпил. И заозирался, ища бутылку, чтобы налить еще, но оказалось – этим занимаются официанты. А в данную минуту все замерли – и официанты, и гости: поднявшись над сказочным столом, негромко, очень негромко говорил Хозяин республики… Мне издалека трудно было услыхать, о чем он говорит, но я тоже напрягся, так как на меня несколько раз оглянулись. Может быть, я звякнул рюмкой о вилку, ставя на место… Наконец, я понял – тост произнесен, все завставали – и я тоже вскочил с пустой рюмкой, но мне тут же в нее весьма ловко из-за правого моего плеча официант что-то налил, но очень немного. Я выпил, и в небесах заиграла зурна, зазвенели бубны, и в осветившемся волшебным светом зале перед нашим столом появились феи в дымчатых платьях. Изгибая руки, они закружились, томно и сладострастно улыбаясь запрокинутыми лицами. И возник, как джин из сосуда, золотозубый пожилой человек. Он запел:
– Воды арыка бегут, как живые… переливаясь, журча и звеня… – И дальше припев. – В небе светят звезды золотые… – Господи, сколько же лет назад я слышал эту песню?.. Ее пел Рашид Бейбутов, был где-то на юге СССР такой певец, маме моей нравился. Она любила всяких цыган, и этого Рашида любила. Я хлопнул по плечу Михаила из Мурманска и сказал ему об этом, он ухмыльнулся.
– Так это и есть Рашид Бейбутов!
– Он что, не умер?! Может, сын?
– Нет, говорят, сам.
– Какой молодец!.. – Я смотрел, как движется этот старый человек в прекрасном серебряном, как паутина, костюме, как блестят его глаза, как свеж голос, и подумал: наверное, это оттого, что здешние люди ценят жизнь, как праздник. А мы, русские, татары и прочие, себя как будто на помойке нашли… Всё перезабыли: песни, игры, старые имена… – Друг!.. – обратился я, поймав секунду тишины, к далекому Рашиду Бейбутову. – Спой: «Ох, спасибо, Сулейману…»
На меня несколько человек оглянулись и зашикали. Знакомая дама покачала головой. Всё, разлюбила. И я решил пойти покурить – все равно покуда больше не наливали. Спустился по мягкому, как трава, ковру, уложенному на ступени белой лестницы, заранее вынул сигарету и показывал ее по дороге всем смуглым усатым парням, которые стояли справа и слева, как оловянные солдатики, глядя на меня:
– Где у вас можно в зубы дать, чтобы дым пошел? – Они встревоженно нахмурились. – Ну, покурить, покурить?
Переглянувшись, помедлив, мне показали на открытую дверь, я зашел в беломраморные покои, где также торчали, отражаясь в зеркалах, несколько усатых молодых чекистов. Я вежливо поздоровался, закурил. И тут мне стало дурно. Выронив сигарету на сверкающий пол, я оперся ладонью о теплую стену, которая кренилась. Усатые хмуро и неодобрительно разглядывали меня. «Нализался, русский товарищ!..» – прочел я в их глазах.
– Я… я трезвый, – попытался я объяснить, но слова пропали в горле, и мне захотелось на воздух, под открытое небо, иначе я умру. Как лунатик, вытянув руки, я вышел в холл и направился к выходу, к высоким дубовым резным дверям со стеклянными окошками разного цвета. Сейчас… Но на моем пути встали плечом к плечу парни с усиками.
– Нельзя.
– Как?.. Почему?.. – промычал я. Перед глазами все плыло.
– Нельзя, – тихо и жестко отвечали мне.
– «В не-ебе… светят звезды золотые…» – наверху пел на «бис» нестареющий певец.
– Мне… мне туда. – Я царапал ногтями сердце и валился им на руки. – Дышать…
– Не положено.
– Как?! – я не понимал. И уже теряя сознание, чтобы как-то их умилостивить, прошептал строки Омара Хайяма. Кажется, эти:
«Мы – цель и высшая вершина всей вселенной…
Мы – наилучшая краса юдоли бренной…
Коль мирозданья круг есть некое кольцо,
В нем, без сомнения, мы – камень драгоценный!»
– Отойдите! – меня оттолкнули.
Я упал на колени.
– Вста-ать!.. – шепотом завопили на меня.
Кто-то обхватил меня сзади за плечи. Я завернул голову – Михаил. При нем я уже один раз загибался в автобусе. Он сразу все понял.
– Парни, вы что, обалдели?! У человека приступ… откройте… пусть он на скамейке в саду посидит.
– Здесь хороший воздух, цветы.
Я свалился на пол. Михаил, шепотом матерясь, взяв меня подмышки, оттащил в сторону, к одной из запертых дверей. Тут в щель между синим стеклышком и черной рамой немного шел воздух с улицы, но мне не хватало… Я онемевшими руками шарил по карманам и никак не мог нащупать баночку с валидолом. Наконец, под носовым платком, в левом кармане брюк нашел – в алюминиевой трубочке оставалось еще полторы почерневших таблетки. Одну сунул под язык. Слюны не было…
– Парни, да вы что?! Я офицер советской армии, я вас прошу!..
– Не положено, – как заведенный, тихо отвечал смуглый с усами. Другой такой же добавил. – Приказ.
– Едриттвою-в бога-душу-мать!.. – Михаил озадаченно смотрят в их восточные масляные глаза. – Вы что, боитесь, что он сбежит в ваш райский сад, какую-нибудь птичку съест?! Или чего вы боитесь?!
Молодые охранники молчали. Наконец, один сказал:
– Вот уедет товарищ Алиев… всех выпустим.
– Что? Значит, пока он тут… никому нельзя?.. – Михаил закрыл ладонью захрипевший от злобного смеха рот. – Вы что же, боитесь: он тут мину оставил? Мы что же, тут все как бы заложники друг друга?! Да пошли вы все на хрен с вашим!.. – Он опомнился, и несколько секунд стояла напряженная тишина.
– Миша, – пробормотал я, пытаясь размочить пуговку валидола. – Мне уже лучше. – Я обманывал. – Как-нибудь…
Я кое-как поднялся, прилип лицом к разноцветному стеклу двери. Здесь был и кусочек простого стекла, и я увидел: во дворе, шатая кусты с мелкими белыми и розовыми цветами, движется ветер. Кажется, гроза начинается. Может, локтем выбить? Ну, заплачу' потом… Но ведь напишут… такое понапишут – из Союза писателей выгонят… позору не оберешься… И я тут совсем выключился.
Пришел в себя, когда уже открыли все пять дверей. Я сидел на скамейке у фонтана, перед входом. Рядом курил, стоя, Михаил. Товарищ Алиев уехал. Неподалеку, на каменной площадке, урча двигателями, нас ожидали легковые машины и автобусы. В небе грохотало. Когда мы покатили вниз, в город, в гостиницу, грянул темный плотный ливень, окна автобуса были подняты, понесло сладким ветром… Я, кажется, снова жил дальше.
В этот день кроме Михаила и какого-то эстонца со мной никто не разговаривал. Я был провинившийся, почти прокаженный. И когда попросил Михаила узнать, не могу ли я улететь домой, мне тут же принесли длинный билет на самолет (через Москву), и я, рассовав по карманам сердечные таблетки, был отправлен прочь. Меня не провожали ни девушки с золотыми зубами, ни парни с длинными трубами, но корзину с дарами юга все же сунули на колени – я был гость, мне ЗАРАНЕЕ выделили подарок. И уже в дороге, над облаками, слегка ожив, я развернул синюю, как бы звездную бумагу: в корзине лежали два граната, кисть красночерного винограда, яблоко, подвялая груша и бутылка розового вина. Поклявшись больше не пить, я это вино привез домой. А дома меня ждала жена, все-таки вернулась, пожалела дурака… Ну, вы ее видели – смирная, добрая, с такими круглыми синими глазками. И обнялись мы с ней, поцеловались… я вымылся в ванной… зажгли, как в юности, свечку, выпили этого привезенного с юга пахнущего цветами вина… и я свалился замертво… Это был мой первый инфаркт. Очнулся в больнице через неделю. О, сосед мой, господин с пробитой головой! Вы спросите: а зачем я рассказал вам эту длинную историю? Не для того же, чтобы похвастаться: вот в каких дворцах сиживал… Нет, милый, вся беда в том, что, когда я пришел в сознание, я жить не хотел. Не поверите? Поверьте, ради Христа. Я, отрезвев, вдруг увидел всю свою жизнь в таком безжалостном, таком опаляющем свете! И прежде всего перед моими глазами стояли те высокие дубовые двери Дворца радости. Какой же я был и есть раб! И еще русский писатель, и не самый, как говорят, бесталанный! Размышлял годами о свободе духа, о выживаемости русского народа… и не мог заорать на весь Дворец: выпустите русского писателя! Ну, что, убили бы? Был бы шум? Наверняка, с ослепительными улыбками замяли бы шум… Чего боялся? Что отныне не станут печатать? Ну, не печатали бы… год, два, три… Время в России идет винтом… пришло бы и твое время… Больше не пригласят на всесоюзные попойки? Ты уже и сам давно догадался: с твоим сердцем там делать нечего. В этом кругу выдерживают особые люди, которым выйдут в начальство… так сказать, селекция… А ты перед запертыми дверями умирал! И даже стекло выбить не решился… Лыбился, терпел, на колени падал. Стишки им читал. Во имя чего?! Что за страшная сила стояла перед тобой?! Если ты, даже понимая, что вот-вот умрешь, не можешь взбунтоваться… как же ты взбунтуешься при ясном сознании, за письменным столом? Какие повести-рассказы ты бы ни сочинил с намеками, с историческими параллелями, какие дерзкие монологи ни дал своим героям, все равно это – ущербная, робкая, искусственная литература, выросшая под ножницами цензуры, под прожекторами родного соцлагеря! И ты уже никогда не переменишься – в твоих костях особый советский кальций, в твоих жилах вода… Вот сегодня, когда КПСС нет у власти и можно говорить, писать все, что хочешь, ничего не пишется. Потому что поносить и без того тяжелую жизнь нет смысла, а звать… куда звать? Что мы знаем? Наверное, эстонцы знают… может, еще кто… которые УЖЕ ТОГДА с таинственной улыбкой разглядывали наших вождей, по ночам читая иные книги и сочиняя иные тексты, нежели оглашавшиеся на собраниях… А мы, в России, наивные простодушные ваньки… пообещал нам обалдуй в картузе, что водка будет дешевая, хлеб дешевый, граница России отодвинется аж к Индийскому океану – полстраны проголосовало! Нет, ничего в нас не изменилось: завтра новый болтун пообещает – новому поверим! Лишь бы слаще, наглее, громче пообещал! Я, милостивый государь, за эти десять с лишним лет (после того стояния у дверей Дворца) исписал горы бумаги и все до строчки сжег у тещи в деревне, в овраге. Вы видели, как горит бумага? Такой черной сажи не бывает ни от каких дров. Будто черные вороны, кружатся взлетевшие квадраты сажи… И это всё, что осталось от моих бессонных дней и ночей… от мучительных поисков истины… На старости лет читаю запрещенных прежде философов… хожу, езжу, как могу, по России, вслушиваюсь в сегодняшнюю речь, вглядываюсь в сегодняшние глаза… понимаю – люди жаждут правды, прозрения… помоги им!.. Но словно некое проклятие лежит на мне… будто все краски убиты, слова заражены… Нашему поколению, наверное, нужно уйти, смиренно умереть. Это раньше меня понял Михаил, писатель из Мурманска… Да, да, долбанулся из ружья. Не веселиться же, когда Родина горит… не сочинять глумливые байки… не высмеивать наши собственные вчерашние книги… Я хочу сказать, уважаемый сосед, я признателен судьбе, что однажды оказался во Дворце Гюлистан. Вдруг понял цену всем нам… И вот сейчас как бы испытываю судьбу… выживу – выживу. Нет – нет.
– Но знаете ли вы, милый человек, – сказал я ему тихо, – что есть и такая методика выхода из инфаркта. Применяют в США. Движение и еще раз движение. Так что вы не так уж и рискуете… – Я, конечно, лукавил – мне было жаль видеть его искаженное страданиями желтое лицо. Лучше бы он лег.
– Да?.. – он, кажется, толком не слышал меня. – Ну, пусть. Останусь живым – значит, имей мужество и дальше стаканами пить этот срам. Я имею в виду впустую прожитую жизнь. А писать больше ничего буду. Никогда. Мне пенсию дали. Хочу вот съездить в Мурманск, цветы возложить к изголовью Михаила… и если выпадет такое счастье, дождаться правнука… вроде внучка замуж собралась… Может, устрою пир. Последний. – Он рассмеялся сухим смешком. – Кстати, нам никогда не научиться готовить обчественные праздники так, как их готовят люди востока. Обязательно что-нибудь напутаем… в последнюю минуту постараемся переделать, чтобы получше… а там и гостям надерзим, чтобы не считали нас холуями… Но как были рабы, так и останемся рабы, пусть даже на сей день взбунтовавшиеся! Посмотрите, с каким умилением, еще вчера несшие трехцветное знамя, смотрим старые фильмы, где нас учат жить комиссары! Это как у наркоманов… мы уже не можем… только-только начнет выходить из организма красная ложь, так больно и страшно! И смотрим, и смотрим. А то, что на стенах писали: даешь свободу… Как малое дитя, сделав лужу на полу, ждет отцова ремня, так и мы ждем диктатора. Вот тогда и успокоимся опять. Вот тогда и сочинять начнем. Конечно, помня о недавней воле, для начала что-нибудь смелое – в стол. А там опять беззубое – жить-то надо… А вот когда придет настоящая свобода… брезгующая ложью и кровью… нас уже не будет – и слава Богу!.. К этому времени явятся новые писатели русской земли.
Мой сосед по палате замолчал, прислушиваясь к шагам в коридоре – не врач ли грозный движется… а то ведь опять влупит снотворного в ягодицу – и уснешь на сутки… но нет, кажется, каблучки… женщина прошла… (Может, ко мне? Поискала по библиотекам, моргам и больницам и узнала? Увы…) Пользуясь паузой, я осторожно возразил писателю:
– Ну, а если все же доживете до нового… третьего поворота в истории России… вы многое могли бы рассказать.
– Я не Лев Николаевич, столько не протяну.
– Но десять-то лет… как-нибудь?
– Вы думаете, за десять лет Русь-матушка выпрямится? Не сон ли это очередной, который снится Иванушке, замерзающему на печи? Если уж мы семнадцать лет терпели адиёта Брежнева… – Он вдруг пригнулся и юркнул под одеяло.
Вошел толстый, лысый, в сверкающих очках доктор, распространяя запах эфира и хорошего табака, а с ним носатая старшая медсестра со стопкой «Историй болезни».
Мы притворились спящими.
– Так, – пробормотал врач. – Ну, пусть спят. Завтра.
И работники медицины ушли.
Мы полежали, полежали – и в самом деле уснули…
КЛЮЧИ
1Старуха потеряла ключи.
Она приплелась домой уже поздно, в мокрых осенних сумерках.
Мы с Аленой не сразу поняли, что с ней произошло. Старушка наша не поднялась домой ни лифтом, ни пешком, а почему-то позвонила с крыльца.
Сняв трубку домофона, Алена услышала:
– Это я… – Голос глухой, еле слышный.
– Сейчас, сейчас, мам! – Судорожно повесив трубку, Алена побежала вниз, чтобы толкнуть тяжелую, на пружинах, дверь подъезда, – мать не всегда могла ее оттянуть на себя, даже если отперла электронным чипом. А может быть, настолько устала, что связку ключей не может нашарить в кармане.
– Где ты была, дорогая?.. – Алена извелась, она уже в два часа пополудни звонила Елизавете Васильевне, горластой бабуле из соседнего дома, – иногда с мамой Алены они вместе из церкви возвращались. Но та не знала, где подружка.
Странно, церковная служба – утром, с девяти часов, где же наша старшая в свои восемьдесят пять лет бродит весь день? Ведь боязно: не дай Бог, завалится где-нибудь да и не встанет…
– Наверное, в Совет ветеранов заглядывала, – предположил я, когда теща, уронив на руки дочери пальтишко, прошла, как согбенная тень, в свою комнату и в согбенном же виде, боком легла на койку и, подобрав худые ножки, затихла. А на остром личике ее – я заглянул – сизая тень, словно с улицы комок сумерек принесла…
Право же, я помню, она пару раз заседала в Совете ветеранов, о чем со смущением нам с Аленой и доложила. Среди таких же, как сама, преклонных старух обсуждала с неистребимым интересом международное положение и политическое положение в России. И из-под красных знамен приносила домой купленные там, в относительно дешевом ларьке Совета ветеранов, кулек маленьких алых яблок.
– Да, да… – согласилась Алена. – Наверно, там была, там. Ишь коммунистка.
Но мы еще не знали про утерянные ключи.
Впрочем, старуха и под вечер, поднявшись к своему обеду, про ключи не поведала. Только по смятенному ее виду можно было понять, что днем что-то с ней произошло. Может быть, в церкви, во время службы, неловко локтем двинули, а то и свечу погасили? Или в Совете ветеранов совместно пришли к выводу, что Россия гибнет?
Мать попила чаю, съела кусочек хлеба, от конфеты и сыра отказалась (у нее очередной пост!) и вновь удалилась в свою комнату. И мы слышали, как долго она чем-то шелестит (Евангелие читает?), вот карандаш на пол уронила… чего же она ищет?
И ночью вставала, выходила в прихожую, в темноте – не включив света рылась в кармашках своего узенького пальто, платочек искала или листок бумаги с молитвой, особенно действующей в эту пору жизни? Недавно упросила Алену переписать ей красиво (у самой-то пальцы пляшут) молитву святых отцов Оптиной пустыни, и моя жена отпечатала у себя в институте эту молитву на лазерном принтере крупным шрифтом.
Надо сказать, молитва замечательная, я и сам ее иной раз с волнением перечитываю.
«Молитва оптинских старцев.
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить!
Аминь!»
Но кто знает, может быть, у моей тещи появилась некая новая, самая лучшая молитва? И она ее ищет?
А возможно, в Совете ветеранов дали ей какую-нибудь особенную вырезку из газеты, стихи душевные или цифры ужасные, самые подлинные, например про войну в Чечне.
Утром Алена спросила:
– Мама, что с тобой?
– Ничего, – отвечала та, с какой-то непонятной твердостью глядя в лицо тоже седой уже дочери.
Истинная партизанка. Только Алена слишком хорошо знает свою матушку, бывшего секретаря парторганизации на тракторном заводе по прозвищу Машка-Спичка (загоралась по любому поводу, отстаивала высокие идеи, а надо катить чугунные колеса – набычась, катила первая).
– Обидел кто? Обсчитали?
И тут мать не выдержала. Опустив голову, навзрыд проговорила:
– Ключи…
– Ключи?! – И мы, конечно, все поняли.
– Да ну-у, – с деланной веселостью закричал я, разводя руками, всего-то дел! Раз – и заменим замки.
– Такие траты, – тихо плакала мать.
– Да какие траты!
– Ну как же.
– А чего раньше времени горевать? Может, еще и найдутся… старательно улыбаясь, предположила Алена. – Может, дома лежат. Помнишь, ты паспорт теряла? И в холодильнике нашли.
– Я везде смотрела, – был еле слышный ответ старухи.
– А мы еще посмотрим! Дай я тебе валерьянки накапаю…
Как могли, мы успокоили мать и, когда она ушла, затихла в своей комнатке, стали с Аленой высматривать в квартире, не валяется ли где связка маминых ключей.
Они на стальном кольце, эти ключи, один – длинный, с тремя носами – от «предбанника» (у нас с соседями общая железная дверь), второй – от нашей собственной железной двери, плоский, с хитрой выемкой, и третий – латунный, попроще – от двери деревянной. Но особенно тревожно было из-за того, что потерян четвертый ключ, электронный, он в виде крохотного ковшика – им отмыкается дверь подъезда. Мало того что отмыкается, приложишь донышком чип к пуговке замка – сразу высвечивается номер квартиры, затем устройство пикает, и магнит отключен. Входи, дорогой товарищ вор, в указанную квартиру. Тем более, что все другие ключи у тебя также в наличии.
Мы с Аленой, стараясь не шуметь, осмотрели кухню, заглянули в углы, под стол, а на столе – в сахарницу, в мамину кружку, прошлись в нашу спальню. Конечно, и за обе входные двери выглянули – вдруг в «предбаннике» валяются. Алена перебрала в прихожей обувь – вдруг в какой-нибудь ботинок мать уронила. И в карманах наших курток глянули – могла и в чужой карман ключи сунуть. И в холодильнике посмотрели.
Нет нигде.
Нет ключей.








