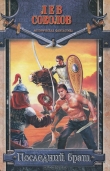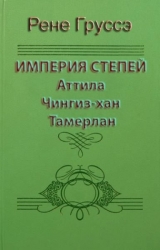
Текст книги "Империя степей. Аттила, Чингиз-хан, Тамерлан"
Автор книги: Рене Груссэ (Груссе)
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 52 страниц)
5. Монгольская Персия и семейство Хулагу [847] [847]Что касается Тчормагана см. Pelliot, Les Mongols et la Papaute, Revue de l'Orient Chretien, 1924, p.247 (51).
[Закрыть]
Монгольский режим в Персии до прихода Хулагу: Тчормаган, Байджу и АлджигидайМы уже видели, что Персия, после окончательного завоевания ее Монголами, разрушения нео-хорезмийского государства Джелал ад-Дина (1231 г.), оставалась под властью временной и достаточно неестественной. Западная группировка монгольской армии, расквартированная по берегам нижнего течения Куры и Аракса, в степях Аррана и Могана, оставалась под командованием полководцев, наделенных полной властью. Прежде всего, речь идет о Тчормагане, разрушителе государства Джелал ад-Дина (1231-1241), затем Байджу, победителе Сельджукидов Малой Азии (1242-1256). Этой военной администрации Округов непосредственно подчинялись вассалы Запада, грузинские князья, сельджукидские султаны Малой Азии, армянские цари Силисии, атабеги Моссула, причем частично их взаимоотношения – с самого начала имели более или менее общие черты.
Тчормаган, который, как отмечает Пельо, имел двоих зятьев – несторианцев, был достаточно хорошо предрасположен к христианству. [848] [848]См. Spuler Quellenkritik z. Mongolengesch. Irans, Z.D.M.G. 92, 1938, 219.
[Закрыть]
Во время его командования, великий хан Угэдэй направил между 1233 и 1241 гг. в Торис, сирийского христианина по имени Симеон, более известного под сирийским титулом Раббан-ата (в кит. транскр. Лие-пиен-а-та), и который позже был официально назначен уполномоченным по делам христианской религии при Великом хане Гуйюке. [849] [849]Pelliot, Ibid., p.244 (49).
[Закрыть]
Этот Раббан-ата, прибывший в Персию с безграничными полномочиями, предоставленными ему Угэдэем, вручил Тчормагану имперские предписания, запрещающие уничтожение безоружных христиан, которые признавали монгольскую власть. "Прибыв на место, – отмечает армянский летописец Киракос из Санджака, Раббан-ата принес христианам большое облегчение, избавление от смерти и рабства. Он строил церкви в мусульманских городах, где (до Монголов), равно как и защищал имя Христа, в частности в Таурисе и в Нахичевани. Он строил церкви, устанавливал кресты, предписывал днем и ночью устраивать звонницы (эквивалент колокольному звону у православных христиан), предписывал хоронить усопших под звуки Евангелия, с крестом, свечами и пением. Даже татарские полководцы ему преподносили подарки". Результатом миссии Раббан-аты явилось то, что монгольский режим, после жестокого уничтожения на раннем этапе христианского населения западного Ирана, постепенно создал для них условия, значительно более благоприятные, чем те, которые были до этого.
Чормаган был поражен мутизмом (несомненно, он был парализован) к 1241 г. Байджу, сменивший последнего в 1242 г., возможно, был менее благосклонен к христианизму. [850] [850]Что касается Байджу, см. Pelliot, Les Mongols et la Papaute, Rev. de l'Orient Chretien, 1924, p. 303 et sq. (109 et sq).
[Закрыть]
Это, видно из той встречи, которую он оказал доминиканцу Асцелину и его четырем спутникам, посланных Папой Иннокентием IV. Асцелин посетил Тифлис, где к нему присоединился новый спутник Гишар де Гремон (так как с 1240 г. в Тифлисе существовал доминиканский монастырь). Он прибыл 24 мая 1247 г. в лагерь Байджу, расположенный в стороне Аррана на севере Аракса к востоку от оз. Гокча. [851] [851]Эта летняя стоянка монгольского генерального штаба называлась Сисиан или «Ситьен» в армянских и латинских источниках. Вероятно, ее следовало локализовать в кантоне Хабанд между Сиуни и Артсах, «в горах прямо на востоке от оз. Гокча» (Pelliot, Revue de l'Orient Chretien, 1924, 302, 106).
[Закрыть]
Без особых дипломатических церемоний он стал умолять монголов прекратить бесчинства и признать духовный авторитет Папы. К тому же он отказался совершить перед Байджу троекратное коленопреклонение, которое необходимо делать в присутствии хана.
Вне себя от гнева, Байджу пригрозил казнить пять доминиканцев. Между тем в лагерь Байджу 17 июля 1247 г. прибыл с монгольской доминиканской миссией Эльджигидай, посланный Великим ханом Гуйюком. [852] [852]Что касается Эльджигидая (алджигидай) см. Pelliot, Les Mongols et la Papaute, e., 1931-1932, p. 33(171).
[Закрыть]
Байджу поручил Асцелину передать Папе ответ, подобный тому, который Гуйюк послал Папе через Плано Карпини в ноябре 1246 года, текст которого был известен Эльджигидаю. Монголы резервировали за собой божественное право быть вселенной империей, и предписывали Папе явиться лично, чтобы отдать дань уважения и признания хана и что в противном случае он будет рассматриваться неприятелем. Асцелин покинул ставку Байджу 25 июля 1247 г. Байджу дал ему двух «монгольских» сопровождающих, один из которых имел тюркское имя Айбек, возможно, по мнению Пельо, им был уйгурский чиновник на службе в монгольской администрации, – другого звали Саржис, безусловно, тот был несторианцем. [853] [853]Что касается Айбега и Саргиса, см. Pelliot, Ibid., 1924, p.327 (131).
[Закрыть]
Таким образом, оставленный караван двинулся по обычной дороге через Таурис, Мосул, Алеппу, Антиоху и Акру. Из Акры монгольские посланники отплыли в 1248 г. в Италию, где Иннокентий IV принял их на длительное время. 22 ноября 1248 г. Иннокентий вручил им ответное послание для Байджу.
Несмотря на негативный результат посольской миссии Асцелина, Эльджигидай более расположенный, чем Байджу в отношении христианства, послал в конце мая 1248 г. королю Франции Людовику IX двух восточных христиан – Давида и Марка, которым он вручил весьма любопытное письмо, несомненно, на персидском языке, перевод которого у нас есть на латинском. Эльджигидай говорит в этом послании, что ему доверена Великим ханом Гуйюком миссия для того, чтобы освободить от мусульманского поглощения восточных христиан и позволить свободно исповедывать свою религию. От имени Великого хана «повелителя земли», он доводит до сведения своего «сына» – короля Франции, что монголы намерены оказать покровительство всем латинским, греческим, армянским, несторианским и якобинским христианам, не разделяя их по церквям. Людовик IX принял это «посольство» во время своего пребывания на Кипре во второй половине декабря 1248 г. [854] [854]Pelliot, Mongols et la Papaute, Rev. Orient Chretien, 1931-1932, p. 172 (174) et 193 (195). R. Grousset. Histoire des Croisades, III, 520.
[Закрыть]
Несмотря на то, что достоверность подобной дипломатической миссии ставится под сомнение, кажется, что Эльджигидай действительно, как это предполагает Пельо, вынашивал планы, начиная с 1248 г. совершить нападение на Багдадский халифат, нападение, которое Хулагу осуществил десять лет спустя, и, что в связи с этим он решил совместить это с крестовым походом, который Людовик Святой намеревался предпринять против арабского мира в Египте. 27 января 1249 г. два христианских «монгола», попрощавшись с Людовиком Святым, покинули Никосию на Кипре в сопровождении трех доминиканцев: Андре де Лонжюмо, его брата Гийома и Жана Каркассона. Андре и его спутники, несомненно, достигнув стоянки Эльджигитая к апрелю-маю 1249 г., были отосланы им в монгольский императорский двор, точнее к регентше Огульаймиш, находившейся в бывших угэдэйских землях на Или и в Кобаке в Тарбагатае. Они вернулись обратно к Людовику Святому в Цезарею самое ранее в апреле 1251 г. [855] [855]Pelliot, Ibid., 175 (177) et sq. – Grousset, op. Cit., 521.
[Закрыть]
Эльджигидай, доверенное лицо Великого хана Гуйюка, после избрания ханом Великого хана Мунке, был включен в общий список проскрипции, который затрагивал сторонников угэдэйской ветви. [856] [856]Его сын Аргасун или Харгасун, организовал заговор против Мунке и был приговорен к смерти в Монголии.
[Закрыть]
В промежутке между серединой октября 1251 г. и серединой февраля 1252 г., Мунке приказал арестовать Эльджигидая и казнить. [857] [857]Pelliot, Les Mongols et la Papaute, Revue de f Orient Chretien, 1931-1932, p.65 (203).
[Закрыть]
Байджу остался в единственном числе, военное правительство на передовых рубежах, где он находился до прихода к власти Хулагу в 1255 г.
Деятельность Байджу была в основном направлена на управление Грузией и Малой Азией. После смерти царицы Грузии – Русуданы, раздраженный ее упорным сопротивлением, которая до своего конца отказывалась подчиняться монголам, он предложил отдать корону царицы Грузии племяннику умершей царицы – Давиду Лаше, который был более сговорчив, чем она. Но хан Кипчакии – Батый взял Давида Нарина, сына Русуданы под свое покровительство. Оба претендента обратились за разрешением конфликта к Великому хану Гуйюку (1246). Известно, каким образом распорядился тот, передав Картли – Лаше, а Имеретию – Нарину. [858] [858]Библиография (грузинские и армянские источники и Джувейни) у Минорского, Тифлис, Энц. Исл., 796.
[Закрыть]
Подобный спорный случай имел место в сельджукском султанате Малой Азии. В 1246 г. Великий хан Гуйюк передал трон молодому принцу Килиджу Арслану IV-му, который посетил его в Монголии, когда прибыл к своему старшему брату Кай-Кавусу II. В то же время Гуйюк назначил сельджукам ежегодную выплату оброка: «1200 000 монет, 600 кусков тканей, тисненного шелком и золотом, 500 лошадей, 500 верблюдов, 5 000 голов мелкого скота и, кроме того, дары, которые удвоили сумму оброка». В 1254 г. Мунке принял решение, что Кай-кавус будет править на западе, а Килидж Арслан – на востоке Кизилирмака. Однако два брата вступили в сражение друг против друга, Кай-Кавус оказался победителем, и взял в плен младшего брата. В 1256 г. Байджу, недовольный тем, что Кай-Кавус медлил со сбором оброка, напал на него и одержал верх около Аксарая, в результате чего султан был вынужден бежать к грекам Ницеи, в то время как монголы поставили на его место Килидж Арслана. В дальнейшем Кай-Кавус вернулся некоторое время спустя и получил часть царства со своим братом на основе решения Мунке. [859] [859]См. Kaika us II, dans L'Enc. de l'lsl., 677-678.
[Закрыть]
В общем, сюзеренитет монголов на передовых позициях юго-запада ощущался не столь сильно и напоминал о себе периодически, то неожиданно и неистово, то с периодами затишья. Чормаган, затем Байджу, жестко демонстрируя силу государствам-вассалам, вынуждены были постоянно обращаться ко двору в Каракоруме, удаленность которого задерживало принятие решений в течение нескольких месяцев и зависимые принцы, словно посланники, обращались за помощью в случае возникновения семейных дрязг в клане Чингизханидов.
Монгольское правление в Персии до прихода к власти Хулагу: Коргюз и Аргун Агха Вэтот период шло создание гражданской администрации в Хорасане и Аджемистском Ираке. Монгольский военоначальник Чин-тимур завершил в 1231 г. разгром последних очагов хорезмийского сопротивления в Хорасане, в то время как на северо-западе Чормаган одержал победу над Джелал ад-Дином. В 1233 г. именно Чин-тимур был назначен Великим ханом Угэдэем правителем Хорасана и Мазандерана. [860] [860]d'Ohsson, III, 103-107 (по Джувейни).
[Закрыть]
Фактически на тот период речь приблизительно шла только о налоговой политике; налоговые сборы, поделенные, впрочем, между Великим ханом и руководителями трех других Чингизханидских улусов, буквально вырывались у несчастного населения с еще большей жестокостью, чем даже при расправах и разрушениях предыдущих лет, которые полностью опустошили эту землю. Однако даже такой правитель как Чинтимур начал привлекать просвещенных иранцев; его сахиб-диван или начальник финансовой службы был отцом историка Джувейни. [861] [861]Беха ад-Дин, отец Джувейни, был взят в плен в Тузе монгольским предводителем Кул-Булатом. К нему относились с большой благосклонностью и благодаря монголам он стал сахиб-диваном Хорасана, и продолжал оставаться до своей смерти в 1253 г. в Исфагане. См. Бартольд, Джувейни, Энц. Исл., I, 1100.
[Закрыть]
У Чинтимура, который умер в 1235 г., был преемник после небольшого промежутка времени – уйгур Коргюз, который, несмотря на христианское имя Георгий, был сам буддистом (1235-1242). Родом из предместий Бешбалыка (Кучен), он был известен как просвещенный человек среди уйгуров и таковым признавался при жизни Чингиз-хана принцем Джучи и получил предписание Завоевателя научить уйгурской письменности его детей. Благодаря протекции «начальника канцелярии» – несторианца Чинкая, Угэдэй поручил ему провести перепись населения и повысить уровень налогов в Хорасане. «Каждый найон, каждое должностное лицо вел себя полновластным хозяином округа, где он командовал и использовал по своему усмотрению большую часть налогов. Каргюз положил конец такой практике, заставил всех отдавать дань целиком. Он оберегал жизнь и имущество персов против тирании монгольских военоначальников, которые больше не могли применять суровые меры по своей воле». [862]
[Закрыть]
Несмотря на то, что он был буддистской веры, Коргюз покровительствовал мусульманам и, в конце концов, сам принял ислам. Обустроившись в Тусе, который он восстановил, этот умный, ловкий и энергичный уйгур попытался создать больше на благо иранского населения, чем для монгольской казны, законный режим и если можно так сказать, гражданскую администрацию. Великий хан Угэдэй под большим влиянием его идей дал указание в 1236 г. восстановить Хорасан. Он приступил к возвращению населения в Герат. Но после смерти Угэдэя монгольские должностные лица, которым он чинил препятствия в разграблении населения, выставили его на суд регентши Тараганы. Затем выдали Кара-Хулагу, внуку Чагатая, который нанес ему оскорбление и послал на гибель (1242). [863] [863]D'Ohsson, Ш, 120 (согласно Джувейни).
[Закрыть]
Торагана отдала управление Хорасаном и Аджемитским Ираком ойрату Аргуну Агхе, который был назначен в связи с тем, что знал уйгурскую письменность и, благодаря этому работал в канцелярии Угэдэя. [864] [864]Джувейни, который вместе со своим отцом работал чиновником под началом Аргуна Агхи, позволил себе резко выступить против верховенства образованных уйгуров над образованными арабами и персами: «В бурных событиях, которые перевернули мир, были разрушены школы, а над учеными совершили расправу, в особенности в Хорасане, который был светочем знаний, местом встречи образованных людей. Все, кто отличался знаниями, погибли под ударами меча. Те, кто вышли из небытия, заменив их, выбрали уйгурский язык и письменность» (Ар. D'Ohsson, Hist. des Mongols, I, p. XXV.
[Закрыть]
В период своего правления (1243-1255) Аргун Агха прилагал усилия подобно Коргюзу, чтобы защитить население от злоупотребления в системе налогообложения и вымогательств со стороны монгольских чиновников. К удовольствию Великого хана Гуйюка, он отменил ассигнации, освободил от налогов и лишил патентов, которые Чин-гизханидские функционеры без разбора увеличили по всей стране и благодаря которым они лично распоряжались доходами монгольской казны. Он нашел поддержку также у Великого хана Мунке, к которому он явился в 1251 г. По его просьбе Мунке вместо неупорядоченного налогообложения в начале завоевания, ввел в Персии систему, уже практикуемую в Трансоксиане Махмудом и Масудом Яла-вачами, т.е. подушную подать в соответствии с реальными возможностями налогоплательщика, поступления от данной подати должны были быть направлены на содержание армии и обслуживание государственной почтовой службы. Аргун Агха умер в почтенном возрасте в Тусе в 1278 г., у него остался сын, известный эмир Науруз, бывший какое-то время вице-правителем Хорасана. [865]
[Закрыть]
С другой стороны, Великий хан Мунке передал в управление в 1250 г. провинцию Герат, которая восстанавливалась из руин, сановнику из уезда Гора керт – Шамс ед-Дину Мохаммеду, по происхождению афганца, по вероисповеданию – суннита, который прибыл служить ему при дворе в Монголии. Шемс ад-Дин был внуком аристократа последних гуридских султанов Восточного Афганистана и с 1245 г. стал наследным владельцем Горы. Кертские принцы, у которых был титул мелика (правитель), вынуждены были быть осторожными и предупредительными, верно служить своим монгольским хозяевам, умело лавировать, чтобы не впасть в немилость в период междоусобных войн Чингизханидов и, в конце концов, выжить в их маленьком царстве в Герате, будучи под монгольским игом (1251-1389). Долгое правление Шемса ад-Дина снискало признание его клана в стране. Это гуридское возрождение было тем более примечательным, что оно происходило под прикрытием монгольской администрации и в полном согласии с нею. [866] [866]D'Ohsson, III, 129-131.
[Закрыть]
Монголы терпеливо отнеслись также, по крайней мере, вначале, как к вассалам, к династии атабеков Кирмана, клану Кутлугшахов и сульгуридским атабекам Фарса. Клан Кутлугшахов был основан Бораком Хаджибом (1223-1235), весьма хитрой личностью, которому удалось выжить в период правления неистового Джелал ад-Дина. Его сын Рох ад-Дин Ходжа (1235-1252) вовремя ушел служить ко двору Великого хана Угэдэя в Монголию (1235), а затем за ним последовал Котб ад-Дин (1252-1257), который прослужил в монгольской армии в Китае и которому в свою очередь было выделено княжество в Кир – мане Великим ханом Мунке. Так же и в Ширазе сальгурид Абубекр (1231-1260) сумел склонить на свою сторону Угэдэя и последующих Великих ханов, которые сохранили его трон. [867] [867]D'Ohsson, III, 131 – Minorsky, Kutlugh-khan, Enc. Isl., 1238. T. W. Huig, Salghurides, Enc. Isl., 109.
[Закрыть]
Только двадцать лет спустя после завоевания Персии монголы подумали о том, что следовало положить конец временному режиму, который они там установили, и покончить с двойственностью чисто военного правления в Арране и Могане и налогового управления в Хорасане и Аджемистском Ираке, путем установления над ними законной политической власти. На курултае 1251 г. Великий хан Мунке решил передать вице-правление Ираном своему младшему брату Хулагу. [868] [868]В монгольском языке Хулагу происходит от хула, или ула – «быть сверх того». В персидском языке Хулаку. (Pelliot, Les mots a Hinitial, aujourd hui amui, en mongol des XIII et XIV siecles, J. A., 1925,1, 236).
[Закрыть]
Кроме этого, Хулагу получил от Мунке задачу устранить два духовных течения в Персии: княжество исмаилитов в Мазандаране и абассидский халифат в Багдаде, а затем завоевать Сирию». Распространяя обычаи, традиции и законы Чингиз-хана на берегах Амударьи вплоть до границ Египта, обходясь по-доброму и благосклонно ко всякому человеку, который показывает себя смиренным и подчиняется твоим приказам. Тот, кто не будет тебе повиноваться, подвергни его унижениям». [869] [869]Rachid ed-Din, traduction Quatremere, p. 145. D'Ohsson, III, 139.
[Закрыть]
Прибыв из Монголии несколькими небольшими отрезками пути через Алмалык и Самарканд, Хулагу пересек Амударью 2 января 1256 года. На персидском берегу реки его с почетом встретили представители новых вассалов, начиная от Керта Шемс ад-Дина, мелика Герата и сальгурида Абубекра, атабека Фарса, до двух сельджукидов Малой Азии – Кай-Кавуса II и Килидж Арслана IV. Согласно плану, намеченному Мунке, он вначале напал на исмаилитов или Ассасинов (убийц) в их орлином гнезде в Мазандеране, Меймундизе и Аламуте. Великий властитель исмаилитов Рох ад-Дин Куршаш, взятый в осаду Меймундже лично самим Хулагу, сдался 19 ноября 1256 г. [870] [870]См. Rachid ed-Din, trad. Quatremere, 217, 219. D'Ohsson, 111, 197.
[Закрыть]
Хулагу отправил его в Монголию к Великому хану Мунке, но по пути пленник был убит. Защитники Аламута сдались 20 декабря. Наводящая ужас секта, которая в XII в. сводила на нет все усилия сельджукских султанов, повергла в страх и султанат и халифат, став причиной деморализации и развала во всем исламском мире Азии, наконец, была ликвидирована. Это явилось огромной услугой, оказанной монголами для наведения порядка и ведения цивилизованного образа жизни.
Хулагу затем напал на аббассидского халифа Багдада, духовного лидера суннитского ислама и властителя небольшого временного владения в Арабском Ираке.
Правящий халиф аль-Мустаким (1242-1258) был слабохарактерным человеком, который рассчитывал, что при помощи хитрости ему удастся избежать монгольской угрозы, как это удавалось его предшественникам, которые последовательно оставались править в Иране: буиды, сельджукиды, хорезмийцы и даже монголы. [871] [871]См. Aboul Fida, Historiens des Croisades, Historiens Orientaux, I, 136. Rachid ed-din, trad. Quatremere, 247. D'Ohsson, Ш, 212 (d apres Waccaf) – R. Grousset, Histoire des Croisades, III, 568.
[Закрыть]
Когда правители того времени прочно встали на ноги, халифат пошел на уступки, позволив править бунду эмиру аль-Омару в X в., и сельджукскому султану в XI в. Он покорно смирился, сразу же занявшись на какое-то время духовными функциями в ожидании, пока это эфемерное правление пойдет на убыль. Прошло время и халиф постепенно обретал силу, был третейским судьей, содействовал тому, чтобы они потеряли влияние. Это была почти божественная сила, которая позволяла править короткое время или век и, имея, как они считали, целую вечность перед собой. Но империя вселенной, которую Чингизханиды считали даром Тенгри, Вечного Неба, не допускали исключения из правил. Письменный диалог между Хулагу и халифом, таким, каким его нам представляет Рашид ад-Дин, является одним из самых примечательных в истории. Хан требовал возвращения от наследника тридцати шести халифов династии Аббаса временно данную власть Багдаду в руки буидских эмиров аль-Омари, затем великим сельджукским султанам: «тебе известна судьба, которую со времен Чингиз-хана создали миру монгольские армии. Какому унижению подверглись, благодаря помощи Вечного Неба династии шахов Хорезма, сельджуков, дейлемских правителей и других атабеков! Тем не менее, врата Багдада всегда были открыты всем расам, которые устанавливали там свое владычество. Так как же вход в этот город может быть закрыт для нас, для тех, кто обладает такой силой и властью? Так берегись, если вздумаешь препятствовать нашему победоносному Знамени!» [872] [872]Rachid ed-Din, trad. Quatremere, 231.
[Закрыть]
На это официальное предупреждение Чингизханида, халиф ответил отказом. Он не желал отречься от преходящего аббассидского правления, которое было отобрано его предками у последних персидских сельджукидов. Он противопоставлял Чингизханидской вселенной империи духовную независимость, не менее универсальную мусульманского «папства»: «О, молодой человек, только что начавший восхождение в жизни, в сладкой и быстро исчезающей эйфории благополучия, вы считаете себя выше всех в этом мире, неизвестно ли вам, что, начиная от Востока до самого Магреба, все поклонники Аллаха, начиная от верховных правителей до нищих, все являются покорными слугами этого двора и, что я могу им дать приказ объединиться? [873] [873]Рашид ад-Дин, согласно D'Ohsson, Ш, 217.
[Закрыть]
«Тщетные угрозы. Аюбидские султаны Сирии и Египта, испытывавшие ужас от соседства монголов, промолчали. Что касается Хулагу и его военоначальников в лице шаманистов, буддистов или несторианцев, то их вовсе не тронули мусульманские пророчества, с которыми к ним с таким пафосом обратился халиф.
Продвижение монгольских войск на Багдад началось в ноябре 1257 г. [874] [874]См. Р. Груссе, История Крестовых походов, III, 571.
[Закрыть]
Армия Байджу двинулась по дороге в Мосул, чтобы захватить Багдад с тыльной стороны западного берега р. Тигр. Лучший военоначальник под командованием Хулагу – найман Китбука (который был, кстати, несторианцем), направился с левым крылом на аббассидскую столицу по дороге Луристана. Наконец, сам же Хулагу спустился из Хамадхана на Тигр через Кирманшах и Холван. 18 января 1258 г. перегруппировка монгольских войск завершилась, и Хулагу разбил свою ставку в окрестностях Багдада. Немногочисленная армия халифата, пытаясь оказать сопротивление, занимая выгодное положение, все же была полностью разгромлена (17 января). 22 января монгольские военоначальники – Байджу, Бук Тимур и Сугунджак или Сунджак, заняли свои позиции в пригороде Багдада, расположившись на западе реки Тигр, в то время как противника поджимали с другой стороны Хулагу и Китбука. Для того чтобы успокоить монголов, халиф выслал к ним своего визиря, неистового шиита, который возможно в душе был с ними, [875] [875]Aboul Fida, Historiens des Croisades, I, 136.
[Закрыть]и несторианского католикоса Макиху. Но уже было поздно. Яростные атаки уже дали возможность монголам успешно продвигаться в восточном секторе крепостных фортификаций (5-6 февраля). Осажденным не оставалось ничего как сдаться. Солдаты крепостного гарнизона пытались бежать. Монголы настигли их, распределили между отрядами и предали смерти всех до одного. 10 февраля халиф лично явился к Хулагу, чтобы сдаться. Хулагу приказал ему, чтобы тот дал распоряжение всему населению выйти из города и сдать оружие. Разоруженные жители шли толпами, сдаваясь монголам, которые на месте казнили их. [876] [876]Rachid ed-Din, trad. Quatremere, 299. См. Kirakos, trad. Dulaurier, J. A. Juin 1858, 489.
[Закрыть]
«Монголы, войдя в город, устроили массовую бойню и уничтожили тех, кто не выполнил распоряжения, после чего город был подожжен (13 февраля). [877] [877]См. Kirakos, J. A., 1858, 491.
[Закрыть]
Бесчинства продолжались семнадцать дней. Погибло девяносто тысяч жителей.
Что касается халифа, то монголы, заставив его отдать казну и потайные сбережения, учитывая его сан, не стали подвергать кровавой казни, а зашив в мешок, бросили под копыта скачущих лошадей (к 20 февраля). [878] [878]Aboul Fida, 137.
[Закрыть]
«Большая часть города была сожжена, в том числе святая мечеть, и были разрушены могилы аббассидов».