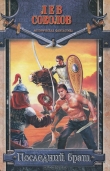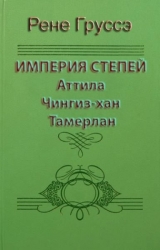
Текст книги "Империя степей. Аттила, Чингиз-хан, Тамерлан"
Автор книги: Рене Груссэ (Груссе)
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц)
Уйгурские тюрки, после потери ими Монголии, расположились на севере Тарима, в Хочо (Турфан), Бешбалыке (Гучен), Карашаре и Куче, тюркизировали эту древнюю «тохарскую» страну, но, по крайней мере, отнеслись с уважением к буддистским и несторианским верованиям. Караханидские тюрки, разместившиеся на западе и юго-западе Кашгарии и региона Или и Иссык-Куля, напротив, основательно изменили облик страны, потому что они принесли ислам. Исламизация осуществлялась одновременно с тюркизацией, что привело к тому, что от прошлого не осталось в этой части Центральной Азии, практически ничего.
Мы недостаточно хорошо знаем историю караханидской династии, которой было суждено в середине X в. и в начале XIIIв. господствовать в Кашгарии. Возможно, как об этом говорит Бартольд, что караханиды относились к клану Тогуз Огузов, которые отняли регион Баласагуна (запад Иссык-Куля) у карлуков. [320] [320]В тот же период Кашгар по-видимому был оккупирован другим тюркским племенем Ягма, другим кланом Тогуз Огузов (первая четв. X в.?) Касательно этого клана см. Pelliot, JA., 1920, I, 135, et Toung pao, 1930, Г, 17. Aussi Minorsky, Hudud al-Alam, 277. История караханидов до того времени чрезвычайно запутанная, была разъяснена Бартольдом, который рассмотрел все восточные материалы в своем труде «Туркестан в период монгольских нашествий», англ. перев. в Gibb Memorial new series, V, 1928, 254 et sq.
[Закрыть]
Первый из караханидов, о котором упоминалось в мусульманской литературе, был Саток Бугра-хан, правитель Кашгарии, умерший в 955 г., и внесший большую лепту в исламизацию своих соплеменников. В течение X и XI веков, мы видим оазисы западного Тарима, а также долины Чу и Таласа, поделенными между членами семьи, уже принявшими ислам. Несмотря на принятие ислама, караханиды, в остальном, не забывали о наследственном противостоянии тюрков против иранцев и, в связи с этим не совершали ошибку, чтобы пойти войной против саманидских эмиров Трансоксианы, хотя последние были у порога Центральной Азии, являясь истинными сторонниками суннитской мусульманской правоверности. Мы видели, что караханид Бугра-хан Харун, правивший в Баласагуне на реке Чу, предпринял ряд тюркских вторжений в этой стороне, пойдя на Бухару в мае 992 г. походом, который, впрочем, оказался неэффективным. [321] [321]См. Barthold, 258-259.
[Закрыть]
Другой караханид, который правил в Юзкенде в Фергане – Арслан Илек (или Илиг) Наср (умер в 1012 г. или 1013 г.), оказался более удачливым. [322] [322]Пельо предлагает произносить вместо Илек по Бартольду, – Илиг, слово, означавшее в уйг. языке правителя (Notes sur le Turkestan, Toung pao, 1930,1, 16).
[Закрыть]
Как мы это уже знаем, 23 октября 999 г. он вошел в Бухару победителем, взял в плен последнего саманида Абдель-Мелика II и присоединил Трансоксиану.
Как только что мы говорили, на юге Аму-Дарьи, Хорасан, другая часть саманидского наследства, оказалась в руках второй тюркской династии-газневидов, которую представлял знаменитый султан Махмуд (998-1030), завоеватель северо-западной Индии. Взаимоотношения этих двух кланов, одинаково тюркских, одинаково мусульманских, вначале были пристойными и даже дружественными. Арслан Илек-хан Наср, покоритель Бухары, выдал свою дочь замуж за Махмуда, но согласие продлилось недолго. Караханиды, известная династия, к тому же хозяева Кашгарии, древней страны тукю Или и Чу, относились к газневидам, своим бывшим рабам, как к выскочкам. Махмуд Газневи, присоединивший захваченный им Пенджаб (1004-1005) к своим афганским и хорасанским владениям, обогащенный сокровищами Индии, которому поклонялись все раджи, Махмуд, глубоко проникшийся иранским влиянием, на вершине своего могущества смотрел на караханидов, этих отсталых тюрков из несчастных северных степей, как на кузенов-варваров, вторжения которых в его прекрасную индоиранскую империю, он, впрочем, опасался. Что касается этих опасений, то он не ошибся. В 1006 г., когда он задержался в Индии, караханид Арслан Илек Наср захватил Хорасан, где он ограбил Балх и Нишапур. Возвратившись из Ирана, Махмуд выиграл сражение у Илек Насра в Шархиане около Балха (4 января 1008 г.), и изгнал его с этих краев. [323] [323]Дата, предлагаемая Гардизи, см. у Бартольда, I.e.,273. Победа, одержанная Махмудом над караханидами, стала возможна благодаря использованию боевых индийских слонов.
[Закрыть]В этой борьбе Илек Насру помогал его кузен Кадыр-хан Юсуф, правитель Хотана; Однако, третий караханид, Туган-хан, собственный сын Илек Насра, был привлечен Махмудом на свою сторону.
В добавок к родственным разногласиям, караханиды, во время ведения военных действий на линии Амударьи против Махмуда Газневи, были застигнуты врасплох китайскими правителями Пекина, которые в 1017 г., о чем мы уже говорили, послали армию в Кашгарию. Это нападение было, впрочем, отбито кашгарским караханидом Туган-ханом. Минорский недавно обнаружил сведения о посольстве, направленном китайским двором к Махмуду Газневи, вне всякого сомнения, чтобы договориться с последним о борьбе против караханидов. [324] [324]Сообщение в Академии по Письменным памятникам. 1937.
[Закрыть]Известно, что Махмуд был поглощен делами на другом краю своей империи, вел военные действия в Индии (взятие Танесвара, 1014 г., разграбление Матхуры, 1019 г., осада Гвалиора, 1020-1021 г., разграбление Сомнатхи, 1025 г.). В 1025 г., расширив свои владения, простиравшиеся до Ганга и Мальвы, он прибыл, чтобы свести счеты с Али-тегином, караханидом, правившим тогда в Бухаре и Самарканде. Али-тегин, будучи не в силах сопротивляться, отступил, и Махмуд вошел в Самарканд. В то же самое время в Трансоксиану проник другой караханид, Кадыр-хан Юсуф, правитель Кашгарии. Он и Махмуд имели дружескую встречу у Самарканда, чтобы договориться о разделе страны (1025). В сущности, ни одному из них не удалось достичь успеха. Как только Махмуд прибыл в Хорасан, Али-тегин возвратился в Бухару и Самарканд (1026). [325] [325]Бартольд, 285-286, по Гардизи.
[Закрыть]Сын и преемник Махмуда Газневи-султан Масуд (1030-1040), выслал против Али-тегина армию, которая еще раз заняла Бухару, но не смогла там удержаться (1032). Али-тегин до своей смерти (1032) оставался хозяином Трансоксианы. Немного времени спустя после его смерти, она перешла во владение караханида другой ветви – Бугра-тегина, по прозвищу Тамгач-хан, который правил в Бухаре с 1041 (или с 1042) по 1068-г. [326] [326]Что касается титула Тамгач-хана, то есть «правителя Северного Китая» (Табгатч), см. Бартольд, Туркестан, 304. Касательно мусульманской набожности этого монарха, см. там же, с. 311 (по Ибн аль-Атиру). В общем, он представлял собой интересный тип оседлого тюрка и хорошего администратора.
[Закрыть]
Однако, как мы это еще увидим, в восточном Иране произошла грандиозная перемена. 22 мая 1040 г., газневиды потерпели поражение в данданканской битве под Мервом от другой тюркской орды-сельджуков, которые отняли у них Хорасан, отбросив их в Афганистан и Индию. Сельджукский хан Тогрибек или Тогрулбек, победитель сражения Данданкане, подчинил в дальнейшем всю Персию. В 1055 г. он вошел в Багдад и был признан аббасидским халифом султаном, повелителем Востока и Запада. Эта необъятная тюркская империя, быстро увеличившаяся за короткое время, от Аму-Дарьи до Средиземноморья, не могла дальше мириться с независимостью небольших караханидских ханов в Трансоксиане. Караха-нид Шамс эль Мульк Наср, сын и преемник Бури, правивший в Бухаре и Самарканде с 1068 по 1080 г., подвергся в 1072 г. нападению второго сульджукского султана – Альп Арслана. Последний был убит в этой военной кампании, и его сын, великий султан Мелик-шах, двинулся на Самарканд, но принял предложение о мире, запрошенное Шамс эль Мульком, который признал себя его вассалом (1047). В 1089 г. Маликшах вновь вернулся к военным действиям, занял Бухару, вторгся в Самарканд, и взял в плен караханида Ахмеда, племянника и второго преемника Шамс эль Мулька, которого, впрочем, он, в дальнейшем сделал своим сторонником. С тех пор, если караханидские принцы правили в Бухаре и Самарканде, то они назначались в качестве наместников сельджукских султанов. Трансоксиана превратилась в зависимое владение тюркской сельджукской империи.
В то время как караханидская ветвь Трансоксианы продолжала бороться, и в результате этого теряла свои силы, караханиды Или и Кашгарии, в стороне от великих исторических драм, вели еще более мрачную жизнь. Один из этих караханидов, – Кадыр-хан Юсуф, как мы уже видели, подчинил себе все владения династии в этом регионе: Баласагун, Кашгар и Хотан. После его смерти, первому сыну-Арсланхану достались Баласагун, Кашгар и Хотан (1032-1055?), второму сыну-Мохаммеду Буграхану – Талас (1032-1057). К 1055 г. он вновь объединил страну, отняв у Арсланхана Кашгар, что, впрочем, явилось причиной дальнейшего раздела. В конце XI в. Баласагун, Кашгар, и Хотан вновь оказались во владении караханида Буграхана Харуна (умер в 1102 г.), которому была посвящена знаменитая тюркская книга – Кутадгу Билик, написанная в 1069 г. Юсуфом Хае Хаджибом Баласагунским.
Благодаря караханидам, мусульманское тюркское господство глубоко укоренилось в Кашгарии и бассейне Иссык-Куля, когда в 1130 г. эти места были отвоеваны у них монгольским "языческим" народом-киданями, пришедшими из Пекина. Но, прежде чем говорить об этих значительных событиях, нам следует вернуться, чтобы вкратце осветить историю сельджукских тюрков в Передней (Западной) Азии.
Роль сельджуков в истории тюрковВ X в. персидская география – Худуд эль-Алам свидетельствует, что страна киргиз-казахов на севере оз. Балхаш, т.е. степи Сары-су, Тургая и Эмбы, была населена тюркскими народностями, огузами или гузами, о которых византийские летописцы говорят как о узоях. [327] [327]Минорский, Худуд аль-Алам 311, карта стр. 307.
[Закрыть]
Лингвисты ставят этих гузов в ряд с древними кимаками среднего течения Енисея или Оби, вместе с древними кипчаками, эмигрировавшими с тех пор в Южную Россию, и, также, с современными киргизами, выделяя их в особую тюркскую группу, которая отличается от других тем, что в языке этих тюркских народов произошел переход начального "й" в «дж». [328] [328]Бартольд, Кипчак, Энцикл. Ислам. 1082.
[Закрыть]
Начиная с эпохи Чингизханидов, эти гузы стали известны под именем туркменов, тюркоманов. [329] [329]См. Бартольд, Гуз, Энцикл. Ислам., III, 178 и Туркмены, там же, 943. См. Ж. Дени, Grammaire de la langue turque, 1921, p.326. Он объясняет термин туркмены, взятый гузами, использованием «усилительного» суффикса ман, который в тюркском языке означает усиление. Туркмен означает что-то вроде «чистокровный тюрк».
[Закрыть]
В XI веке гузы предстают перед нами, как и современные туркмены, группой племен, объединенных достаточно зыбкой солидарностью, когда каждая из них могла идти на войну ради собственной выгоды. Во второй четверти XI в., их отряды промышляли, одни в Южной России, а другие в Иране. Что касается Южной России, то русские летописи свидетельствуют, что они появились там к 1054 г. За ними следовала другая тюркская орда, представленная кипчаками, ответвлением кимаков среднего течения Иртыша или Оби, и эти "узы", как их называли византийцы (узои), проникли до нижнего течения Дуная, переправились через реку и захватили Балканы, где в дальнейшем они потерпели крупное поражение (1065). Другой клан гузов, – сельджуки, продвигаясь в ином направлении, совершили еще более ошеломляющий успех: они захватили Персию и Малую Азию.
Сельджук, эпонимический герой, давший названние сельджукидам, [330] [330]Традиционная орфография арабо-персидской истории дала название Сельджак, Сельджукиды. Но обычное правильное написание – Сельджук. См. Бартольд, Туркестан, 257.
[Закрыть]сын Дукака по прозвищу Тимур-алиг – «железная арка», был предводителем или высокопоставленным членом гузского племени киников. До 985 г. со своим кланом он отделился от основной группы гузских племен и устроил свою стоянку на правом берегу нижнего течения Сырдарьи, у Джэнда, неподалеку от нынешнего Перовска. По имени одного из его сыновей – Михаил, Муса, Исраил, некоторые хотели сделать заключение, что он проповедовал несторианство. Ни на чем не основанная гипотеза, так как эти библейские имена являются также мусульманскими, и, весьма правдоподобно, что будучи у границ саманидской Трансоксианы, клан сельджуков распростился с древним тюрко-монгольским шаманизмом, чтобы принять ислам.
Это было в эпоху, когда в Трансоксиане иранская династия саманидов с трудом сдерживала нападения караханидской тюркской династии с Иссык-Куля и Кашгарии. Сельджуки, применив хитрость, заняли сторону иранского принца в борьбе против родственных орд. Как отмечает Бартольд, эти гузы, только что пришедшие из степей Сары-су и Иргиза, были более варварами и язычниками, чем караханиды, исламизированные более века тому назад и испытавшие двойное влияние: саманидов – на западе, и уйгуров – на востоке.
После падения саманидов, их владения стали объектом раздела между караханидскими тюрками, ставшими хозяевами Трансоксианы, и газневидскими тюрками, ставшими властителями Хорасана.
Сельджукские тюрки, продвигавшиеся этап за этапом, наподобие современных туркменских племен, воспользовавшись всеобщей неразберихой, расположились лагерем в центре Трансоксианы, и в 885 г. разбили свои шатры на северо-востоке Бухары. [331] [331]Бартольд, Туркестан в период монгольского нашествия, 257.
[Закрыть]
В 1025 г., один из их предводителей-Арслан («Лев», в переводе с тюркского) Исраил (мусульманское имя), носивший титул ябгу, сблизился с местным караханидом-Али-тегином в борьбе против Махмуда Газневи. Махмуд взял Арслана в плен, доставил его в Газни и попытался путем жестоких репрессивных мер подчинить оставшуюся часть его племени. Но эти кочевники отвергали любое возможное влияние на них оседлого образа жизни. В конечном счете, газневиды были вынуждены оставить караханида Али-тегина повелителем Трансоксианы. После смерти последнего (1032), сельджуки, которые, казалось, были ему преданы до конца, восстали против его сына, и стали воевать для достижения своих собственных целей. Их предводители: Тогрул-бек, Дауд и Пайгу («Ябгу»), попросили у султана Махмуда Газневи передать им земли Хорасана. После отказа султана в его просьбе, Тогрул-бек отнял у него Нишапур (август 1038 года), нанес ему поражение в битве при Дан-данкане, под Мервом (23 мая 1040 г.). После этого газневиды были выдворены из Афганистана и вынуждены были отдать весь Хорасан сельджукским потомкам. [332] [332]Что касается истории сельджукидов, см. Ion al-Athir, Kamil fit Tarikh, trad. Partielle dans les Historiens orientaux des Croisades. – Houtsma, Recueil de textes relatifs a 1 istoire des Seldjoucides, Leyde, 1886-1902. – Histoire des Seldjoucides et des Ismaeliens (Tarikh-i guzida), trad. Defremery, J. A. 1848. – Houtsma, Tughril – beg, Enc. Islam, 872 et Malikshah, ibid.,225. – Barthold, Turkestan, 302 et sq.
[Закрыть]
Сельджуки, эта огузская орда без прошлого, самые отсталые из всех недавно исламизированных кочевых племен, стали неожиданно властителями восточного Ирана. Эта была неожиданная удача, которая могла бы привести к катастрофическим явлениям в развитии цивилизации, если бы во главе клана не стояло несколько умных и прозорливых руководителей, которые инстинктивно поняли превосходство арабоперсидской культуры, и, вместо того, чтобы разрушить ее, стали защитниками, чтобы постоянно иметь возможность влиять на нее. Войдя в Нишапур, Тогрулбек произнес хутбу – молитву в свою честь, объявляя этим самым, что он вошел в законные рамки мусульманских институтов. Завоевание продолжалось. К тому же, это происходило в традициях степи, где каждый из членов клана действовал во имя собственных интересов. Так действовал, полностью признавая приоритет Тогрулбека, его брат Чагрибек, кузен по отцовской линии – Кутулмиш или Кутлумиш, кузен по материнской линии – Ибрахим ибн Инал. Чагрибек, кстати, завладел Хорезмом (1042-1043). Ибрахим ибн Инал обосновался в местечке Рэи, и поддаваясь номадическому темпераменту, его отряды настолько распустились, что Тогрулбек был вынужден навести там порядок. По мере того, как Тогрулбек проникал все глубже и глубже в арабо-персидский мир, он с пользой для себя усваивал административные понятия этих древних цивилизованных стран, что способствовало тому, что предводитель отряда становился государственным руководителем, законным и абсолютным правителем, что укрепляло его авторитет среди подчиненных и родственников.
Западная Персия долгое время находилась во власти одной, чисто персидской династии Байидов (932-1055). Будучи персидской, эта династия продолжала проповедовать диссидентскую мусульманскую доктрину Персии – шиизм. Причем, они оставались хозяевами дворцов, и их положение напоминало положение эмир эль омаров на службе у суннитских халифов Багдада. В 1029 г. Махмуд Газневи отнял у них большую часть Ирака-Аджами. Во время сельджукского вторжения, последний из них – Хосроу Фируз ар-Рахим (1048-1055), имея титул эмир эль омара, еще владел Багдадом, арабской частью Ирака, Ширазом и Фарсом, в то время, как во владении одного из его братьев находился Кирман. Любопытно отметить, что этот последний персидский принц XI в., накануне тюркского завоевания, носил одновременно имена двух наиболее видных правителей сасанидской Персии.
Тогрулбеку понадобилось некоторое время для завоевания аджамийской части Ирака, так как, несмотря на анархию, которая свирепствовала в стране, его отряды огузских кочевников не могли с легкостью захватывать города. Исфаган был взят только через год, и то, в связи с голодом (1051). Тогрулбек, которому понравилась оседлая жизнь, сделал из него столицу. В этих странах, где отсутствовал политический порядок, феодалы были раздроблены, царило брожение умов. Тюрки, какими бы примитивными они не были, вводили основы порядка, которому, без сомнения, все следовали без особых сожалений. В 1054 г. Тогрулбек принял высокопоставленных сановников Азербайджана (Таурис, Гянджа и др.), нанесших ему визит вежливости. Сам абассидский халиф Эль Каим, и начальник гвардии последнего, – Бесасири, пригласили его в Багдад, так как у них было намерение освободиться от опеки Байидов. Тогрулбек, используя возникшие у тех разногласия, вошел в Багдад и сместил с трона последнего байида – Хосроу Фируза (1055).
В 1058 г. халиф одобрил признание Тогрулбека его временным наместником с титулом правителя Востока и Запада. И в это время, когда он достиг неслыханного величия, Тогрул столкнулся с восстанием своего кузена Ибрахима ибн-Инала, который вступил в союз с Бесасири. Тот, воспользовавшись трениями между сельджуками, вновь оккупировал Багдад, где он и объявил о низложении халифа эль Кайма, которого считал весьма лояльным по отношению к сельджукам. Сам Бесасири стал последователем шиизма (декабрь 1058). В этот сложный период Тогрулбек проявил хладнокровие и решительность. Вначале он начал борьбу против Ибрахим ибн-Инала, одержал над ним победу под Рэи, и казнил его; затем он победил и умертвил Бесасири перед Багдадом, вернув с триумфом халифа (начало 1060 г.). Таким образом, ничем не выделявшийся предводитель огузской орды сумел не только дисциплинировать свои войска, свой клан, свою династию, но также стать предводителем законного правительства и заставить признать себя официальным представителем арабского халифата. Более того, его горячо поддерживало суннитское население, то есть ортодоксальные мусульмане, видевшие в нем спасителя и воссоздателя халифата.
Тюркский султанат заменил персидский эмират как временный двойник арабского халифата, но на более длительный срок, так как тюрки, недавно принявшие ислам в отличие от "еретичных" иранцев, имели шанс стать подлинными проповедниками ислама. Не потому что они были фанатиками. Первые сельджукские султаны, потомки линии ябгу-язычников, были податливыми и открытыми этой идеологии. Они же сочли возможным, когда наступило время идти на захват западных земель, придать вид легитимности древней тюркской экспансии, под предлогом священной войны ислама.
Почти без крупных конфликтов, во всяком случае, без разнузданного насилия, удавалось тюркам осуществлять свои планы, потому что они действовали в период, когда общество обессилило, тюркская империя сменила арабскую, став на ее место, не прибегая к разрушению, влила в нее новые силы, тем самым получив свое социальное право на это, и законное обоснование.
Альп Арслан ибн Чагрибек (1063-1072), племянник и последователь Тогрулбека, со дня своего прихода к власти, положил конец анархическим традициям своей династии, которая в открытую противилась установлению законности в государстве. Альп Арслан был вынужден, таким образом, остановить деятельность кузена Кутулмиша, который был убит (1063-1064) и усмирить также своего дядю Кавурда, намеревавшегося поднять восстание в Кирмане, но которого он простил (1064). На западе он превратил в своего вассала Мир-дасидскую династию в Алеппо (1070). Его самым большим деянием в истории мусульман было то, что он победил и взял в плен 19 августа 1071 г., в битве при Малазгерде, в Армении, византийского императора Романа Диогена. [333] [333]См. Claude Cahen, La campagne de Mantzikert dapres les sources musulmanes, in Byzantion, IX, 2, 1934, 613.
[Закрыть]Это явилось историческим событием, обеспечившим на долгий период владение тюрками Анатолией. На тот период, однако, малазгердская битва способствовала завоеванию сельджуками Армении. Альп Арслан отнесся по-рыцарски к плененному византийскому монарху, и вскоре освободил его. Альп Арслан, как известно, был убит в 1072 г., когда двинулся с войсками на завоевание караханидского государства в Трансоксиане. При своем правлении, этот предводитель огузов «абсолютно неграмотный», совершил мудрый поступок, поручив руководство административными делами известному персидскому деятелю Низаму эль-Мульку.
Султан Меликшах (1072-1092), сын и преемник Альп Арслана, едва достиг возраста семнадцати лет, когда скончался его отец. Его первой военной кампанией был поход против трансоксианского караханида Шамс эль-Мулька, который воспользовался сменой монарха, чтобы захватить восточный Хорасан и завладеть Балхом. Когда Меликшах приблизился к Самарканду, караханид запросил пощады и признал себя вассалом. Меликшах допустил оплошность в духе огузских традиций, отдав Балх своему собственному брату Токашу, который выступил против него. Султан был вынужден совершить два похода против Токаша и дело закончилось тем, что султан выколол последнему глаза (1084). Дядя Меликшаха – Кавурд также восстал в Кирмане. Он объявил войну мятежнику. Кавурд был взят в плен и задушен (1078).
Подобные инциденты свидетельствуют о том, что несмотря на мудрое руководство со стороны Низама эль-Мулька, Меликшаху удавалось с трудом усмирять орду огузов, военным предводителем которых он являлся, чтобы она, эта орда, приняла форму арабоперсидского государства. Низам эль-Мульк и персидская бюрократия пытались ограничить деятельность туркменских отрядов, входивших в состав его народа, и придать им статус тюркской гвардии, мамелюков X в., который те имели при байидских халифах и эмирах; но зачастую, было весьма щекотливым делом призвать к подчинению этих неспокойных соотечественников нового султана, так же как и приучить к оседлому образу жизни этих вечных кочевников. [334] [334]Бартольд, 309.
[Закрыть]
Лишь сам султан лично проникся идеями своего министра в вопросе "урегулирования" сельджукской авантюры, перехода на оседлый образ жизни и иранизацию древней орды при создании персидской империи традиционного типа. В своей столице – Исфагане, в окружении пышного императорского двора, он с удовольствием и настойчивостью продолжал курс шахиншахов древнего Ирана.
На северо-востоке, как нам известно, Меликшах возглавил второй поход на Трансоксиану против караханида Ахмеда, племянника и преемника Шамс эль-Мулька (1089). Он взял в плен Ахмеда, но затем отослал его в Самарканд как своего вассала. А на западе, также во время правления Меликшаха, но независимо от него, его кузен, сельджукид Сулейман ибн Кутулмиш, в 1081 г. обосновался в Малой Азии, в Ницее, для нанесения вреда византийцам. Сами византийцы имели неосторожность призвать его на помощь в самый разгар гражданских войн. Это стало началом сельджукидского султаната Рума, т.е. Романии, которая существовала с 1081 по 1302 год, имея в качестве столицы Ницею (1081-1097), а затем Икониум (1097-1302). [335] [335]См. J. Laurent, Byzance et les Seldjoucides, 96-98.
[Закрыть]
В итоге, сельджукское государство, в роли оседлой державы больше не контролировало Персию. В Малой Азии, на бывшей византийской территории, захваченной с 1080 г., орудовали самостоятельные гузские отряды, под началом молодых сельджуков, каким являлся Сулейман, либо тюркских военачальников менее знатного происхождения, таких как эмиры-данишмедиты из Каппадо-кии, Сиваша и Цесарее, правивших, приблизительно с 1084 г. В этих древних цивилизованных странах, от случая к случаю, передвигались отряды, как это происходило в киргизских степях. Бартольд прекрасно выразился, резюмируя всю эту историю: «Гузы или туркмены пробороздили отчасти как вояки, действовавшие по собственной инициативе, отчасти под началом их монархов (сельджуков), все страны, расположенные от китайского Туркестана до границ Египта и Византийской империи». [336] [336]Бартольд, Гузы, Энциклопедия, Ислам. 11, 178.
[Закрыть]
Он же добавляет, что, по-видимому, сельджукские султаны, для того, чтобы освобождаться от своих "беспокойных братьев", и воспрепятствовать тому, чтобы они нанесли ущерб прекрасной иранской стране, предпочли выставить отряды вольных гузов у границ султаната в Малой Азии. Данный факт поясняет, почему собственно Персия избежала тюркизации, в то время, как Анатолия стала новым Туркестаном.
А главари отрядов бились между собой за добычу. После покорения значительной части Малой Азии, Сулейман ибн-Кутулмиш достиг Сирии (1086). Там он столкнулся с младшим братом Меликшаха – Тутушем, который с 1079 г. отхватил себе ленное владение в Дамаске. У стен города Алеппо, между ними произошло крупное сражение за овладение этим городом. Сулейман был убит, а Тутуш присоединил Алеппо к Дамаску. Он стал создавать отдельное сельджукское государство, когда его брат, султан Меликшах, в том же году появился в Сирии, вынудил Тутуша уйти в Дамаск и приступил к общему распределению ленных владений между своими военачальниками. [337] [337]Bibliographie dans Zettersteen Sulaiman, Enc. Isl., 559, et Houtsma, Tutush, ibid., 1034. Rene Grousset, Histoire des Croisades, I, XIV.
[Закрыть]
Таким образом, Меликшах провел свою жизнь, как и его предшественники, пытаясь упорядочить тюркское завоевание запада. Это завоевание было похоже на набеги небольших огузских отрядов, появлявшихся на окайлидской или фатимидской территории со стороны Сирии, вглубь греческих земель в Малой Азии, в связи со своим кочевым образом жизни, использовавшим в свою пользу разногласия либо византийского мира, либо мира арабов. Видимость единства поддерживалась в Персии лишь благодаря арабоперсидской администрации визиря Низама эль Мулька на востоке и в Сирии, а также благодаря военному искусству Меликшаха. В Малой Азии, где ни тот, ни другой особо не вмешивались, царил огузский произвол.
После того, как в 1082 г. Меликшах скончался, повсюду воцарилась анархия. Старший сын Меликшаха – Баркиарук (1093-1104) стал бороться против мятежей своих соплеменников. Его дядя – Тутуш, который в этот промежуток времени, кроме Дамаска, вновь занял Алеппо, стал оспаривать Персию, но проиграл сражение и был убит у Рэи (26 февраля 1095 г.). Оставшийся период правления Баркиарука прошел в борьбе против своих собственных братьев, с которыми он в конце концов поделил Персию. С этого времени сельджукские владения были окончательно разделены на три части: султанат Персии достался Баркаруку и его братьям; княжества Алеппо и Дамаск – сыновьям Тутуша; султанат Малой Азии-Кызыл Арслану, сыну Сулеймана.
Судьбы всех трех групп владений были очень разными. Сельджукские княжества Сирии (Алеппо и Дамаск) не задержались долго на пути арабизации; к тому же две сельджукские династии, восходящие к Тутушу, были быстро устранены собственными мамелюками, также тюркского происхождения, история которых не вписывается в это описание. [338] [338]См. Ibn al-Qalanisi, Damascus chronicle, trad. Gibb,1932. Я рассказал достаточно краткую историю о сельджукидах Алеппо (Ридван) и Дамаска (Ду-как) в I томе моей Истории Крестовых походов (Histoire des Croisades), к которой я отсылаю читателя.
[Закрыть]
И напротив, сельджукский султанат Малой Азии просуществовал полных два века и был творением, которое, странным образом, долго просуществовало, так как из него возникла историческая Турция. В Персии, несмотря на создание тюркских очагов (в Хорасане, Азербайджане, в направлении Хамадана), основную часть населения, как мы увидим, составляли иранцы. В Сирии их было не так много, чтобы они могли, за исключением Антиохии и Александретты, соперничать с арабами.
В Малой Азии, напротив, мы обнаруживаем не только политическое завоевание страны, но и активное заселение территории представителями тюркской расы. Тюркский пастух пришел на смену византийскому пахарю. Дело в том, что анатолийское плато, благодаря своему расположению, климату, растительности, является продолжением степной зоны Верхней Азии. Страбон уже упоминал о Ликаонии, нынешней Конии, как о пространстве степи. [339] [339]«Плато Ликаонии представляет собой холодную и оголенную местность, где пасется множество диких ослов, но где почти нет питьевой воды. Отсутствие воды, тем не менее, не мешает тому, что там успешно развивалось животноводство. Шерсть животных тех краев немного грубовата. Там же имеются соленые озера. В кантоне, который более плодороден, чем этот суровый район, и т.д…» (Strabon, livre XII, ch. VI, I, edition Tardieu, p.533).
[Закрыть]
Между этой местностью и кочевниками, пришедшими из киргизских степей, существовала заранее установленная гармония. Они там остались, так как оказались у себя. Нужно ли идти дальше и обвинять их, как это было принято, неосознанно оказывать содействие представителям различных культур, вернуться к эпохе пастбищ? Завоевание этих старинных провинций Каппадосии и Фригии гузами, пришедшими из пустынных просторов Приаралья, привела бы не только к тюркизации страны, но даже к ее "степиза-ции". И тогда, когда вместе с Османами, тюркское завоевание дошло до Фракии, степь проникла туда: не встречаем ли мы некоторые характерные черты с их нетронутыми землями и караванами верблюдов у ворот Андринополя? Фактически, свидетельство Страбона, которое мы сейчас цитируем, доказывает, что бассейн оз. Татты представлял уже полупустынную степь эпохи селевкидов, атталей и римлян. Что касается опустошенности Фракии, она вызвана тем, что эта территория служила вечным полем битв.
Чтобы иметь более полную картину, добавим, что подобная тюркизация Анатолии, было меньше всего делом самой сельджукской династии, а в огромной степени, местных эмиров и тюркских кланов, которые почти не подчинялись ей. С точки зрения культуры, например, сельджуки Анатолии, так же как и их персидские сородичи, имели явное желание стать иранизированными. В тот период в Западной Азии не было литературного тюркского языка, сельджукский двор Конии принял персидский язык, как официальный (каковым он оставался до 1285 г.). Сельджукская Турция XII-ХШ вв. показывает нам, таким образом, поверхностную персидскую культуру, наложенную на тюркский фон. При Кай-Хосроу и Кай-Кобаде говорили и, в особенности, писали на персидском, также как использовали латинский язык в Польше и Венгрии. Но, это, слегка искусственное наложение, не должно создавать у нас иллюзий или скрывать глубокую тюркизацию гузскими отрядами Каппадонии, Фригии и Галатии.
Что касается Ирана, то, как мы на это уже указывали, ситуация отличалась, так как иранская цивилизация и население были достаточно развитыми, чтобы страна могла существенным образом подвергнуться тюркизации. Напротив, именно тюркские завоеватели входили в орбиту иранизации. Почти сразу же это касалось династий и их соплеменников, которые были иранизированы в течении нескольких поколений. С политической точки зрения, Иран отныне находился в состоянии раздробленности, и степняки хлынули в этот край. Победа сельджуков в 1040-1055 гг. открыла кочевникам путь в эту страну. Напрасно предводители сельджуков стали разом панисламскими султанами, арабскими медиками, и персидскими шахами. Они стремились преградить этот путь, закрыть ворота, не пропустить тюрко-монгольские племена Верхней Азии, которые, следуя имеющимся прецедентам, желали, в свою очередь, повторить ту же самую авантюру. Сельджуки, ставшие персами, не смогли защитить Персию от тюрков, еще остававшихся тюрками. Несмотря на их добрые намерения, несмотря на "рейнский барьер" у берегов Амударьи, они оставались предвестниками всех хорезмийских, чигизханидских и тимуридских вторжений.
Если сельджукским султанам не удалось осуществить их конструктивные намерения, если они не смогли создать выгодную для себя основательную структуру персидского, сасанидского государства или «нео-сасанизм», который лежал в основе создания абассидской империи IX в., то причина всего этого заключалась в закоренелой семейной анархии, наследия тюркского прошлого, которое им было всегда присуще. Несмотря на личные достижения Тогрулбека или Меликшаха, они оказались неспособными усвоить, за достаточно длительный период, арабо-персидского понимания государства. Точно также, несмотря на гениальность Карла Великого (Шарлеманя), каролингская династия, в конце концов, оказалась неспособной дорости до понятия римского государства. [340] [340]Что касается личностей трех первых сельджукидов в тюркской истории, см. Бартольд, Туркестан, 305.
[Закрыть]
Брат и преемник Баркиарука, султан Мохаммед (1105-1118), столкнулся с тайным мятежом арабского халифата. Отношения между сельджукским двором Исфагана и аббасидами Багдада были достаточно близкими на официальном уровне, но неожиданно стали ухудшаться, так как халифы упорно стремились освободиться от политической опеки султанов, то, к чему они придут во второй половине XII в., по крайней мере, что касается их временного владения арабской частью Ирака. Настоящий разрыв тюркского султаната с арабским халифатом, которых Тогрулбек пытался объединить. Упадок наступил при последующих сельджукских султанах: Махмуде ибн Мохаммеде (1118-1131), Масуде (1133-1152), которые правили между гражданскими войнами. [341] [341]См. Ibn al-Athir, dans les Historiens orientaux des Croisades, 1.
[Закрыть]Эти султаны, которые обычно располагались в Хамадане, владели только аджемской частью Ирака. Другие провинции: Азербайджан, Мосул, Фарс и т.д. оказались во власти тюркской военной и наследственной феодальной знати, представители которой известны под титулом атабеков. Из этих атабеков только азербайджанским удалось выполнять роль дворцовых правителей при последних сельджуках. Это: атабек Азербайджана Ильдегиз (умер в 1172 г.), который служил при султане Арсланшахе (1161-1175), затем атабек Пехлеван (умер в 1186 году), который был сыном Ильдегиза и служил султану Тогрулу III (1175-1194). Когда Тогрул III попытался освободиться от него, то атабек Кизил Арслан, брат и преемник Пехлевана, заключил его под стражу (1190). И только после смерти Кизил Арслана (1191), Тогрул III, государь, в котором еще оставалась энергия великих сельджуков XI в., вернул, наконец, право своего владения аджемской частью Ирака. Но это запоздалое и территориально ограниченное сельджукское возрождение продлилось совсем недолго. В 1194 г. Тогрул III, как мы это увидим, потерял власть под натиском хорез-мийских тюрков, которым и было предназначено, в конце концов, стать преемниками сельджуков в империи Среднего Востока. [342] [342]Bibliographie dans Zettersteen, Kizil-Arslan, Enc. Isl.,1113.CfHoutsma, Tughril 11, ibid.,871. О завершении эпохи Сельджукидов, смотрите ниже.
[Закрыть]