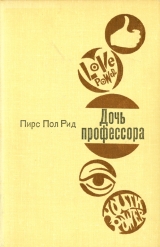
Текст книги "Дочь профессора"
Автор книги: Пирс Пол Рид
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Это просто ни на что не похоже, – сказала Лилиан Луизе. Семья сидела за ужином, гостей не было. – Джин сказала мне, что Бенни предложил тебе пойти с ним к Напьерам на барбекью [22]22
Пикник или прием на открытом воздухе, где гостям подают мясо, жаренное на вертеле.
[Закрыть] , а ты ответила, что предпочитаешь пойти одна.
– Ну и что, – сказала Луиза. – Да, предпочитаю.
Лаура рассмеялась.
– Я тоже.
– Просто не понимаю, что вы имеете против Бенни, – сказала Лилиан. – Он же нравился вам раньше.
– Он какой-то глупый, – сказала Лаура, улыбаясь безмятежной детской улыбкой, предназначавшейся всем и никому.
– Он совсем не глуп, – сказала Лилиан. – Как ты считаешь, Гарри?
– Да нет, – сказал Генри. – Не слишком.
– Только потому, – сказала Лилиан, – что он предпочитает говорить о «ред соксах» [23]23
Бейсбольная команда.
[Закрыть] , а не о Жан-Поле Сартре…
– Да не потому, мама, – сказала Луиза. – Я вообще ничего не имею против глупых людей. Просто он даже не очень… хорошо воспитан.
– Как ты можешь так говорить! – воскликнула Лилиан, – когда он – сын близкого друга твоего отца? Или, может быть, ты считаешь, – саркастически добавила она, – что Билл тоже не очень хорошо воспитан?
– О нет, Билл в порядке, – сказала Луиза. – Но только он, конечно, реакционер.
На минуту за столом воцарилось молчание.
– Он что? – переспросила Лилиан.
– Реакционер.
– Что это значит, папа? – спросила Лаура.
– Спроси Луизу, – сказал Генри улыбаясь.
Лаура обратила взгляд широко открытых глаз на сестру.
– Что это значит – реакционер?
– Это значит… Это значит, что он старомоден, – в некотором замешательстве ответила Луиза.
– Хм, – произнесла Лилиан; количество выпитого виски помешало ей найти нужные слова для продолжения диспута с дочерью.
– Разве Билл старомоден? – спросила Лаура.
– Луиза хочет сказать, что он политически старомоден, – сказал Генри.
– А это правда, папочка? – спросила Лаура.
– Я бы этого не сказал, – ответил Генри, – но, по-видимому, я тоже должен быть причислен к реакционерам.
14Ратлиджи возвратились в Кембридж после Дня труда, и новый учебный год начался, как обычно: для Генри – лекциями и семинарами, для Лилиан – зваными обедами и завтраками с приятельницами, для девочек – занятиями в школе. Но то, начало чему было положено летом, продолжало развиваться и дальше своим путем, скрытым от глаз, как неосознанное недомогание, отчего все непосредственные его проявления легко можно было приписать возрасту, иначе говоря, переходному периоду, через который любая девочка должна пройти. Если Лаура становилась молчаливее и замкнутее, то Луиза словно бы пошла в своем развитии вспять – она все меньше и меньше интересовалась мальчиками и нарядами, а ее дружба с Дэнни Глинкманом и другими скороспелыми подростками-интеллектуалами все крепла.
Живя в одном доме, родители и дети мало виделись друг с другом, и совместно проведенные каникулы в Вермонте, куда они отправились вместе с семейством Лафлинов покататься недельку на лыжах, превратились в тяжкое испытание для всех. Плохие отношения между Луизой и матерью уже стали нормой; в конце концов, сотни матерей и дочерей грызлись друг с другом. С отцом Луиза держалась настороженно, словно чувствуя, что ее дочерняя любовь отвергнута, тем более что в каком-то смысле так оно и получилось. Генри же вел себя крайне неуверенно, будто он и вправду едва не покусился на собственную дочь, и теперь холодно и отчужденно проявлял свой отцовский авторитет, как бы ограждая себя от возможности такого порыва. Благосклонно улыбаясь, он играл – и не без блеска – роль Отца и Профессора политической теории. Впрочем, ему отчасти повезло, так как реплики, подаваемые ему женой и дочерью, показывали, что они избрали себе роли из той же пьесы и ему не грозит, оказавшись в роли короля Лира, увидеть перед собой на сцене леди Уиндермиер. Так, например, когда Луиза спросила его про Вьетнам – что, как и почему? – в ее тоне сквозила скрытая враждебность, вполне в духе непокорной дочери, и это дало возможность Генри замаскировать уклончивую неполноценность своего ответа снисходительно-терпеливой миной обиженного отца, который хотя и молчит, но прекрасно понимает истинную подоплеку этих вопросов, порожденных необоснованной уверенностью в том, что логика, мол, на ее стороне.
Минул год после каникул, проведенных в Африке, настало лето 1965 года, и Генри полностью забыл жаркую ночь в Момбасе. Аромат тела Луизы, который, словно кровь Дункана на руках Макбета, долго не оставлял его в покое, растворился в прошлом, смытый не высокой волной океанского курорта и не душистой мыльной пеной его кембриджской ванны, а упорным волевым решением выкинуть эти воспоминания из головы. И он снова почувствовал себя нравственным человеком, который имеет право говорить о вкладе Америки в дело созидания свободной жизни для всего человечества и учить Луизу, что политика умиротворения диктаторов – верный путь к новым и более жестоким войнам.
Часть третья

В 1965 году за два дня до рождества Луизе исполнилось восемнадцать лет. К этому времени она уже стала совсем взрослой и на редкость красивой девушкой ярко выраженного американского типа, с таким живым выразительным лицом, что это делало ее похожей на ирландку, с такой свежей кожей, какая бывает только у англичанок, и с такими длинными ногами, что лишь примесь немецкой крови да еще капля крови с Берега Слоновой Кости могли бы дать этому объяснение. Впрочем, нос у Луизы не был типично американским, так как вместо дерзко вздернутого комочка плоти неопределенных очертаний, который у большинства американских девушек символизирует собой слияние воедино различных национальностей, у Луизы нос был тонкий, с горбинкой и четким рисунком ноздрей.
Одевалась она теперь более тщательно, однако совсем не стремилась к элегантности и не захотела приглашать гостей на свой день рождения, ибо, сказала она, ее друзья не понравятся родителям, а родители, помолчав, добавила она, не понравятся ее друзьям. В ответ на это Лилиан фыркнула, а Генри улыбнулся и примирительно заметил, что никто не обязан находить удовольствие в обществе любого и каждого, а в свободном обществе все люди, благодарение небу, весьма различны. В этот вечер он пригласил Луизу к себе в кабинет, так как скоро она должна была поступить в колледж, и ему хотелось обсудить с ней этот шаг.
Разговор взволновал Луизу, и на какое-то время она даже стала вежливой. По правде говоря, сказала Луиза, ей хотелось бы поступить в Беркли. Генри кивнул: что ж, он вполне с ней согласен, вероятно, это недурная мысль – уехать из дому, хотя Рэдклифф тоже неплохой колледж. А подумала ли она о других колледжах на Востоке? О Саре Лоуренс или о Барнарде, о Суорзморе?
– Нет, папа. Я, право, очень хочу поступить в Беркли, очень. Не из-за самого колледжа, а потому что он в Калифорнии. Мне хочется поглядеть, как там. Я же была в Европе раз пять, а вот на Запад не совала носа дальше Олбени.
– Ты будешь далеко от дома, – сказал Генри.
– Да, конечно, – сказала Луиза, – конечно. – И это снова прозвучало колко. – Но мне кажется, мы не разоримся, если позволим себе летать самолетом!
После этого Луиза месяцев восемь бредила Калифорнией. Она смотрела фильмы и фотографии пляжей и виноградников; она прочла где-то, что Калифорния – это чрево Америки, и о такой жизни, как там, восточные штаты могут только мечтать лет этак через пятнадцать, а весь остальной земной шар – не раньше, чем в следующем поколении. Кембридж ей опротивел, Восточное побережье – тоже, быть дочерью профессора Ратлиджа – тоже, так же, как и обладать всеми этими респектабельно нажитыми деньгами и европейским стилем. Ее манило солнце, свобода, и Калифорния представлялась ей землей обетованной, где она освободится от засасывающей ее здесь повседневности. Она буквально вся светилась от волнения и восторга, когда заполняла карточки для компьютера (в январе) и когда услышала о том, что принята (в мае), и когда укладывала свои чемоданы (в сентябре). Она знала, что там у нее не будет ни единой знакомой души (Дэнни был уже принят со стипендией в Гарвард), но это нисколько ее не смущало. Она хотела жить сама по себе, совершенно одна, инкогнито, быть просто никому неизвестной Луизой Ратлидж и начать все с начала.
Конечно, совсем избежать новых знакомств будет не так-то легко.
– В аэропорту тебя встретят Волларды, – сказал Генри, когда отвозил ее на машине в Логанский аэропорт. – Они подыскали тебе комнату в одном доме, где будут еще девушки.
– Отлично, – сказала Луиза, – спасибо, папа.
– Я не слишком-то хорошо знаю Волларда, – задумчиво пробормотал Генри, – но он был в Принстоне тогда же, когда и мы. Месяца два назад он опубликовал вполне сносную статью о Чили в «Форин аффеарс». Можешь сказать ему, что я обратил на нее внимание.
– Я ведь приеду домой на рождество? – спросила Луиза; на секунду ей стало тоскливо при мысли, что она впервые покидает родительский дом.
– Надеюсь, – сказал Генри. – И позвони нам, как только прилетишь.
2Сан-Франциско. Чистенькие, пастельных цветов домики, которые она увидела, когда ехала в машине из аэропорта, были так не похожи на грязновато-серые дома Бостона. Волларды – льстиво-вкрадчивые – оказались довольно заурядными людьми, и Луиза почти не слушала их и глядела в окно. Она недаром с таким радостным волнением предвкушала эту поездку – все здесь было совсем иное – ярче, веселее. Машина въехала в город, и Луиза пожирала глазами рестораны и огромные прачечные-автоматы, словно это было редкостное, экзотическое зрелище. Машина то карабкалась вверх по крутым извилистым улицам, то спускалась вниз. Луиза рассеянно слушала банальности профессора Волларда, сидевшего за баранкой, и его жены; мысли ее были полны открывавшейся перед ней новой жизнью. Наконец они выехали из города, проехали по мосту через Залив, и она увидела это седьмое чудо света – стальное кружево, повисшее над водой.
Волларды отвезли ее сначала к себе – они непременно хотели хотя бы накормить ее, если уж она никак не соглашалась переночевать у них. Луиза вспомнила, что надо позвонить родителям. Профессор Воллард испуганно заморгал, слушая, как Луиза беззаботно болтает по междугородному, но тут же напомнил себе, к какому кругу принадлежит эта девушка, и предоставил ей болтать дальше, что она и делала, поглядывая из окошка на Беркли, любуясь первыми огнями, зажигавшимися по ту сторону Залива.
– Да, все прекрасно, – говорила Луиза. – Я ужасно рада, что прилетела сюда. – Потом она начала проявлять нетерпение. Голос отца казался непрошеным вторжением в этот мир. Луиза попрощалась и повесила трубку.
После обеда профессор Воллард отвез ее в Беркли. Ее квартира была на втором этаже небольшого коттеджа, неподалеку от университетского городка. Там она познакомилась с двумя другими студентками; они держались непринужденно идружелюбно и, когда Воллард ушел, принялись наперебой расписывать прелести жизни в Калифорнии. Луиза с ходу решила про себя, что они дурочки и не нужно позволять им вертеться у нее под ногами.
На другое утро они повели ее посмотреть университетский городок, а потом прогулялись по Шэттак-стрит, и при виде пестрой уличной толпы в длинных живописных одеяниях – африканских и азиатских – с волочащимися по земле подолами к Луизе снова возвратилось ее восторженное настроение. Она не была провинциалкой, но то, что теперь проходило перед ее глазами – калейдоскоп лиц, пестрые шали и курильницы в витринах магазинов, радикальные газеты и непристойные журналы в киосках, – все было необычайно, экзотично, все далеко выходило за рамки ее жизненного опыта, ограниченного Гарвардской площадью.
А две недели спустя она встретилась с Джесоном Джонсом; он был первым в этой таинственной многоликой толпе, с кем она могла говорить, кто стал чем-то осязаемым. Она пошла с одной из девушек на вечеринку, которую устраивал преподаватель биологии. Там пили вино и виски, а кое-кто курил марихуану. Среди последних был Джесон Джонс: он сидел на полу, прислонившись спиной к стене, – так впервые увидела его Луиза. Он поглядел на нее, рассмеялся, хлопнул себя по колену и снова рассмеялся. Луиза покраснела и отвела глаза, но его внешность уже произвела на нее впечатление. У него были длинные волосы, длинные усы и очень неопрятная одежда – заскорузлые от грязи кожаные штаны и пестрая рубашка. На шее болтался ремешок с вычеканенной на бронзе эмблемой мира.
Но не его одежда и не длинные волосы разожгли любопытство Луизы (она уже встречала немало мужчин этого типа), а то, как он засмеялся, да еще – холодный взгляд, каким он ее окинул, ударяя себя по колену, взгляд этот был странен, и смеялся он так, словно ему было совсем не смешно. Она снова взглянула на него (она никого не знала здесь, и ей не с кем было поговорить), и он жестом поманил ее – сядь рядом. Она оглянулась по сторонам – наблюдает за ней кто-нибудь или нет – и опустилась возле него на пол.
– Что вас так рассмешило? – спросила она.
Он снова засмеялся.
– Ты.
– Почему же? Не понимаю.
– Ну, во-первых, то, как ты говоришь.
– А по-моему, у тебя еще более странное произношение. – Она произнесла «странное» как можно более в нос.
– А ты была когда-нибудь в Айове?
Она покачала головой.
– Не-е.
– Держу пари, что ты в первый раз на Западе.
На этот раз она утвердительно кивнула.
– Вот потому я и смеялся.
– А как ты угадал?
– Угадал! Уж больно ты аккуратненькая, прилизанная. Прямо как с витрины на Пятой авеню.
– Жаль, что я произвожу такое впечатление, – сказала она, краснея.
– Никогда ни о чем не надо жалеть, – сказал Джесон Джонс и улыбнулся. – Ну-ка, попробуй. – Он протянул ей сигарету, и она неумело затянулась, а Джесон Джонс снова рассмеялся и показал ей, как надо курить. Наркотик подействовал на нее не сразу, но к концу вечера ей вдруг стало весело и легко, она почувствовала, что голодна и ей хочется ласки. Она проболтала с Джесоном часа два; потом он куда-то исчез, и она вернулась домой одна.
На следующий день она пошла на лекции, но восторженное состояние, в котором она пребывала первые дни занятий, исчезло. Она непрестанно вспоминала Джесона Джонса – его худое лицо и поджарую фигуру, его сардонические речи бывалого парня. Она не могла примириться с мыслью, что не встретится с ним больше, и четыре дня подряд бродила по Беркли с приятным и волнующим чувством ожидания, а на пятый день, как тому и надлежало быть, чья-то рука легла ей на плечо, когда она покупала «Рампартс», и она увидела, что он стоит возле нее,
– Где ты пропадала? – спросил он.
Она улыбнулась, пожала плечами.
– Везде понемножку.
Он понимающе усмехнулся и сказал:
– Угости-ка меня кофе.
Они вышли из книжного магазина и направились в закусочную, она заказала для него кофе, а он вывернул карманы в доказательство того, что у него нет ни цента.
– Как же ты живешь? – спросила она.
– Ну перехвачу мелочишку там-сям или заставлю какую-нибудь девчонку сварганить для меня что-нибудь.
Девчонку? Она сама до смерти хотела бы быть этой девчонкой – увидеть, как он будет есть то, что она ему «сварганит».
– Мне кажется, моих кулинарных познаний хватило бы на рубленый шницель, – сказала она.
Он кивнул.
– Только я люблю, чтоб потолще, – сказал он.
– Ну что ж, – сказала она. – Так когда?
– Сегодня вечером я занят, – сказал он.
Ее настроение сразу упало.
– А завтра, пожалуй, можно. Она снова воспрянула духом.
– Ты придешь к нам?
Он поглядел на нее.
– У тебя там еще две унылые девицы, так что ли?
Луиза сама сказала ему это при первой встрече. Она смущенно пожала плечами.
– Лучше ты приходи ко мне.
Его комната на Пратт-стрит была такая же грязная и такая же диковатая, как ее хозяин. Он явно жил здесь уже давно. На стенах, затянутых красным войлоком, прибитым к штукатурке медными мебельными гвоздиками с большими шляпками, были пришпилены всевозможные плакаты и листовки – политические, психоделические, цветные и одноцветные, белые и черные. Постелью ему служил просто широкий матрац, покрытый пестрой индийской тканью. В комнате стояли стол и стул, на полу лежала грубая циновка, но не было ни гардероба, ни комода за полной их, в сущности, ненадобностью, так как все, что Джесон имел, он носил на себе. В углу на полу было сооружено нечто вроде алтаря с маленькой бронзовой статуэткой пляшущего Шивы; тут же лежала арабская трубка, и из чубука, курясь, торчал кусок ладана, разливая благовоние, заглушавшее запахи, исходящие из других источников. Впрочем, Луиза все равно бы их не заметила. Это louch [24]24
Подозрительное (франц.).
[Закрыть] романтическое жилье привело ее в состояние блаженного восторга. Оно укрепляло ее мнение об этом человеке.
Спокойно усевшись на матрац (больше тут сесть было не на что), она бросила на пол плетеную сумочку, где лежали пакеты с фаршем и нарезанным луком, а также банка с бобами.
– Как у тебя здесь здорово, Джесон, просто замечательно!
Против ожидания ее похвала почему-то не понравилась Джесону, он нахмурился.
– Жилье как жилье, – сказал он.
Луиза прикусила язык, проклиная себя за свое простодушие и восхищаясь Джесоном еще больше, оттого что он может быть так холодно безразличен к своим необыкновенным красным стенам.
– У тебя есть тарелки? – спросила она.
Он молча порылся в ящике, на котором стоял Шива, и извлек оттуда сковородку, две тарелки, две вилки и две кружки. Тарелки и вилки были сальные, со следами присохшего яичного желтка.
Луиза вынесла все это на площадку лестницы, где была небольшая раковина и газовая горелка, на которой стоял чайник. Она достала свои аккуратненькие пакетики с фаршем и приправой, распаковала, смешала все на одной из тарелок, слепила два толстых шницеля и поставила их на огонь. Потом перемыла тарелки и вилки, открыла банку с бобами и насыпала в кружки быстрорастворимый кофе. Между делом она искоса поглядывала на Джесона: он поставил на проигрыватель пластинку, вид у него был скучающий. Счастливая улыбка заиграла на ее губах, и она снова занялась стряпней.
Когда шницели были готовы, она подала их Джесону, и он съел их, не проронив при этом ни слова. По его глазам нельзя было угадать, нравится ему еда или нет, но по тому, как его зубы вгрызались в мясо, а губы захватывали бобы, было видно, что ест он с аппетитом.
– Ты это здесь раздобыла? – спросил он Луизу, кивком показав на свободную блузу, которая была на ней надета, из пестрой материи примерно такого же рисунка, как его рубашка, только в синих, а не в зеленых тонах.
– Да, – сказала Луиза.
– Недурно.
Луиза ничего не ответила, но сердце ее забилось сильнее, так как они уже покончили с едой и выпили кофе, и она знала, что должно сейчас произойти, вернее, думала, что знает. Даже Джесон, казалось, нервничал. Его рука дрожала, когда он стал вминать комочек конопляной смолы в табак, высыпанный из разорванной сигареты, и завертывать в новую бумажку. Пластинка кончилась. Луиза, не вставая, потянулась за другой пластинкой и, заметив, что Джесон не отрывает взгляда от ее ног, не переменила позы, а не спеша перевернула пластинку и под диковатые ритмы музыки легла рядом с Джесоном на матрац, и они вдвоем выкурили сигарету – всю, до последней крошки табака. А потом он наклонился и поцеловал ее, и это был хороший стопроцентный американский поцелуй, отличавшийся от тех, какими ее награждали раньше, только наличием усов, щекотавших ей нос. Но этим, как она и предполагала, Джесон не удовольствовался: он был не новичок в любовных делах – его рука скользнула ей под блузу и неторопливо прогулялась по всему телу.
3Джесон был родом из Айовы, но если его одежда и длинные космы были совершенно неприемлемы там, то в Беркли это считалось вполне в порядке вещей. Он жил в Калифорнии уже третий год и за это время ни разу не побывал дома. Его худое циничное лицо было от природы тускло-серым – кожу Джесона не брал даже калифорнийский загар, – но в каменной неподвижности этого лица крылось сознание собственного превосходства и была своеобразная притягательность.
Джесон занимался политикой. Приехав в Калифорнию, он сразу включился в Движение за свободу слова и несколько раз подвергался арестам. В первую же встречу с Луизой Джесон сказал ей, что считает себя революционером, но хотя он то и дело упоминал о каком-то своем участии в чем-то, вскоре стало очевидно, что за бесконечными разглагольствованиями у него не остается времени для действий.
Луиза в общих чертах уже разбиралась в политике: она говорила с отцом о Вьетнаме и с Дэнни – о Марксе. Но с Джесоном ее политические воззрения и идеалы переставали быть просто воззрениями и идеалами – в них проникал жар ее любви. И душа ее предавалась идее бунта так же безраздельно, как ее тело – ласкам Джесона; но, в сущности, все это сплеталось воедино, и порой она упоенно мечтала изменить мир и Америку, и ей казалось, что она с радостью отдала бы за это жизнь.
К несчастью, страстное стремление Луизы к социальной справедливости уже не могло возродить в Джесоне его прежнего боевого духа – приверженность Джесона делу революции шла на убыль. Примерно через месяц после начала их связи – месяц яростных приступов чувственности, все сильней и все безоглядней опьянявших Луизу, – Джесон вдруг сказал ей, чтобы она заткнулась со своим дерьмовым Вьетнамом. Сказано это было, правда, в минуту упадка духа после недавней близости, и грубость языка не удивила и не задела Луизу, так как Джесон без сквернословия вообще разговаривать не умел.
– Прости, пожалуйста, – сказала она. – Больше не буду.
– Нет, почему же, – сказал Джесон, разлегшись на матрасе. – Сказала, так говори. Это твое дело, только запомни, что я через все это уже прошел.
– И к чему пришел? – спросила она пытливо.
– К себе самому, – сказал Джесон. – Нельзя познать самого себя, пока все это не пройдено: марихуана, расовый вопрос, политика и все прочее. Мне это почти удалось, но ведь я уже давно варюсь в этом соку. Сразу это не делается. Понимаешь, я был вроде тебя, когда приехал сюда, – неистовствовал против войны и всякое такое. Ну, а потом… примерно в те дни, когда мы с тобой встретились, я начал понимать, что все это не мое настоящее «я».
– Но… Но разве ты не против войны?
– Конечно, – сказал он. – Конечно, против. Я не хочу, чтобы меня призвали в армию, и поэтому я против войны. Я хочу говорить, что хочу, и поэтому я за свободу слова. Но стоит тебе связаться со всем этим, я хочу сказать – начать отдаваться этому, – как оно уже завладевает тобой, как и всякое другое, и уже заставляет быть не тем, что ты есть.
Он лежал на спине, заложив руки за голову. Луиза, в джинсах и тенниске – все еще не освободившаяся от своей застенчивости настолько, чтобы лежать, как он, голой, – наклонилась над ним, положив локти ему на грудь.
Джесон Джонс продолжал свой монолог.
– Я хочу быть самим собой, только и всего. Пока я еще даже не знаю, кто я в сущности такой. Может, никогда и не узнаю. Но я знаю кое-кого, кто не я. Тот Джесон Джонс, каким представляет его себе мой отец, – это не я. И тот, каким видит его моя мать, – тоже не я. Линдонджонсоновский Джесон Джонс, и гуверовский, и генерала Херши, и Бобби Кеннеди, все эти Джесоны Джонсы – не я.
– Ты мой Джесон Джонс, – улыбаясь, сказала Луиза.
– Я не твой Джесон Джонс, – сказал он без улыбки. – Я намерен быть сам по себе. Ты понимаешь, что это значит? Сам по себе?
– Ну… – начала Луиза.
– Ты не знаешь, – сказал Джесон. – Разумеется, ты не знаешь. Ты женщина, а женщине надо прилепиться к кому-то. Больше ей ничего не нужно – прилепиться к тебе, чтоб ты с ней спал и был добрым папочкой и гражданином… Вся эта муть.
– Тогда почему же, – почти упоенно, с улыбкой спросила Луиза, – почему же ты не вышвырнешь меня отсюда?
– Вышвырну, не беспокойся, – сказал он. – Но в тебе есть кое-что нужное для меня сейчас. Все то, что в тебе от восточных штатов… Я должен все это переработать… в себе. Ты… не знаю, как это объяснить… твой голос… все эти гарвардские штучки – из-за всего этого я все время чувствую себя как-то не так. Да еще из-за того, что у твоего отца куча денег. Вот все это, вместе взятое. – Он приподнялся и сел. – Понимаешь, – сказал он, – я иной раз держу твои груди, – он просунул руку к ней под тенниску, – и думаю: сколько они потянут, если считать на золото? Представляешь? Ей-богу, правда, Я ощущаю их тяжесть и подсчитываю… если стоимость золота три доллара шестьдесят семь центов за унцию…
– Ты просто животное, – сказала Луиза, поудобнее устраиваясь на матраце, подложив под щеку нестираную рубашку Джесона.
– Мне никогда еще не приходилось иметь дело с девушками такого сорта, как ты, – сказал Джесон. – Знал, конечно, что есть такие. Был как-то раз в Нью-Йорке, прошелся по Мэдисон и Парк-авеню и видел по-настоящему шикарных девчонок, но в тебе есть что-то не совсем городское… что-то от всех этих роскошных особняков вверх по Гудзону.
– Там живут мои дед с бабкой, – сказала Луиза.
– Ну, правильно. Я так и думал. Что-то в этом роде есть и здесь у нас, в округе Кент, но все-таки это не совсем то. Здесь все современнее.
– Дэниел Ратлидж подписывал Декларацию Независимости, – сказала Луиза.
– Вот это самое я и имел в виду. У вас за плечами история, а я с такими вещами не соприкасался. У нас в Айове ни у кого нет никакой истории за плечами. Там людей расценивают на кукурузу. Причем, учти, мои родители – не фермеры, у отца в Рок-Репидсе свое предприятие – эти, черт их побери, тракторы… Но он хоть сто лет гони свои колеса – все равно это не история, а все та же кукуруза, только другого рода.
– Ну, а какое это имеет значение? – сказала Луиза.
– Никакого, черт побери, никакого. Не воображай, что я этого не понимаю, я прекрасно понимаю. Но я должен
хорошенько все переварить… весь этот ваш восточный снобизм. Вот так, как ты перевариваешь сейчас наш Запад.
– Мне кажется, мы можем помочь в этом друг другу, – сказала Луиза мягко.
– Нет, – зло сказал Джесон и посмотрел на нее злыми глазами. – Я не хочу, чтобы ты мне помогала. Именно этого-то я и не хочу. Как раз это я должен сделать сам, потому что, если кто-нибудь примется мне помогать, я уже стану его частицей.
Луиза пожала плечами.
– Ну хорошо, хорошо.
– Люди всегда стараются возвыситься в собственных глазах за счет других людей, делая вид, что они им помогают, – сказал Джесон. По телу его пробежала дрожь, и Луиза села.
– Хочешь кофе? – спросила она.
– Хочу – сказал он. – Приготовь.
Луиза грациозно поднялась с матраца. Она вышла на площадку, поставила чайник на горелку и стала ждать, пока вода закипит, радостно ощушая свое голое тело под тонкой одеждой.








