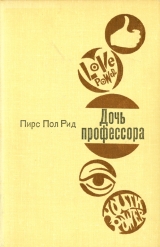
Текст книги "Дочь профессора"
Автор книги: Пирс Пол Рид
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Проснувшись утром, Луиза несколько мгновений бессознательно отгоняла от себя возвращение к реальности, пока вдруг пробуждение не стало полным, и она затаила дыхание, почувствовав рядом с собой чье-то спящее тело. Она выскользнула из постели и остановилась возле нее, нагая, спрашивая себя, где же Джесон; ей хотелось броситься к нему, но ее удерживало казавшееся ей самой нелепым чувство вины. Она достала ночную рубашку, натянула ее на себя и пошла к плите. Она сварила кофе, стоя у плиты, глядя на газовое пламя, лижущее алюминиевое донышко кофейника, и ожидая, когда вода закипит и начнет плескаться о маленькое прозрачное окошечко в крышке. И лишь после того, как кофе был готов, она собралась с духом и прошла за перегородку из чемоданов и пустой тары, как бы для того, чтобы предложить своему мужу чашку кофе. Джесона за перегородкой не было.
Она торопливо вернулась к Нэду, который еще только пробуждался от сна.
– Он ушел, – сказала она.
– Не обращай внимания, – сказал Нэд. – Вернется.
Они сели за кухонный стол и стали пить кофе, а в девять часов появился Джесон.
– Просто вышел пройтись, – сказал он, пожав плечами. Вид у него был усталый и понурый, но спросить его, как долго он бродил по улицам, Луиза не решилась. Они сидели втроем и пили кофе. От прежней непринужденной близости между Нэдом и Джесоном не осталось и следа. Никто ни словом не обмолвился о минувшей ночи, никто не пытался подвергнуть обсуждению создавшиеся теперь новые взаимоотношения. Луиза время от времени поглядывала на Джесона в надежде, что он начнет разговор, но лицо его было непроницаемо.
Днем они втроем сходили в кино, Луиза приготовила на ужин тушеное мясо с овощами и соусом, а потом снова легла в постель к Нэду, так, словно это уже разумелось само собой. У Джесона за перегородкой погас свет, а Нэд взял с полки книгу «Кама Сутра» [25]25
Кама – в древнеиндийской мифологии бог любви. Сутры – руководства по всем областям жизни, составлявшиеся брахманами.
[Закрыть] .
– Я хочу, чтобы ты прочла это, – негромко, настойчиво сказал он Луизе. – Это индийская книга, нечто вроде наставления об искусстве любви, только написана она была пятнадцать столетий назад.
Луиза взяла у него книгу, и она привычно раскрылась на середине.
– Это именно то, что необходимо нам, людям западной цивилизации, – сказал Нэд. – Необходимо как противоядие против внутреннего закрепощения, от которого мы все страдаем после двухтысячелетнего владычества христианства. Я полагаю… я полагаю, что если мы освоим некоторые из ритуальных поз, это поможет тебе познать самое себя и облегчит тебе жизнь там, в новой Англии, среди твоих снобов.
Он говорил очень серьезно. Луиза поглядела на его грузное тело, на обвислый, поросший черными волосами живот, выглядывавший из незастегнутой пижамы. Он склонился над ней и взял книгу у нее из рук.
– Люди, – сказал он, – с сексуальной точки зрения делятся на несколько типов. Ты, насколько я понимаю, принадлежишь к типу кобыл, а я – к типу жеребцов, следовательно, мы с тобой представляем то, что называется гармоничным сочетанием…
Он лег рядом с ней. Луиза невольно отодвинулась к краю постели, но он нетерпеливо привлек ее к себе. Так началось ее обучение древнеиндийскому искусству любви.
13На другое утро Джесона снова не оказалось дома, и на этот раз он не вернулся и к ночи. Нэд и Луиза ни словом не обмолвились по поводу его отсутствия, но «Кама Сутра» была поставлена обратно на полку, после чего они уснули.
Прошло три дня, а Джесон все не возвращался. Как-то после полудня Луиза осталась совсем одна на чердаке. Смятение охватило ее. Некоторое время она в растерянности не знала, что предпринять, но часов около пяти села в свой «фольксваген» и поехала в Беркли. Их домик был пуст, Джесон там не появлялся. Луиза поехала к университетскому городку, оставила машину и принялась бродить по улицам, заглядывая в кафе и закусочные в надежде найти своего мужа. И она его нашла. Он прошел мимо нее по улице. Он увидел ее – увидел, посмотрел на нее и прошел мимо. Луиза остановилась, обернулась, глядя ему вслед, но не окликнула его и не пошла за ним.
Когда Нэд поднялся вечером к себе на чердак, Луиза была там.
– Мне придется избавиться от этого ребенка, – сказала она. – Понимаешь, я…
Нэд положил свою широкую лапищу на ее маленький твердый живот.
– Ну что ж, это можно будет устроить.
– Ты сумеешь?
– Деньги нужны… больше ничего.
– Деньги у меня есть.
– Тогда едем в Мехико, – сказал он. – Это проще простого.
Они поехали к югу Калифорнии, обогнули Лос-Анджелес и двинулись в сторону Аризоны. Было жарко. Уже наступил июль, Они останавливались в мотелях и обливались потом, стремясь постичь древнеиндийское искусство любви. Когда они пересекли мексиканскую границу, обучение уже продвинулось далеко. Проехав еще сто миль к югу, они добрались до небольшого поселка за Магдаленой. Там, в окружении крестьянских хибарок, стояла хорошо оборудованная, чистенькая клиника. Луизу принял очень вежливый доктор в белоснежном халате, изъяснявшийся на безукоризненном английском языке; он провел ее сначала в контору, где она уплатила тысячу долларов наличными деньгами, а затем – в отдельную палату, и там ее переодели в больничную одежду.
Два дня, которые она провела в клинике – дело было поставлено там образцово, – Нэд жил в поселке, раздобывая где только мог марихуану. Когда все было кончено, он забрал Луизу из клиники, угостил марихуаной и повез ее обратно в Соединенные Штаты. Они переночевали в Туксоне, и там Нэд спросил Луизу, куда она намерена теперь отправиться.
– Куда? Я… я еще об этом не думала.
– Если в восточные штаты, то подбрось меня до аэропорта.
– Нет, – сказала Луиза, – нет, почему? Я хочу поехать с тобой… если ты не против.
– Разумеется, я не против, – сказал Нэд. – Ты еще многому можешь научиться со мной. Посмотришь, как ты расцветешь, детка.
По мере того как шло лето, Луиза все больше и больше «расцветала» – в том смысле, какое он вкладывал в это слово: ее скромность и застенчивость – главные недостатки в его глазах – были вытравлены из нее, выжаты, как сок из плода, и к концу лета она стала такой же сексуально одержимой, как и ее учитель. Она играла в секс и упоенно говорила о нем. В любой компании она откровенно и грубо пожирала глазами соучастника своих любовных утех; она усвоила его бредовый, непристойный жаргон и свободно рассуждала на сексуальные темы.
Но за летом приходит осень, а для Луизы ее приход оказался символическим. Как-то к вечеру, вернувшись к себе на чердак, Луиза увидела Нэда в постели с другой девушкой. Рядом валялась раскрытая «Кама Сутра». Потом они все втроем свободно и просто объяснились между собой и единодушно согласились с тем, что отношения Нэда и Луизы пришли к концу, и потому ей, пожалуй, лучше убраться восвояси. Срок аренды коттеджа в Беркли истекал. Джесон исчез. И вот, ровно через год после того, как Луиза, покинув родительский кров, уехала в Калифорнию, она снова возвращалась домой на Восточное побережье.
14В течение всего лета Генри и Лилиан почти не имели вестей от Луизы и были, естественно, ошеломлены, когда она без всякого предупреждения вернулась в Кембридж. Она сообщила им, не пытаясь ничего объяснять, что разошлась с Джесоном и бросила колледж. У растерянных родителей не хватило духу расспрашивать, как и почему все это произошло.
– Что же ты теперь намерена делать? – задал Генри единственный подвернувшийся ему на язык вопрос.
– Поищу себе какую-нибудь работу в Бостоне, – сказала Луиза. – А на будущий год, может быть, снова поступлю в колледж.
– Ну что ж, – сказал Генри, – это твой дом. Можешь жить здесь, сколько тебе захочется.
– Спасибо, – сказала Луиза, – но я, пожалуй, сниму комнату.
– Если хочешь, я помогу тебе найти работу… – начал было Генри.
– Нет, – отрезала Луиза. – Нет, благодарю. Я хочу сделать это сама.
Не пожелав обратиться к родителям за советом, Луиза тем не менее позволила себе снизойти до использования полученной от них информации. Она сняла квартиру в Бостоне, после чего позвонила матери и спросила, как быть с разводом.
– В Массачусетсе это нелегко, – сказала Лилиан. – Тебе бы следовало задержаться для этого в Неваде.
– Да, – сказала Луиза. – Впрочем, я ведь могу вернуться туда. Прежде чем поступлю на работу.
А два дня спустя она получила письмо от поверенного своего отца о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить развод в штате Невада или в Айдахо. Для этого требовалось только одно: она должна была прожить в одном из этих штатов не менее трех недель. К тому времени Луиза уже начала по собственному почину посещать два раза в неделю доктора Фишера, психиатра, проживавшего в Кембридже. При их встречах говорила преимущественно она: рассказывала о том, почему – в ее понимании – у нее не сложились отношения с Джесоном, с Лилиан, с Нэдом, а доктор Фишер слушал и почти во всем соглашался с ней…
В конце сентября она, хотя и с неохотой, поехала все же в аэропорт и села на самолет, отправлявшийся в Нью-Йорк, а оттуда в Рэно. Маршрут заканчивался в Сан-Франциско, и Луиза в испуге сжала кулаки при мысли, что она может оказаться там снова. Но, разумеется, этого не произошло, и она, как и было задумано, сошла в Рэно – одинокая, независимая, чтобы подобрать осколки своей разбитой жизни и попытаться склеить их заново. Она остановилась в скромном отеле и на другой же день подала заявление о разводе. После этого оставалось только ждать. На третий день она поехала прогуляться на озеро Тахо, побродила немного по берегу и вечером возвратилась в Рэно. К концу первой недели адвокатская контора сообщила ей, что им удалось разыскать Джесона и он против развода не возражает. Где он живет и чем занимается, не сообщалось, и она не проявила любопытства. Дни она проводила за чтением романов, а вечерами смотрела телевизор. Женщина-администратор, сидевшая за конторкой в вестибюле отеля, была настроена очень дружелюбно и всегда имела наготове нескончаемые истории о молодых женщинах, подававших на развод. Помимо нее, Луиза не общалась ни с кем.
Вечером на десятый день пребывания в отеле ее внезапно потянуло пойти в кино, потянуло с такой силой, что это ее встревожило – она почувствовала в этой тяге нечто большее, чем простую неудовлетворенность развлечениями, которые мог предоставить ей маленький экран телевизора. От пяти до шести она ходила из угла в угол по своему номеру судорожно сплетая и расплетая пальцы, пытаясь заставить себя остаться в отеле. Но тяга выйти из дому нарастала. Подышать свежим воздухом, поглядеть на театральные афиши, может быть, найдется что-нибудь интересное…
Воздух был прохладен, на улицах шумно и светло от огней реклам. Луиза остановилась перед зданием кинематографа и поглядела, не видя, на афишу, слыша только стук своего сердца. У третьего кинотеатра она взяла билет и вошла в зал. Она сидела, смотрела на экран, но не воспринимала происходящего. Потом медленно повернула голову, обвела глазами вокруг и увидела позади себя мужчину. В зале было не слишком темно и не составляло труда разглядеть внешность мужчины и его возраст, но Луиза оглядывалась на него снова и снова, словно желая в чем-то удостовериться, и мужчина, как бы идя ей навстречу, встал и пересел на пустое место рядом с ней. Луиза не глядела на него, но когда его рука легла на ее колено, она сжала ее и прикрыла юбкой.
Через несколько минут они оба вышли из кино. Она привела его к себе в отель, ни разу за всю дорогу не взглянув на него, поднялась с ним в свой номер и прильнула к нему, со стоном, с мольбой, и была как в беспамятстве, пока он не овладел ею.
Утихнув, она открыла глаза. Увидела его темное лицо, услышала, как он перевел дыхание и что-то пробормотал. Она не могла пошевельнуться, придавленная его тяжестью, но отвернула голову, боясь, что ее стошнит.
Тошнота прошла и она сказала:
– Пожалуйста, уходите.
Он встал, тихонько что-то напевая.
– Как вам будет угодно, мадам, – сказал он и ушел.
В тягостные дни ожидания, когда она наконец станет свободной от Джесона, ей доставляла облегчение мысль о том, что скоро все это останется позади. Освободившись от Джесона, она освободится от всего, что было связано с этим периодом ее жизни, и снова приобретет свое прежнее, не замутненное «я».
Вот почему, когда пять дней спустя на нее снова нахлынуло то, что она сама определяла как «приказ найти самца», – эта потребность растоптать себя, загрязнить, дать насытить любому, когда тело ее снова сотрясла буря, она не стала ей противиться. Она знала: еще неделя, и с этим будет покончено раз и навсегда.
15В самолете, возвращаясь в Бостон, она чувствовала себя безмятежно счастливой и на другой день, в воскресенье, поехала на Брэттл-стрит пообедать с родителями. Она все еще держалась несколько отчужденно с Генри и Лилиан, но уже много мягче, чем год назад. После обеда она беседовала с Лаурой и с высоты своего авторитета многоопытной старшей сестры старалась предостеречь ее от увлечения наркотиками.
Вечером она вернулась в свою квартиру в Бостоне и в понедельник поехала к доктору Фишеру. Теперь, после развода, она чувствует себя гораздо лучше, сказала Луиза, она очень довольна, что живет самостоятельно, одна, и ей остается только найти себе работу, и все будет превосходно.
Во вторник под вечер ей нечем было заняться, и она поставила пластинку и уселась с книгой. Но тело ее не долго пребывало в покое: вскоре она почувствовала, что в ней нарастает то, что, как она думала, никогда больше не воскреснет. Она пыталась читать, пыталась слушать музыку, но глаза ее были слепы и уши глухи, ибо все чувства подавлял вскипавший в ней снова шквал, втягивая ее, обессиленную, в свой водоворот.
Она встала. Походила из угла в угол по комнате. Стиснула руки, словно пытаясь пригвоздить себя к месту, но не смогла. Тогда она вышла из квартиры и принялась бродить по улицам Бостона, пока не увидела мужчину, который, как подсказывал ей инстинкт, мог дать ей то, что ей было нужно, и пошла за ним следом.
Часть четвертая

Семеро студентов занимались в семинаре по политической теории, руководимом профессором Ратлиджем. Все они были третьекурсниками, за исключением Дэнни Глинкмана, который учился на втором курсе, и католического священника Элана Грея, члена иезуитского ордена, который работал над диссертацией.
Эти семеро были выбраны из ста гарвардских и рэдклиффских студентов, подававших заявление о приеме в семинар, как наиболее одаренные и эрудированные в этой области знаний. Ни по способностям, ни по возрасту их, разумеется, никак нельзя было поставить на одну доску. Пожалуй, самым одаренным из них был Дэнни, только его мозг был подобен мотору, работающему с большой нагрузкой, но вхолостую. Элан, священник, имел за плечами лишние десять лет жизненного опыта, научившие его соизмерять взлеты интеллекта с реальностью, а Джулиус Тейт, американец мексиканского происхождения, несмотря на неполных двадцать два года, в подходе к решению проблем проявлял здравый смысл, ничуть не уступая в этом священнику.
Внешний облик Джулиуса Тейта лишь усиливал впечатление, производимое его интеллектом. Он был высок, строен, у него были сильные, красивые руки и правильные черты лица, несколько романтического склада. Всего этого в сочетании с темными волосами, смуглой кожей, меланхолической улыбкой и ярким блеском глаз было достаточно, чтобы вывести из равновесия двух студенток семинара – Дэбби Купер и Кейт Уильяме, – и хотя после первых трех-четырех занятий семинара им удалось кое-как совладать с собой, они с куда большим вниманием прислушивались к его редким скупым словам, нежели к сверкающему потоку темпераментного красноречия Дэнни.
Пять членов семинара – Элан, Джулиус, Дэнни и обе девушки – исповедовали радикальные взгляды. Джулиус и Дэнни оба принадлежали к Гарвардскому отделению организации «Студенты за демократическое общество». Элан поначалу пытался скрывать свои взгляды, делая вид, что он только сочувствует революционерам, но по мере того, как занятия семинара, не имевшего твердой программы, переключались с Гоббса на Маркса, а потом на Мао Цзэдуна, он от сочувствия перешел к открытому призыву к революции, чем немало удивил Генри Ратлиджа, который хотя и слышал, что бывают и такого сорта священники, но никогда ни с одним из них не сталкивался.
Впрочем, определение «радикальные взгляды» было довольно растяжимо даже в применении к этим пяти студентам, ибо американцы менее склонны, чем европейцы, наклеивать на себя какие-то ярлыки. И если уж здесь уместно употребить подобный термин, то у обеих студенток, например, взгляды эти проявлялись совершенно по-разному.
Кейт Уильямс – студентка из штата Мэн – по складу своего характера была скорее консервативна. Одевалась она очень опрятно и строго и по виду могла бы принадлежать к женскому студенческому землячеству, если бы таковое существовало в Рэдклиффе. Отец ее, подобно отцу Лилиан, был судьей и, по-видимому, либералом. И политические взгляды Кейт, по существу, сводились к тому, что она с пылом убежденной либералки готова была броситься на помощь любому обиженному, кем бы он ни был. Доведись ей родиться лет на пять раньше, она, несомненно, оказалась бы среди тех, кто отправлялся на Юг агитировать в пользу негров; теперь же, в Кембридже, она с таким же жаром вставала на защиту всех уклоняющихся от воинской повинности и всех борцов против войны.
А Дэбби Купер была прежде всего анархисткой до мозга костей и проповедовала свободу, далеко выходящую за рамки обычных политических категорий. Полнотелая, чувственная, она, ратуя за свободу, словно бы предлагала испробовать ее на себе самой. Дэбби была в равной мере против запрещения наркотиков, как и против запрещения противозачаточных средств, так как все эти запреты вместе с «Ману законами» [26]26
«Ману законы» – древнеиндийский сборник, трактующий нормы гражданского, уголовного и семейного права в соответствии с догматами брахманизма.
[Закрыть] , полицией и законами против абортов были, по ее мнению, лишь проявлением единой тоталитарной системы, которую она, Дэбби Купер, решительно отвергала.
Двое студентов, Майк Хамертон и Сэм Фаулер, не попадали в это столь неоднородное по составу левое крыло семинара. Однако это не следует понимать так, что они принадлежали к правому крылу: приверженцев фашизма или хотя бы даже консерватизма в Кембридже быть не могло, как, пожалуй, и вообще на Северо-Востоке. Майк Хамертон был родом из Чикаго и относился несколько свысока к своим сумбурным гарвардским однокашникам, но не потому, однако, что они были радикалами, а потому, что считал их несдержанными и невропатами. Он полагал, что теория политики должна быть отраслью математики; он готовил диссертацию по кафедре математики, и его заветной мечтой было работать на компьютерах. Он был непоколебимо уверен в том, что для мудрых вычислительных машин нет ничего недостижимого во всех областях человеческого духа. Изучая политическую теорию и посещая лекции по истории искусства и философии, он ставил перед собой единственную цель: создать в один прекрасный день парочку таких компьютеров, которые дадут миру лучшую политическую систему, самое высокое произведение искусства и неопровержимую философскую истину.
Худой, рябоватый, начинающий лысеть, он отнюдь не страдал от своей невзрачной внешности и ни в коей мере не терял увереннострг в себе. Он садился всегда в глубине аудитории у стены и говорил ясно и громко, выражая свои мысли с точностью, достойной любезных его сердцу компьютеров.
И наконец, там был еще Сэм Фаулер – hors categorie [27]27
Вне категорий (франц.).
[Закрыть] , по определению как левого, так и правого крыла, поскольку он был черный. Будучи единственным черным в семинаре, он достаточно остро ощущал это и держался настороженно и не слишком дружелюбно со всеми членами семинара, за исключением Джулиуса, который был метисом. Немало мыслей бродило в его голове, когда он, сидя в углу напротив Майка Хамертона, слушал, что говорили остальные, молчаливый и гордый. Эти мысли стали отчасти известны лишь тогда, когда пришла его очередь сделать на семинаре доклад о Плеханове. Он прочел его с блеском, продемонстрировав великолепный аналитический талант и умение обращаться с материалом, – прочел с жаром настоящего политического борца за идеи гуманизма, однако сильно испортил впечатление, то и дело неуместно вплетая в доклад взятую в самых различных аспектах тему бедственного положения его черных собратьев в Соединенных Штатах Америки.
Такова по крайней мере была оценка, данная Генри Ратлиджем докладу его единственного студента-негра. Однажды он попытался, очень мягко, указать Сэмми, что история человечества знает немало примеров угнетения и жертвами его были не только негры.
– Да, – сказал Сэмми горячо, – но здесь, у нас, угнетают именно их. – А потом прибавил: – И других темнокожих, – и сообщнически покосился на Джулиуса.
Джулиус пожал плечами.
– Конечно… мне кажется, профессор, вы не можете не признать, что это так.
Профессор это признал, все участники семинара с этим согласились, и таким образом тема была исчерпана.
Взаимоотношения, сложившиеся у профессора Ратлиджа со студентами его семинара, были несколько необычны, ибо он слыл либералом, а все они, хотя и по разным причинам, считали его либерализм либо соглашательством, либо лицемерием, либо утопизмом. И мало того, что Генри Ратлидж исповедовал идеи, к которым они все относились с осуждением, – этот человек в глазах всей Америки был самым известным поборником этих идей. Во всяком случае, до сих пор считался таковым. С осени 1967 года он стал более осторожен, более академичен, не столько излагал собственные политические суждения, сколько высказывался по поводу чужих. Тем не менее профессор обязан давать оценки, и эти оценки оставались прежними – они сводились к анализу пороков всех политических систем, которые не являлись демократическими в понимании Запада. Отсюда возникает вопрос: как же могло случиться, что его студенты, в большинстве своем революционно настроенные, могли вообще попасть к нему в семинар, да еще с таким вниманием прислушиваться к его мнению, что, по-видимому, должно было говорить об их уважении к нему?
Ответ на этот вопрос следовало искать в его манере себя держать, столь ненавязчиво дружелюбной, что большинство студентов – как участники семинара, так и слушатели лекций – попадались на эту удочку. Все они, к примеру сказать, ожидали, что знаменитый профессор Ратлидж, миллионер и однокашник сенатора Лафлина, будет в основном говорить сам, а их заставит слушать, но всякий раз после очередного занятия семинара выяснялось, что профессор говорил мало, предоставив высказываться Дэнни, или, преодолев застенчивость Кейт, помогал высказаться ей, оставляя свое мнение при себе.
Впрочем, этой мягкости и терпимости было бы, вероятно, недостаточно, чтобы обезоружить наиболее воинственно настроенных, но профессор обладал еще одним качеством, которое для молодежи является не меньшей приманкой, чем мед для пчел, причем надо сказать, что даже священник Элан сумел признать это качество и оценить его по достоинству. Дело в том, что мозг профессора не был наглухо закрыт для новых идей; даже для тех идей, которые шли вразрез с его личными убеждениями, в его мозгу всегда оставалась маленькая щелка. Конечно, она была очень мала: как большинство людей его возраста, он уже составил себе определенное представление о миропорядке и не собирался его разрушать. Но в то время как большинство его современников – тех, кто, по мнению Дэнни, или Дэбби, или Джулиуса Тейта, вершил ныне судьбами Америки, – игнорировали или попросту отрицали факты, противоречившие их взглядам, и упорствовали в своих заблуждениях на беду всех, чья судьба была отдана в их руки, Генри Ратлидж, идеологический вождь и теоретик этого строя, готов был признать и проанализировать факты и внимательно продумать все революционные гипотезы, не противореча, а лишь задавая вопросы, стремясь выявить самую суть.
Но вот на одном из занятий семинара эта щелка в мозгу профессора словно бы стала шире; по правде говоря, она расширилась настолько, что проникший в нее свет, казалось, ослепил его. Темой предыдущего занятия было учение Адама Смита, и профессор постарался привлечь внимание студентов не столько к политической стороне этого учения, сколько к нравственному аспекту его философии. Возникла небольшая дискуссия между профессором и Эланом Греем, делавшим доклад о «Теории нравственных чувств», после чего разговор снова вернулся к политическим и экономическим проблемам, но профессор уже не принял в нем участия – мысли его, казалось, бродили где-то далеко.
Большинство студентов приписали это тому, что семинар пришелся на следующий день после воскресенья. Расходясь по домам, они почти не упоминали об этом, и только Кейт сказала Дэбби, что профессор неважно выглядит. Но на следующем занятии семинара, посвященном Бакунину, профессор выглядел уже совсем скверно – он был бледен, рассеян и, казалось, никак не мог сосредоточиться на том, что говорили студенты. Никто из них еще не знал, что дочь профессора пыталась покончить с собой. Дэнни был знаком с семьей профессора, но уже давно не встречался с ним вне стен университета.
Мало-помалу среди слушателей семинара возникла атмосфера растерянности, и наконец Элан – плотный, коротко подстриженный, решительный – встал и спросил профессора, не считает ли он, что им сегодня лучше разойтись.
– Нет, – сказал Генри Ратлидж. И, помолчав, спросил: – Почему же?
– По-моему, вам нездоровится, профессор.
– Нет-нет, – поспешно сказал Генри. – Все в порядке.
Я вполне здоров.
Занятия возобновились, но через некоторое время профессор неожиданно прервал Джулиуса, читавшего свой доклад о Бакунине.
– А какой в этом смысл? – спросил он.
Столь необычное поведение профессора окончательно сбило их с толку: Дэбби нервно заерзала на стуле, Майк выронил карандаш, Кейт оцепенела. Вопрос профессора не был адресован Джулиусу – он был обращен ко всем – и прозвучал резко и неистово. Генри Ратлидж внезапно утратил свою очаровательную непринужденность.
– Как вас понять, профессор? – спросил Элан.
– Я спрашиваю, – сказал профессор, весь дрожа, – я спрашиваю: какой смысл изучать Бакунина или Маркса? Ничего же все равно не изменится.
Сэм Фаулер с изумлением уставился на профессора: белый человек утратил самообладание!
– Как же так, я, вы знаете, специализируюсьпо политической теории, – сказала Дэбби, внезапно испугавшись за судьбу своего диплома: а что, если семинар закроется?
Генри улыбнулся ей, и лицо его перестало подергиваться.
– Я имел в виду… – сказал он, стараясь овладеть собой и найти более или менее правдоподобное объяснение своей вспышке, – я хотел поставить под вопрос… практическое применение изучаемого нами предмета. Какое воздействие может это иметь на жизнь каждого из нас?
– Мы изучаем факты, – сказал Майк после некоторого молчания, – и составляем свое мнение о них.
– А наши мнения руководят нашими поступками, – сказал Джулиус. – Во всяком случае, должны ими руководить.
– Да, разумеется, должны, – сказал профессор, – но позвольте вам заметить, что они ими не руководят. Двадцать лет я преподаю политическую теорию, а Америка прогнивает все глубже… и не похоже, чтобы процесс этот мог приостановиться.
Студенты, едва успевшие оправиться от первого потрясения, были снова наэлектризованы – только на этот раз слова профессора не смутили их, а взбудоражили – никогда еще Генри Ратлидж не называл Америку прогнивающей страной.
– Вы еще молоды, – продолжал профессор, – но поверьте мне: молодые люди вроде вас ежегодно покидают эту аудиторию, изучив все, что требовалось изучить, – так, во всяком случае, предполагается, – но ничего не происходит. Наше общество с каждым шагом лишь глубже погрязает в трясине всяческой мерзости…
– И это говорите вы… – промолвил Дэнни, потрясенный неожиданным прозрением профессора.
– Я хочу, чтобы вы избежали ошибки, – сказал Генри Ратлидж, – но, боюсь, вам ее не избежать. Вы будете убеждать себя, что теория и практика могут существовать раздельно. Придя к такому заключению, вы запутаетесь в силках чисто академической мысли и упустите возможность реального политического воздействия.
– Но мне казалось, – заметила Кейт, – что вы в какой-то мере обладаете таким воздействием.
– Каким это образом?
– Через сенатора Лафлиыа, – проговорила она с запинкой.
Генри поглядел на нее пристально и жестко.
– Вовсе нет, – сказал он. – Когда-то я стоял в виде украшения на его триумфальной колеснице, только и всего. Но если бы в то время я пользовался каким-либо влиянием, этот человек не превратился бы в реакционера, каким он стал теперь.








