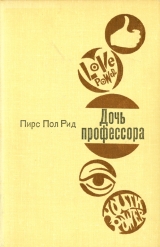
Текст книги "Дочь профессора"
Автор книги: Пирс Пол Рид
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
В день, когда ему исполнилось двадцать семь лет, Генри раньше обычного покинул свое постоянное место в публичной юридической библиотеке и вышел на Бродвей на углу Одиннадцатой авеню. Весна еще не вступила в свои права; был настоящий зимний день, Гудзон лежал в оковах льда, и над ним гулял ветер, уносясь в сторону Вест-Сайда.
Генри в ту пору был худощав и еще очень юн с виду; он не уделял слишком большого внимания своей внешности, однако, когда ему случалось приобретать что-либо из одежды, он делал это у братьев Брукс либо в каком-нибудь другом хорошем магазине. Выставив подбородок навстречу ветру, вытянув длинную шею, он стоял – высокий, худощавый – в ожидании такси. Он был без шляпы, и ветер развевал его мягкие волосы, но он, казалось, этого не замечал.
Часом позже он вошел в квартиру своей тетушки, проживавшей па Парк-авеню, и минуту спустя был представлен Лилиан.
– Чем вы занимаетесь? – спросил он ее.
– Кончаю в этом году колледж Сары Лоуренс. – Она улыбнулась, иронически опустив уголки рта.
– Разве это так плохо?
– Да, знаете, приходится вести чересчур уж светский образ жизни.
– А вы этого не любите?
– Нет, отчего же, – сказала она, пожав плечами, – время от времени это даже приятно. Но нельзя ведь только этим и заниматься. Порой я чувствую, что жизнь нужно воспринимать более глубоко.
– Как же именно? Лилиан улыбнулась.
– Пожалуй, это слишком серьезный вопрос для разговора за коктейлем.
– Пожалуй. Но мне интересно.
– Ну что ж, – сказала она. – Мне бы хотелось понять свое место в жизни, а не просто жить вслепую, делая что-то лишь потому, что это положено делать… Как, например, встречаться с мальчиками и стараться им понравиться потому, что считается, что так положено.
Генри слушал ее, слушал ее голос – нежный и звучавший так искренне, – но мало-помалу его внимание отвлекалось от смысла слов и сосредоточилось на ее красоте и изяществе. Ей едва исполнился двадцать один год, и вся она была овеяна ароматом девичества, но главное заключалось в том, что в лице ее, как в музыкальном произведении или в скульптуре, необычайно гармонично сочетались серьезность, ум и чувство юмора. При высоком росте она была такая тоненькая, с тонкими красивыми руками и ногами, что казалась невесомой; у нее были светло-каштановые волосы до плеч и глаза довольно банального голубого цвета, но столь живо отражавшие все чувства – и ее собственные и чужие, – что выражение их менялось столь же часто, как величина ее зрачков, чувствительных к перемене освещения.
– Значит, вы не встречаетесь с мальчиками? – спросил Генри, глядя на нее с улыбкой.
Она немного смешалась.
– Нет, я не говорю, что не встречаюсь, – сказала она. – Но только, когда этого хочу. Я бы не стала встречаться просто потому, что полагается же кому-то назначать свидания.
– А вы бы согласились пойти куда-нибудь со мной, когда мы сможем отсюда удрать?
Она подняла на него глаза.
– Да, если вы не смеетесь надо мной, – сказала она.
– Немножко, – сказал он, – но в сущности нет. По правде говоря, я согласен с вами.
– Война, – сказала она, принимаясь за суп, – для вас, конечно, значила больше, чем для меня, ведь вы сражались.
– Едва ли больше, – сказал он. – Я работал в армейской разведке.
– Я просто читала о том, что там творится, смотрела хронику… А вы видели все это вблизи, вплотную. К какому же вы пришли выводу?
Она спросила это очень серьезно, и выражение ее лица заставило его быть серьезным, хотя настроение у него было самое бесшабашное и ему хотелось подразнить ее.
– Я пришел к выводу, что это не должно повториться, – сказал он.
– А как мы можем этому помешать? – спросила она. – Мне кажется, суметь не исковеркать свою собственную жизнь – не кончить самоубийством, запоем или разводом – уже само по себе довольно трудная штука. Но ведь это только основа, верно? Потому что за этим стоит еще жизнь общества, частью которого мы являемся, и наши отношения с другими странами…
– Вы хотите взять на себя слишком много – это не всегда возможно.
– Но ведь нужно попытаться хотя бы что-то сделать, разве нет?
– Безусловно.
– Но как, скажите. Вы пытаетесь?
– Ну, видите ли, я до некоторой степени занимаюсь политикой…
– Вот как! В самом деле? – Она наклонилась вперед, забыв про суп. – Вы член демократической партии, не так ли? Я уверена, что вы демократ.
– Да, я демократ.
– И каков же круг вашей деятельности?
– Посещаю собрания… время от времени… Подбираю материалы для одного моего друга, который очень серьезно занимается политикой.
– Кто он такой?
– Билл Лафлин.
– А, этот. Слышала я о нем. Он неплохо выступает.
– Почти все его речи пишу я, – улыбаясь, сказал Генри.
– Это здорово, – сказала Лилиан. – Это уже значит делать дело, значит, вы уже можете оказывать влияние, а не просто скулить где-то на задворках.
– А что делаете вы?
– В каком смысле… В общественном?
– Да.
– Ничего. В том-то и беда. Я очень прилежно занимаюсь, потому что… потому что хочу быть в курсе событий. И я всегда считала, что нужно сначала закончить образование, а потом уже браться за какое-нибудь дело. Но вот в июне я уже кончаю, однако у меня нет ни малейшего представления о том, что я после этого буду делать.
Они ели филе-миньон.
– Мне кажется, женщинам труднее, – сказал Генри. – Предполагается, что они добились равенства и всякое такое, но если говорить всерьез, то шансов быть избранными в президенты Америки у вас довольно мало.
– Вы сами это признаете. В этом вся дилемма.
– Наиболее влиятельные женщины, о которых мы знаем из истории, – сказал Генри, – были любовницами королей.
– Может быть, и я последую их примеру, – сказала Лилиан.
– Это не так легко.
– Благодарю вас, – сказала она с притворной обидой.
– Впрочем, если бы я был королем, – сказал он, – я бы отдал бразды правления в ваши руки.
– Благодарю вас, – повторила она от души.
– Но не бескорыстно… Она покраснела.
Он ел мороженое, она ела фрукты.
– Если существует какое-либо оправдание для богатства, – сказала Лилиан, – а вы и я богаты, относительно, конечно, – то оно заключается в том, что деньги дают возможность заботиться не только о собственном благополучии, но и помогать другим.
– Вполне с вами согласен.
– Уже лет сто, как богатые у нас в стране совершенно утратили чувство ответственности – вот что отвратительно. Они живут только для себя и приумножают свои богатства любой ценой.
– Право, не думаю, что в нашем поколении повторится то же самое, – сказал Генри.
Он отвез ее на такси в квартиру родителей на Шестьдесят третьей улице на Восточной стороне.
Оба были молчаливы, но не потому, что им больше нечего было сказать друг другу; что касается Генри, то чувства, которые сейчас волновали его, нелегко было облечь в слова.
– Ну что ж, – сказала она, выходя из такси, – спасибо за обед.
– Могу я вам позвонить?
– Завтра я возвращаюсь в колледж…
– Могу я позвонить вам туда?
– Позвоните, – сказала она и назвала номер, а он записал его на спичечной коробке.
Он проводил ее до парадного. Швейцар, увидав Лилиан, распахнул дверь. Лилиан обернулась к Генри, улыбнулась, и они пожелали друг другу доброй ночи, стоя в десяти шагах один от другого.
Он позвонил ей на следующий же день и предложил провести вместе вечер. Она сказала, что должна поехать в Коннектикут, и Генри почувствовал, что от него хотят отделаться.
– Как-нибудь в другой раз, – сказала Лилиан. Затем в трубке наступило молчание: Генри слышал неясный шум – какие-то люди входили и выходили там из комнаты. Ему представилось, что возле Лилиан стоят другие девушки, переговариваются и, быть может, хихикают, а у нее хмурый, раздосадованный вид.
И тут она сказала:
– А вы не хотите побывать у нас дома?
Он мгновенно возликовал, и всю его меланхолию как рукой сняло.
– С удовольствием, – сказал он.
– Хорошо, тогда приходите в воскресенье к ленчу.
4Отец Лилиан был совладельцем адвокатской конторы, в которой одно время работал Билл Лафлин.
– Вы знаете Билла? – спросил отец.
– Да, сэр, – сказал Генри. – Мы были вместе в Оксфорде целый год.
– Так-так, – сказал мистер Стерп, и лицо его приняло огорченное выражение. – Думается мне, он далеко пойдет.
– Во всяком случае, он не из тех, кто сидит сложа руки, – сказал Генри.
– А вы тоже занимаетесь политикой?
– Ну, до некоторой степени, но не думаю, чтобы я когда-нибудь мог так развернуться, как Билл.
Хозяин кивнул. На первый взгляд он казался красивым мужчиной, но его портило отсутствие в лице красок, неподвижный взгляд и замедленная речь.
– Политика – грязное занятие, – сказал он. – Я не верю, чтобы порядочный человек мог в ней преуспеть.
– Право же, папа, это какое-то капитулянтство, – сказала Лилиан с досадой.
Отец пожал плечами. Он поглядел в окно столовой куда-то вдаль.
– Возможно, – сказал он.
– Если бы порядочные интеллигентные люди не считали политику чем-то вроде провонявшей рыбы, – раздраженно продолжала Лилиан, – она, вероятно, не была бы таким грязным делом, каким ты хочешь ее изобразить.
Элфрид Стерн повернулся к дочери. Его, казалось, позабавил ее гневный тон.
– Я рад, что ты, в твоем возрасте, принимаешь это так близко к сердцу, – сказал он. – Однако поглядим, не будет ли эта рыба все так же вонять, когда ты достигнешь моего возраста.
Генри видел, что Лилиан не чувствует себя свободной со своими родителями. Ее отец казался чем-то удрученным, а мать вообще не принимала участия в разговоре. Лилиан же вела себя резко и нетерпеливо, пока они с Генри были дома, но когда после ленча они спустились к морю, она стала ровнее, мягче. Беседа их текла не так легко и непринужденно, как при первой встрече, но во время этой прогулки Генри еще острее почувствовал, как его к ней влечет. На Лилиан был теплый свитер из ирландской шерсти, и очертания ее груди и плеч под этой грубой одеждой пробуждали в нем желание обнять её, а ее тонкие белые лодыжки смущали его. Некоторое время он молча шел с ней рядом, весь поглощенный силой этих ощущений, но когда она поглядела на него и, словно прочитав его мысли, застенчиво улыбнулась, он настолько осмелел, что взял ее руку и удержал в своей.
– У вас очень славные родители, – сказал он.
– Да? Вам так кажется? – сказала она.
– Конечно. А вы разве этого не считаете?
– Считаю, – сказала она, а потом прибавила: – Они раздражают меня порой.
– Бывает…
– Они такие слабые.
Генри понял, что она хотела сказать: он и сам испытывал это чувство – презрение нетерпеливой, исполненной сил юности к утомленной жизнью старости, которая рядит свою немощь в одежды благоразумия. Впрочем, по-видимому, у него это чувство не было столь сильным, как у нее, ибо он никогда еще не прибегал к такому холодному, к такому отчуждающему слову, как «слабые», в отношении своего отца и матери. Он даже не заметил, с какой горячностью она это сказала, потому что в эту минуту весь был сосредоточен на том, что его рука сжимает ее руку. На лице его появилось размягченное выражение влюбленности, а на ее лице играла едва заметная, чуть напряженная улыбка.
Обратный поезд в Нью-Йорк остановился в Бронксвилле, где Лилиан должна была сойти.
– Мне здесь, – сказала Лилиан, но он, не выпуская ее руки, попросил ее поехать до Нью-Йорка и пообедать с ним. Лилиан не нашла в себе сил высвободить свою руку, и они доехали до Манхеттена и сошли с поезда на Центральном вокзале.
– Вы очень голодны? – спросил он.
– Нет, не особенно, – сказала она.
– Тогда мы можем зайти ко мне и приготовить сандвичи.
– Хорошо.
Она вошла в его квартиру настороженная: в ее движениях, когда она знакомилась с его жилищем, была скованность, во взгляде, который она обращала к нему, – тревога.
Квартира производила довольно унылое впечатление; обставлена она была лет десять назад, и сам Генри ничего в этой обстановке не менял. Только книги на полках, да пустая чашка из-под кофе возле кресла говорили о том, что здесь кто-то живет.
Генри снова завладел рукой Лилиан и поцеловал ее в губы. Он все время думал о том, как он это сделает, – он думал об этом уже двое суток и не переставал думать, пока они ехали в поезде, – но теперь все планы вылетели у него из головы, и он совершенно не сознавал, что делает. Не размыкая губ, они двинулись к кушетке и опустились на нее; их руки сплелись в страстной безотчетности объятия.
Он начал расстегивать ее блузку, даже сам того не замечая, но вдруг почувствовал, как ее тело, которое было таким податливым, сразу напряглось, и это заставило его опомниться.
– Простите, – пробормотал он. – Я… только если вы сами хотите.
Лилиан выпрямилась.
– Не теперь, – сказала она. – Сейчас не надо. После этого еще некоторое время он продолжал – очень деликатно – ласкать ее, а потом они разомкнули объятия, приготовили себе выпить и принялись болтать; слова лились легко, признания перемежались воспоминаниями, и, когда он отвез ее обратно домой, он уже знал о ней куда больше, чем раньше, и оба они знали – так как оба признались в этом, – что любят друг друга.
Они встретились снова на следующий же вечер и снова поднялись к нему в квартиру и стали целоваться и, целуясь, опустились на кушетку, но на этот раз в решающий момент Лилиан повела себя иначе. Скрипнув зубами, она пробормотала:
– Пусть будет… Да… Я хочу.
5В этот вечер она забеременела. Для Генри то, что между ними произошло, было лишь стихийным проявлением любви, – настолько непреднамеренным и необдуманным, что предусмотреть возможные последствия он никак не мог. Лилиан же, быть может, просто пошла на риск и теперь, узнав, что беременна, была подавлена, близка к панике.
– Ты не обязан жениться на мне, – сказала она.
– Позволь, Лилиан, ведь если мы не говорили о браке, то лишь потому, что это подразумевалось само собой.
– Да, – сказала она угрюмо, – мы так считали, знаю. Генри улыбнулся и поцеловал ее нахмуренный лоб.
– Но ты же предполагала выйти за меня замуж, разве нет?
Она поглядела на него.
– Я думала, что мы еще немного повременим, – сказала она, – а вот как получилось.
– Но ты ведь любишь меня, правда?
– Люблю. – Ее голос все еще звучал неуверенно.
– Так в чем дело?
– Мне иногда кажется, что я еще не вполне тебя знаю.
– Дорогая…
– Может быть, я просто люблю того человека, каким я тебя себе рисую.
– Что же это за человек?
– Человек, который мне кажется сильным. Генри снова улыбнулся.
– Ты увидишь, я буду сильным. Мы сейчас поженимся, потом ты закончишь колледж, мы обзаведемся своим домом, родим ребенка и заживем…
Казалось, он ее почти совсем убедил, но когда они встретились на другой день, она снова была полна сомнений.
– По-моему, я должна попытаться избавиться от него, – сказала она.
– Но почему, Лили, почему?
– Я не люблю, когда происходит что-то не входившее в мои планы.
– А полюбить меня разве входило в твои планы?
– По-видимому, нет. – Она улыбнулась, пожала плечами и задумалась, словно ища в душе какого-то иного объяснения своим сомнениям.
– Просто я не чувствую в себе особенной тяги к материнству, – сказала она.
– Это придет само собой.
– И притом было бы приятно пожить только друг для друга.
– Мы найдем кого-нибудь, кто будет присматривать за ребенком…
У Лилиан не было времени раздумывать слишком долго, и к концу недели ее решение было принято. Через месяц они поженились. Возможно, что родители как жениха, так и невесты догадывались о причине столь поспешного бракосочетания, но никто не позволил себе никаких намеков. Судья Стерн преподнес своей дочери пятьдесят тысяч долларов в качестве свадебного подарка, а Эллиот Ратлидж положил на имя сына три с половиной миллиона.
Молодая чета отправилась в свадебное путешествие и провела свой медовый месяц в Аризоне, откуда возвратилась в Нью-Йорк в новую квартиру на Ист-Сайд. Генри закончил свою докторскую диссертацию, а Лилиан закончила колледж Сары Лоуренс. Июль и август они прожили на севере штата у родителей Генри. Однажды в конце недели к ним наведался Билл Лафлин; наезжали и другие друзья. Молодожены были счастливы: Лилиан, которую очень тошнило в первые недели беременности, теперь носила ребенка легко, высокий рост помогал ей скрывать живот, и зеленые таблетки железа, которые она глотала по утрам, были единственной уступкой ее непривычному состоянию.
В октябре начался новый учебный год. Генри уехал в Колумбию читать в университете лекции о причинах первой мировой войны, а также заниматься дальнейшими изысканиями – на этот раз об Уэнделле Филлипсе [6]6
Филлппс, Уэнделл (1811–1884) – американский реформатор, прославившийся своим ораторским искусством.
[Закрыть]. Лилиан приглашала к ленчу своих приятельниц, а потом, оставшись одна в квартире, ждала возвращения супруга. Она ставила какую-нибудь пластинку, слушала музыку или читала книги, отложенные во время учения в колледже, как не входившие в программу. Почти каждый вечер они либо ездили в гости, либо принимали у себя гостей и не пропускали премьер в нью-йоркских театрах и кино. За два дня до рождества Лилиан родила девочку. Ее назвали Луизой.
Когда Билл Лафлин выставил свою кандидатуру на предварительных выборах демократической партии в Нью-Йорке, его конкурентом оказался некий профсоюзный деятель по имени Макс Розендорф, пользовавшийся поддержкой в Таммени-Холле [7]7
Таммени-Холл – организация Демократической партии в Нью-Йорке.
[Закрыть]. Сторонники Лафлина располагали достаточно крупными средствами и поддержкой группы бескорыстных приверженцев – друзей и однокашников но Гарварду, веривших в особые качества своего кандидата. Тем не менее было похоже, что солидная репутация Розендорфа соберет ему голоса, и поэтому, когда все прочие друзья Лафлина вышли с плакатами па улицу, Билл обратился за помощью к Генри Ратлиджу.
Генри не без приятного волнения отложил в сторону свой научный труд и засел в библиотеках за старые подшивки «Нью-Йорк таймс» в надежде, что Розендорф когда-либо что-либо сделал или сказал такое, что можно будет использовать против него. Однако единственное, что Генри удалось откопать, – это коротенькую заметку, датированную 1940 годом и оповещающую о том, что Розендорф был организатором забастовки на машиностроительном заводе компании Ламприер в Нью-Джерси. Для забастовки имелись, по-видимому, вполне серьезные основания; во всяком случае, в газете не содержалось намека на то, что там было что-то нечисто, но тем не менее забастовка эта произошла как раз в то время, когда Коммунистическая партия Америки прилагала все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать производству оружия для Великобритании. Заводы фирмы Ламприер сами оружия не производили, но они снабжали станками почти все военные заводы на Восточном побережье. Генри решил, что это может пригодиться, сделал выписку из газеты и передал ее Биллу Лафлину.
Выписка сработала. Америка в тот год вела войну с Кореей и боролась с коммунизмом. Может быть, Розендорф и теперь будет поддерживать забастовки такого рода, спрашивали его противники. Известно ли было Розендорфу, что организованная им забастовка льет воду на мельницу коммунистов? Может быть, он и впредь собирается действовать с ними заодно?
Поначалу Розендорф пытался игнорировать такого рода нападки со стороны Лафлина и его клики, но мало-помалу все это начало приводить в замешательство его сторонников, и ему пришлось выступить с заявленном о том, что он не коммунист, а этого было вполне достаточно, чтобы возникло предположение, что он, конечно, коммунист, и, когда дело дошло до голосования, его забаллотировали. Кандидатом от демократической партии был выдвинут Лафлин и в ноябре 1952 года избран в палату представителей.
Генри и Лилиан отправились на празднества, устроенные в честь победы на выборах, и протолкались к самой трибуне, где, опьяненный успехом, стоял Билл и рядом с ним – Джин Эндерли, девушка, на которой он впоследствии женился. Он увидел своих друзей у подножия трибуны и поманил их к себе, а когда они поднялись на трибуну, взял их обоих за руки.
Наклонившись к микрофону, он произнес:
– Я хочу представить вам Гарри и Лили Ратлиджей. Гарри собирается написать для нас несколько хороших спичей, верно, Гарри?
Генри улыбнулся. Билл поцеловал Лилиан в щеку, и все зааплодировали.
7В последующие затем годы Генри действительно писал для конгрессмена Лафлина его спичи, и своей репутацией человека умного, образованного и дальновидного Билл Лафлин во многом был обязан сентенциям, почерпнутым из писаний своего друга. Оба они превосходно дополняли один другого, ибо если Билл все больше и больше уходил с головой в повседневную политическую работу и все меньше и меньше имел свободного времени или охоты предаваться размышлениям, то Генри, наоборот, все сильнее захватывала его научная работа, а публичные выступления и риторика претили ему все больше и больше. Однако он оставался верен своим обязательствам и надеялся, что ему не грозит участь стать «профилем на серебряной монете, вечно глядящим куда-то в сторону», по выражению Уэнделла Филлипса. Поэтому, если он и чувствовал себя лучше всего в своем кабинете или в библиотеке, то для очистки совести время от времени проводил все же день-другой в совещаниях с Биллом Лафлином и его советниками и снабжал их хорошими цитатами к случаю, ссылками на исторические прецеденты и далеко идущими прогнозами.
Тем временем его собственная научная карьера развивалась столь же быстро и успешно, как политическая карьера его друга. В 1952 году, когда он перешел в Принстон, жена родила ему второго ребенка, тоже девочку. В Принстоне он завершил и опубликовал две свои работы: монографию об Уэнделле Филлипсе, озаглавленную «Теория и агитация», и книгу более широкого плана под названием «Немецкая традиция в политической мысли Америки». В эту последнюю работу он вложил немалый труд, погрузившись на пять лет в изучение сложных хитросплетений идейных взаимовлияний, каждое из которых само по себе не легко поддавалось определению; однако научная основа работы была вполне солидной, а антигегельянская установка всех устраивала, так что книга эта принесла Генри Ратлиджу не только признание как теоретику, но и широкую личную известность. О нем начали говорить как о глубоком исследователе антиамериканских идей, одном из немногих противников коммунизма, способном подорвать эту зловредную идеологию в самых ее основах. Это, конечно, означало, что его работе приписывалась тенденция, которой она в себе не содержала (ошибка, проистекавшая, возможно, от того, что его связи с конгрессменом Лафлином были слишком широко известны); заново перечитанная в 60-е годы «Немецкая традиция в политической мысли Америки» представлялась не более как тщательным анализом и сопоставлением прагматической английской философии государственной власти и догматической континентальной. Но Генри не пытался опровергать преувеличенно политически заостренную интерпретацию его работы, а его лекции и статьи помогали упрочить его репутацию, известность его росла, и в 1960 году он занял кафедру политической теории в Гарвардском университете.
К этому времени он был женат уже более десяти лет, и в жизни его, естественно, произошли кое-какие перемены. Он вступил в зрелый возраст, годы наложили своей отпечаток и на его жену; Луиза и Лаура из младенцев превратились в подростков. Супружеская пара – Генри и Лил – стала семейством Ратлиджей, состоящим из родителей, детей, мебели, утвари, одежды, а также все растущей коллекции старинных книг и картин, наряду с которыми накапливались пледы, купальные полотенца, персидские кошки… Генри не располнел, ему повезло – его пищеварительный аппарат усваивал все поглощаемые им калории без остатка. Он выглядел по-прежнему молодо, только лицо его приобрело вдумчивое и чуть ироничное выражение, хорошо гармонировавшее с его лекторской манерой – глубокомысленной и вместе с тем непринужденной, с его суховатым юмором и бостонским произношением. Его внешний облик импонировал его студентам и двум-трем молодым особам женского пола, которых он посещал проездом через Нью-Йорк.
Красивый, обаятельный, образованный, богатый, он был желанным гостем в любом университетском кругу, а Лилиан как нельзя лучше подходила к своей роли при таком блистательном супруге. Она была хороша собой и, родив двоих детей, сохранила фигуру ценой совершенно ничтожных жертв в виде картофеля, пирожных и сахара в кофе. Она была, вне всякого сомнения, безупречной женой и матерью, ее дом в Принстоне содержался в отличном порядке и через положенные промежутки времени заполнялся коллегами ее мужа и их женами. Поставить ей в упрек можно было разве лишь то, что она позволяла себе слишком хорошо одеваться, напоминая тем самым остальным представителям ученого мира, что жизнь Генри и Лилиан отнюдь не ограничена рамками университета, ибо для Ратлиджей были открыты двери и в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Другим недостатком в глазах некоторых из коллег (и в Гарварде это осудили так же, как и в Принстоне) был приобретенный Генри Ратлиджем «порш», которым он управлял сам; кое-кому казалось, что обладание этой собственностью несовместимо с антигегельянской тенденцией его magnum opus [8]8
Знаменитого сочинения (лат.).
[Закрыть].
И наконец, в Принстопе ходили слухи, что Гарри Ратлиджа видят в его «порше» с Сесиль Друммонд, женой одного преподавателя из Института повышения образования, более часто, чем того допускают приличия. Подозрительно настроенные коллеги нашли подтверждение этим слухам, заметив расстроенное выражение лица этой молодой розовощекой темноволосой англичанки после отбытия Ратлиджей в Кембридж.
Но возможна ли университетская жизнь без сплетен? И большинство мужей – во всяком случае, если за них хорошенько взяться, – не стали бы отрицать, что они просто завидуют Гарри и что Артур Друммонд – старый зануда, носу никуда не кажет из своей лаборатории, да и вообще, коли на то пошло, какой смысл быть светилом, если не дозволено немножко пошалить на своем небосводе?








