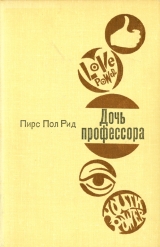
Текст книги "Дочь профессора"
Автор книги: Пирс Пол Рид
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
В ноябре 1960 года Джон Кеннеди был избран президентом Соединенных Штатов Америки, и это общественное событие явилось для семейства Ратлиджей, как и для многих других американцев, подобных им, немалой личной радостью не только потому, что они были демократами и голосовали за этого кандидата, но еще и потому, что он был одним из них – воплощением той уверенности в себе, которая была присуща им с юных лет.
Разумеется, некоторое разочарование ощущалось все же в их кругу из-за того, что президентом был избран Джон Кеннеди, а не Билл Лафлин и личным советником президента оказался Шлезингер, а не Генри Ратлидж, но сам Билл не сомневался, что рано или поздно он будет привлечен к работе в правительстве и таким образом заручится необходимым опытом, чтобы быть во всеоружии к следующим выборам.
Было в этом кое-что положительное и для Генри. Он бы не получил места, которое занял теперь в Гарварде, если бы его предшественник не был отозван в Вашингтон, и, так как было непохоже, чтобы услуги Генри могли потребоваться в столице раньше, чем через десять лет, он приобрел для своего семейства большой особняк на Брэттл-стрит в Кембридже. К тому же по духу он чувствовал себя настолько близко стоящим к кормилу власти, что практическое распределение постов уже не имело большого значения. В Джоне Кеннеди с такой полнотой воплотился идеал каждого американского либерала, а Ратлиджи причисляли себя к таковым, что они прожили эти первые сто дней и последовавшие за ними дни – поразительные волнующие дни Венского совещания на высшем уровне, и «Залива свиней», и Карибского кризиса – так, словно сами находились в Белом доме. Ошибки президента были их собственными ошибками, его борьба – их борьбой, его победа – их победой. «Да прозвучит сейчас отсюда – равно как для друзей, так и для врагов – весть о том, что священный огонь мы передаем теперь новому поколению американцев, рожденному в этом столетии, умудренному войной, закаленному суровым, нелегко доставшимся миром, гордому своими предками…» – это было сказано о них.
Не трудно поэтому представить себе, как велика была их скорбь, когда президента застрелили. Как и многие из его соотечественников, Генри долго не мог забыть обстоятельств, при которых он услышал эту весть. Возвращаясь с совещания в Балтиморе, он был проездом в Нью-Йорке и договорился пообедать с некоей Беверли, бывшей однокашницей Лилиан, ныне дамой в разводе.
– Разве вы но знаете? – сказала Беверли, когда он позвонил ей. – Убили президента.
И тогда Генри, хотя из трубки до него доносились всхлипывания Беверли, извинился, отменил под каким-то предлогом встречу, тут же позвонил Лилиан, которая, оказывается, уже все знала, и таким же мертвенным голосом, как у нее, сообщил, что вылетает следующим самолетом.
Она встречала его в Логанском аэропорту.
– Даже Лаура плакала, – сказала она.
Он взял ее руку, сжал в своей, и они поехали домой.
Вечер они провели с друзьями, в молчании, включив телевизор, не потому чтобы какое бы то ни было сообщение могло сейчас иметь значение, но просто потому, что это отвлекало, не давало впадать в отчаяние.
В одиннадцать часов вечера Билл Лафлин позвонил со своей виллы на Виргинских островах, где он случайно оказался в это время.
– Это ужасно, ужасно, – сказал он, – но прежде всего мы должны уяснить себе, к каким это приведет последствиям в политической жизни страны.
– Да, – сказал Генри. – Джонсон не удержится.
– Страна не потерпит техасца в Белом доме, – сказал Билл, – да к тому же у Бобби слишком много врагов. – Конгрессмен словно бы думал вслух, говоря по междугородному телефону. – Конечно, есть еще Хьюберт, но это будет такой разительный контраст… Черт побери, Гарри… может быть, это и есть наш шанс?
– Может быть, – почти автоматически ответил Генри.
– Послушай, Гарри, – сказал Билл Лафлин. – Не можете ли вы с Лил прилететь сюда завтра? Мы тут, понимаешь ли, застряли, потому что Джин сломала бедро. Я позвоню Бэду и Стрэттену и попрошу их тоже приехать.
– Ну что ж, попробую отменить мою лекцию, – сказал Генри. – Да, пожалуй, мы можем приехать.
– Тогда валяйте. Это во всех отношениях будет лучше – подальше от газетчиков.
Закончив разговор с Лафлином, Генри вышел из своего кабинета и направился в гостиную к Лилиан.
– Билл хочет, чтобы мы приехали в Санта-Крус, – сказал он.
– Когда?
– Завтра.
Выражавшее безграничную скорбь лицо Лилиан слегка оживилось.
– Хорошо, – сказала она. – А как же дети…
– Они могут побыть у нас, – сказала Анна Притцлер, жена профессора-испаниста, приятно взволнованная тем, что ей будет отведена эта скромная роль в историческом событии.
9Им и прежде не раз приходилось останавливаться в Санта-Крус у Лафлинов, когда они летали из Бостона в Сан-Хуан и обратно. Генри никогда не любил эти каникулы в тропиках, отчасти потому, что терпеть не мог влажной жары, отчасти же потому, что все больше и больше чувствовал себя не в своей тарелке в компании Билла, Джин и их друзей. Если прежде, при всем их несходстве, оба приятеля как бы дополняли друг друга, то теперь взаимные различия стали вступать в противоречие. Но совершенно так же, как Генри не хотел признаться ни Лилиан, ни самому себе в том, что мороз ему приятнее солнечного сияния, так он таил про себя и свое истинное мнение о Билле Лафлине – о его деловом стиле и несгибаемом упорстве. Ему все же не хотелось покидать лафлинской упряжки, ибо если он и чувствовал себя счастливее со своими книгами и студентами, то, с другой стороны, только практическое участие в политической деятельности давало ему ощущение, что он не просто кабинетный ученый, и удовлетворяло его честолюбивое желание приносить реальную пользу своей стране. Поэтому на совещании он воздержался от высказывания оппозиционных взглядов, понимая бесплодность всякого спора с Биллом и его соратниками – спора с радикальных позиций.
На этот раз на совещании, кроме него и Билла, было еще восемь человек – вся лафлинская упряжка битюгов в полном составе. Все они были более или менее основательно потрясены убийством президента и все более или менее откровенно взволнованы тем, как это событие может отразиться на их кандидате и на личной карьере каждого из них. Встретившись, они поначалу обменялись всеми приличествующими случаю выражениями скорби, но жар честолюбия вскоре возобладал над притупляющейся печалью, и в тот же вечер мужчины собрались на совещание в доме, пока их жены играли в бридж на террасе над морем. Билл, стройный, загорелый, потягивая ром и кока-колу, развивал перед ними свои соображения о вытекающих из ситуации политических перспективах, и чем больше он пил, тем радужнее рисовались ему эти перспективы.
– Если бы не наша чертова конституция, – сказал он, ухмыльнувшись собственному кощунству, – мы могли бы сейчас двинуться на штурм. Никто не хочет Линдона, никто.
– Придется нам его терпеть до будущего года, Билл, – сказал Стрэттон Джеймс, юрист.
– Придется терпеть его в Белом доме, – сказал Билл, – и на съезде тоже, но если oн полетит при первом голосовании, его не выдвинут в кандидаты вообще.
– Сторонники Кеннеди не станут голосовать за него, – сказал Бэд Бирнбаум из Нью-Йоркского отделения.
– Съезд расколется на три клана, – сказал Билл. – Линдон, Хьюберт и Бобби. На этом они застрянут и в конце концов начнут искать четвертого кандидата, и этим четвертым кандидатом как раз должен буду оказаться я…
И в таком духе еще и еще далеко за полночь. Генри говорил мало, потому что ему, в сущности, нечего было сказать. Он считал, что все решится в ближайшие месяцы и будет зависеть от того, какую линию изберет Джонсон, а до тех пор бессмысленно вынашивать какие-либо стратегические планы – можно только фантазировать и носиться со своими фантазиями. Он не сказал этого собравшимся. Он видел, что Билл упоен своей мечтой, что кровь в нем кипит и будет кипеть, пока не найдет себе выхода или не остынет мало-помалу.
Наконец они легли спать в комнатах, отведенных для гостей.
– Бедная Джин, – сказала Лилиан. – Вся нога у нее в гипсе. Ей приходится делать пипи в горшок.
На следующее утро мужчины возобновили совещание, пока их жены плавали в море или загорали на пляже. Билл опять, как и прошедшей ночью, был чрезвычайно возбужден, но без поддержки алкоголя его фантазии звучали уже менее увлекательно. Он, казалось, был раздосадован тем, что не может сразу же, без проволочки, заполучить то, о чем мечтал, и злился на самого себя за это бессмысленное нетерпение. Генри видел, что его молчание только еще больше подливает масла в огонь, но не мог придумать ничего толкового, чтобы разрядить напряженность.
– Ну, а ты что скажешь, Гарри? – раздосадованно спросил Билл, когда прозвучал гонг к ленчу.
– Поглядим, – сказал Генри, хотя ответ этот едва ли мог удовлетворить Билла.
За ленчем, как положено, последовала сиеста. Политики договорились встретиться снова вечером, решив пока что поспать или искупаться в море. Генри пошел на пляж, а Лилиан легла отдохнуть в спальне. Генри в рубашке и шортах спустился по высокой лестнице и, проходя через сад, улыбнулся Джин – она казалась такой исхудалой и хрупкой с ногой в гипсе. Он прошелся немного по пляжу вдоль самой воды, потом расстелил па песке купальную простыню и лег. Солнце не слишком припекало; Генри подумал, что вреда оно ему не принесет, растянулся на животе и, как в теплую ванну, погрузился в дремоту. Полежав с полчаса, он встал и решил искупаться, но не успел войти в воду, как наступил на консервную банку, и ржавый зазубренный край ее вонзился ему в ногу. Порез был невелик, но Генри решил продезинфицировать ранку и захромал обратно. Он прошел мимо спящей Джин, поднялся вверх по лестнице в притихшем от зноя доме, направился к спальне, отворил дверь и увидел обнаженное тело своей жены в объятиях хозяина дома.
Заметили они его появление или нет, Генри не знал; он вернулся па пляж и опустился на камень. Картина обнаженной груди и бедер Лилиан, показавшихся ему чужими, словно сейчас, с порога, он увидел их впервые, изгнала из сознания боль от пореза в ступне. Он принялся приводить себе доводы, почему не следует придавать значение тому, что произошло, губы его беззвучно шевелились, но из сдавленного горла не вырвалось ни звука. «Поступай так, как поступили с тобой», – снова и снова повторяли его губы и даже складывались в улыбку в жалких потугах на цинизм, но защитный барьер, который он пытался воздвигнуть в своем сознании, рассыпался. Воспоминания о первых безмятежно счастливых днях любви, исполненных упоительного доверия и радости, рушили эту преграду, захлестывали мозг, словно бурный поток, хлынувший на возделанную почву. Возможно ли, думал он, что для меня это… эта банальность значит больше, чем смерть президента?
«Президент, президент», – твердил он себе. И повторял снова: «Поступай так, как поступили с тобой», но слова не могли оградить его от ошеломляющей, не контролируемой рассудком тоски.
Он возвратился домой к пяти часам. Лилиан, сидя на террасе, читала книгу. Она подняла на него глаза и улыбнулась. Испуг и неуверенность, притаившиеся за этой улыбкой, сказали ему без слов: она знает, что он все видел. Он молча прошел в спальню, продезинфицировал и забинтовал порез на ступне, взял книгу и читал до обеда.
За столом велась обычная беседа, но Билл Лафлин казался смущенным; он незаметно, с искусством прожженного политика, поглядывал на своего друга, рассчитывая украдкой изучить выражение его лица, пока внимание окружающих будет приковано к жующим челюстям. Стрэттон и Бэд, так же как и их жены, явно были в замешательстве. Никто из мужчин не спросил Генри, почему он не пришел на второе совещание. Лилиан была молчалива. Генри не поднимал глаз от тарелки. Одна только Джин громко болтала, не умолкая, о разных пустяках.
На следующее утро Ратлиджи уехали. Они не сказали друг другу ни слова за все время перелета в Сан-Хуан, но когда лайнер начал набирать высоту, оставляя позади Пуэрто-Рико, Лилиан, глядя па свои стиснутые на коленях руки, попросила у Генри прощения.
– Разве в этом дело, – сказал Генри с досадливым жестом, словно отмахиваясь от чего-то не стоящего внимания. – Я хочу сказать… если ты… Ты ведь совершенно свободна… Я только одного не понимаю… почему он?
Лилиан удивленно на него поглядела.
– Почему? – повторила она, как бы в свою очередь задавая вопрос: «Неужели об этом еще нужно спрашивать?»
10Ратлиджи, как и вся Америка, мало-помалу оправились после убийства президента, поскольку все в их повседневной жизни оставалось на своих обычных местах. Третья зима, проведенная ими в Массачусетсе, мало чем отличалась от первой и второй: те же жухлые цвета осени, тот же морозный воздух, просушивший тротуары Брэттл-стрит и омертвивший еще не успевшую опасть листву растений в саду. А потом выпал снег, и после особенно сильного снегопада пришлось прилагать героические для горожан усилия, чтобы вывести автомобиль из гаража и отправить детей в школу. Генри, как истый американец, хотя и миллионер, сам расчищал от снега проезд для автомобиля и пешеходную дорожку к дому. Луиза и Лаура надели черные резиновые сапоги и яркие пестрые шарфы и отправились после школы в Чарлз-ривер поглядеть, стала ли река и можно ли кататься на санках.
Вскоре подошло рождество, напомнив еще раз о том, что Джон Кеннеди и вправду мертв. Однако оно принесло с собой и рождественские гимны, и Ратлиджи распевали их на улицах вместе с Коинами, приехавшими из Европы и любившими такого сорта развлечения. Потом Лаура ездила в Пибоди-музей со своей подружкой Сэсс и с ее матерью, миссис Оболенской, А Луиза назначала свидания, ходила в кино и ела мороженое, запивая содовой. Генри и Лилиан пять дней в неделю были на званых обедах, а после рождества Лилиан с девочками встретилась с Биллом и Джин Лафлин и мальчиками в Вермонте, где они должны были, как повелось последние пять-шесть лет, провести неделю, катаясь на лыжах, только Генри на этот раз остался в Кембридже работать над своей книгой.
Часть вторая

Как-то вечером весной 1964 года Луиза, которой минуло уже шестнадцать лет, возвращалась со своими подружками из кино. Она шагала в центре группы, остальные пятеро – по бокам и чуть позади. Девочки и младший брат одной из них с трудом, вприпрыжку, поспевали за ней, стараясь заглянуть ей в лицо. Она излагала им свое мнение о фильме, который они только что смотрели, поскольку никто из них не решался ничего сказать, пока она, Луиза, не объяснит им, что к чему. При этом она даже не глядела на своих спутников – ведь они и так ловили каждое ее слово, – но ее тонкие руки подкрепляли слова жестами, и она говорила громко, отчетливо, так чтобы они все могли ее слышать.
Луиза была выше ростом и гораздо красивее своих подруг: ее светлые волосы мягко ложились на плечи, юное лицо выражало легкую снисходительность, которая мгновенно сменилась неприкрытым презрением, как только мальчик, младший брат одной из подруг, раскрыл было рот, чтобы выразить свое мнение. Ведь ему, в конце концов, было всего двенадцать лет и к тому же он был толст и одет в клетчатые шорты, в то время как на Луизе было голубое платье с кружевным воротником и на стройных ножках белые чулки. Остальные девочки были одеты не лучше, чем мальчик. На одной были теннисные туфли и джинсы, на другой – мятая юбка и куртка на молнии и с капюшоном; платье третьей, вероятно, перешло к ней от старшей сестры. Но так тому и полагалось быть – ведь ни у кого из них не было такого отца, как у Луизы, который как-никак настоящий профессор с кафедрой, да к тому же миллионер и друг сенатора Лафлина, а тот, быть может, в недалеком будущем станет президентом Соединенных Штатов. И потому считалось в порядке вещей, что Луиза входит в автобус первой и стоит, прислонившись к алюминиевой стойке, в то время как Шерри, Фанни, Мириам и Саул качаются и подскакивают, чтобы удержать равновесие, пока автобус погромыхивает по Гарвардскому мосту.
На Гарвардской площади они вышли из автобуса, и Мириам немного отстала, чтобы отделаться от своего братца. Он все время отпускал какие-то грубые шуточки, которые казались ему забавными, однако ни разу не вызвали улыбки на губах Луизы, что приводило его сестру в страшный конфуз. К тому же он был очень толстый и уродливый, и это напоминало Мириам, что и она пухленькая и некрасивая. Впрочем, она, по-видимому, смирилась со своей полнотой, так как вошла вместе с остальными девочками в закусочную на площади и заказала себе огромную порцию молочного коктейля с земляникой.
Луиза взяла банановое мороженое с орехами и небрежно лакомилась им, восседая на высоком табурете, – впрочем, что бы и в каком количестве она ни поедала, это никак не отражалось на ее стройной фигурке. В то время как Мириам откровенно обжиралась, а две другие девочки с различной степенью жадности отправляли в рот ложку за ложкой холодную сладкую смесь, Луиза элегантно, почти совсем по-европейски полизывала мороженое кончиком языка.
– Где Саул? – спросила она Мириам.
– Домой пошел.
– Он что же, не захотел молочного коктейля?
– Нет, верно, хотел, но я… К черту, я ведь обещала ему только сводить его в кино.
– Ты должна была угостить его коктейлем. Раз уж он был с нами.
Мириам покраснела, глаза ее налились слезами. Две другие девочки, Шерри и Фанни, с еще большим уважением поглядели на Луизу. Потом Шерри – та девочка, на которой было платье с чужого плеча, – начала набирать в легкие воздух, словно это помогало ей придать себе отваги, после чего дрожащим голосом обратилась к Луизе.
– Послушай, Луиза, – сказала она, – послушай, ты поедешь в лагерь в этом году?
Щеки Луизы порозовели.
– Нет, не думаю, – сказала она.
– О, – сказала Шерри и, поникнув на табурете, испустила глубокий вздох.
– А я, наверное, поеду, – сказала Фанни, но это заявление, по-видимому, не слишком утешило Шерри.
– Я не знаю, поеду ли я, если Лу не поедет, – сказала она.
Мириам хранила молчание.
– Дело в том, – сказала Луиза, скромно опустив глаза на пустую вазочку и стараясь подобрать со дна остатки мороженого, которые никак не подцеплялись на ложку, – дело в том, что мы с папой, возможно, поедем в Европу.
– О, вот как! – сказала Фанни. Шерри только молча кивнула головой.
– Да, конечно, – сказала Мириам, – кому охота ехать в лагерь, если вместо этого можно поехать в Европу.
– Мне бы очень хотелось поехать в Европу, – сказала Шерри. – Надеюсь, когда-нибудь все-таки поеду.
– Я еду только потому, – сказала Луиза, – что папе надо быть на конференции в Париже, а мама не хочет ехать.
– Мама не хочет ехать? – переспросила Шерри. – В Париж?
– Да, не хочет. Она же была там тысячу раз, и притом ей не нравятся французы. Она говорит, что они хамят американцам.
– Ну, тогда, конечно, другое дело, – сказала Шерри, – если она уже там была… тем более тысячу раз. Вот моя мама тоже частенько ездила с папой в Нью-Йорк, а теперь уже ездит не так часто.
Луиза улыбнулась, проявляя вежливый интерес, взяла свою сумочку и соскользнула с табурета. Остальные девочки тоже взяли свои сумочки и журналы со стойки и следом за Луизой вышли на Гарвардскую площадь. Там они расстались. Три младшие девочки зашагали вниз по Маунт-Оберн-стрит, а Луиза пересекла площадь у газетного киоска и вступила на территорию Гарвардского университета.
Она ответила улыбкой на почтительную улыбку сторожа, кивнула одному из студентов отца, который крикнул ей: «Привет, Луиза!», подошла к Элиот-Билдинг и, не постучавшись, вошла в приемную. Секретарша подняла голову и улыбнулась ей.
– Он ждет вас, – сказала секретарша, и Луиза прошла прямо в кабинет профессора политической теории.
Когда она вошла, профессор встал. Ему исполнилось уже сорок четыре года, но, несмотря на разницу пола и возраста, сходство между отцом и дочерью сразу бросалось в глаза – те же черты лица, та же манера держаться. Отец тоже улыбнулся Луизе – еще одно звено в цепи улыбок, которой была оплетена ее жизнь, с той только разницей, что это звено было, без сомнения, более надежным, чем остальные; в улыбке отца не было, разумеется, той робкой почтительности, как в улыбке старика сторожа. Это была приветственная и чуть-чуть заговорщическая улыбка, и дочь ответила на нее такой же улыбкой.
Профессор, как и дочь, был высок ростом и наклонился, чтобы ее поцеловать. Прикосновение к ее нежной щеке явно доставило ему удовольствие, так же как ей – легкая шершавость его бритого подбородка.
– Ну, как тебе понравилось?
– Довольно паршиво, – сказала она. – Понимаешь, если сравнивать с книгой…
– Из хороших книг обычно получаются плохие фильмы, – сказал профессор, закрывая свой портфель из свиной кожи, – а вот из плохих книг иной раз создается что-то хорошее.
– Я предпочитаю хорошие книжки, – сказала Луиза.
Быть может, это не вполне соответствовало действительности, однако побудило отца обнять ее за плечи, когда они выходили из кабинета.
– Правильно, – сказал профессор и, после того как оба изысканно вежливо попрощались с секретаршей, продолжал: – В конечном счете от книг получаешь больше. Я могу десятки раз перечитывать «Анну Каренину», но не припомню такого фильма, который мне бы захотелось посмотреть больше двух раз.
– Романы глубже, – сказала Луиза, выходя из ворот на Гарвардскую площадь. – Не правда ли, они глубже, потому что они сразу действуют тебе на воображение и нет никаких там актеров и костюмов, которые только мешают.
– Да, я тоже так считаю, – сказал профессор, впрочем, это и было его собственное мнение, только высказанное устами дочери.
Держась за руки, они обошли площадь и свернули на Мейзн-стрит, Был теплый вечер на исходе весны, пожалуй даже слишком теплый, чтобы держаться за руки, но это уже стало традицией – так они гуляли всякий раз, когда Луиза заходила за отцом в университет, и это маленькое неудобство не могло испортить им удовольствия от прогулки.
– С кем ты ходила в кино? – спросил профессор.
– Да с Шерри, Фанни и Мириам. Ты их знаешь. Мириам пришлось взять с собой Саула.
– Кто такой этот Саул?
– Братишка, младше ее.
– Я раза два встречался с их отцом. Он производит очень приятное впечатление.
– Ну что ж, она тоже ничего. В общем, она довольно ужасна, но смешная. Иногда с ней бывает забавно.
– Чём же она так ужасна?
– Ну… она такая толстая.
– Когда-нибудь и ты станешь толстой, – сказал профессор улыбаясь и шутливо ткнул дочь пальцами в ребра.
– Вот уж никогда, – сказала Луиза, смеясь и увертываясь.
– Станешь, если без конца будешь поедать мороженое и пить молочные коктейли с содовой.
– Я? Молочные коктейли?
– Да у тебя и сейчас еще губы в молоке, – сказал профессор. – Вы, черт побери, конечно, ели мороженое, пока я тебя тут ждал.
Луиза облизнула губы.
– Я ведь сказала, что приду к шести.
Профессор поглядел на часы.
– Да, ну ладно, – сказал он. – По крайней мере на этот раз ты не так сильно опоздала, как обычно. Луиза улыбнулась отцу.
– Джентльменам как будто полагается ждать, – сказала она.
– Только не собственных дочерей.
– Мама же не толстая, – сказала Луиза.
– Она никогда не ест мороженого.
– Да, не ест, – сказала Луиза, искоса поглядывая на отца. – Но она пьет джин, в котором, во всяком случае, не меньше калорий, чем в мороженом. И ты тоже пьешь и тоже не толстеешь.
– Ну хорошо, хорошо, – сказал профессор, пропуская дочь вперед в калитку большого сада, в глубине которого, подальше от улицы, стоял их желтый деревянный особняк. – А теперь ступай и приготовь мне коктейль, раз уж ты ела сегодня мороженое.
Луиза рассмеялась, взбежала по ступенькам и скрылась за решетчатой дверью. Она швырнула свою сумочку на столик в холле и, не заметив, что промахнулась и сумочка соскользнула на пол, прошла в гостиную и направилась прямо в угол – к бутылкам и бокалам.
– Подними, – сказала мать, стоя спиной к Луизе перед рисунком Тулуз-Лотрека, на котором была изображена парижская проститутка.
– Что поднять? – спросила Луиза, – Твою сумочку.
– Она на столике,
– Ее там нет.
– Я готовлю папе коктейль.
– Подними ее.
Луиза подрыгала ногой, подавляя желание топнуть, вернулась в холл, столкнувшись в дверях с отцом, подняла сумочку и бросила ее на столик.
– Где же обещанный коктейль? – спросил Генри.
Луиза обернулась к нему, лицо ее было угрюмо и хмуро, но отец продолжал улыбаться, и ее раздражение улеглось. Она вернулась в гостиную и снова взялась за приготовление коктейля: положила кусочки льда в стеклянный кувшин, очистила лимон, отмерила мензуркой джин и затем, прищурившись, совершенно так же, как отец, прибавила «капельку вермута», как всегда, слегка переборщив.
Лилиан Ратлидж отошла от картины и поглядела на отца и дочь. Она тоже была высока, стройна, белокожа, но совсем другого типа, нежели Луиза, – мягче, женственней. Отец и дочь слегка сутулились, мать держалась очень прямо. Ей было лет тридцать семь – тридцать восемь, и она безотчетно старалась взять от жизни все в эти последние годы своего осеннего цветения.
В руке у нее был бокал с коктейлем, и она уже переоделась для вечера в блузку и юбку. Когда Генри подошел к ней, она улыбнулась, опустив уголки губ. Он хотел ее что-то спросить, но потом отвел глаза и промолчал.
– Как прошел день? – спросила Лилиан.
Генри пожал плечами.
– Как обычно.
– А у тебя? – спросила Лилиан Луизу.
– Неплохо. Ходила в кино в Бостоне.
– Что-нибудь интересное?
– Дрянь.
– Я же тебе говорила.
– Ну да, только я уже пообещала Шерри и остальным девочкам.
– Она говорит, что роман лучше, – сказал Генри.
Лилиан улыбнулась мужу. Луиза, перехватив эту улыбку, опустила глаза, нахмурилась и повернулась к отцу.
– Можно мне выпить тоника?
– Разумеется.
– Если это последняя бутылка, ступай принеси еще, – сказала Лилиан, когда дочь направилась к бару.
– А где Лаура? – спросил Генри.
– Она у Бруксов.
– Нам придется поехать за ней?
– Они обещали отвезти ее домой. Она у них и поужинает.
– Мы куда-нибудь идем сегодня?
– Нет, на этот раз нет.
– Слава тебе господи, – сказал профессор и осушил свой первый бокал джина с вермутом.








