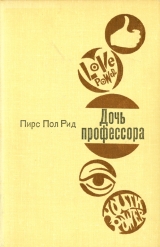
Текст книги "Дочь профессора"
Автор книги: Пирс Пол Рид
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
На другой день Генри никак не мог решить, прошло ли незамеченным для Луизы испытание, которому он подвергся ночью. Она не проявляла ни малейших признаков смущения или отчужденности, не сделала ни единого намека. Разве лишь была как-то необычно весела и забавно потешалась над убожеством отеля, когда они завтракали в огромной темной столовой, где все окна открывались в крытый двор.
А Генри был насторожен: теперь, когда усталость и внезапное своеволие плоти остались позади, совесть заняла свое привычное, подобающее ей высокое положение в его душе, и за завтраком он уже сумел убедить себя, что все это ему просто пригрезилось. Однако такой самообман был шаток и поколебался, как только они вернулись в номер, чтобы уложить чемоданы, вернулись в номер, где была постель и в углу раковина, возле которой стояла ночью Луиза, женственная и соблазнительная в своей шелковой комбинации.
Они тут же покинули этот омерзительный отель и прошлись пешком по улицам Момбасы. Жара была нестерпима, воздух влажен. Сначала они направились в контору авиакомпании, чтобы взять билеты на дневной самолет до Малинди, и на сей раз Генри сразу забронировал два номера в лучшем отеле. После этого они прогулялись до Португальского порта – кроме него, в Момбасе поглядеть было не на что – и вернулись обратно, чтобы зайти в магазины. Им предложили купить утыканную медными гвоздиками шкатулку из Занзибара, но предложение было отклонено; в конце концов Луиза откопала в какой-то лавчонке пустое страусовое яйцо, которое пришлось ей по вкусу, и Генри его купил.
В Малинди было не менее жарко, но отель стоял на самом берегу, у пляжа, протянувшегося на пять миль, и легкий ветерок задувал с моря. Отведенные им апартаменты были на этот раз роскошны: каждому предоставили небольшую крытую тростником хижину, имевшую спальню, ванную комнату и гостиную. Когда они прибыли туда, солнце уже почти село, но Луиза заявила, что хочет искупаться, и убедила отца пойти вместе с ней: это нас взбодрит, сказала она. Они надели купальные костюмы, спустились на пляж и вошли в теплую воду. Генри вышел из воды первым. Он сидел сгорбившись, опустив голову и глядя на песок; на его худом животе образовались глубокие складки. Потом он поднял глаза и увидел, что его длинноногая дочка вышла из воды и вприпрыжку бежит к нему; на лице ее играла ободряющая улыбка.
– Чудесно, правда? – спросила она.
Генри кивнул.
– Здесь все именно так, как я себе представляла: пальмы и такой вот огромный пляж и на нем – ни души.
– Да.
Она села на песок рядом с ним.
– Ты хорошо себя чувствуешь? Ты не болен? Может, ты чем-то расстроен?
– Нет. Почему ты спрашиваешь?
– Да ты какой-то странный, молчаливый.
Он улыбнулся.
– Это от перемены климата. – Его взгляд упал на плоский живот Луизы, и он резко отвел глаза.
– О чем ты подумал? – спросила Луиза, заметив, как он вздрогнул.
– Когда?
– Вот только что.
– О том, какая у меня прелестная дочь.
– Ты вправду так считаешь, вправду?
– Да. Я так считаю. Вправду. – Он передразнил ее интонацию, и они оба рассмеялись, но Луиза все же восприняла его слова как комплимент, и ее щеки порозовели.
Они вернулись в отель, переоделись и снова встретились в баре, в главном здании отеля. Почти все посетители бара, кроме них, были европейцы – больше всего было бельгийцев и голландцев. Генри уже заказал себе мартини, когда в бар вошла Луиза.
– Что ты будешь пить? – спросил Генри.
– Чистое виски, – сказала она непринужденно, как нечто само собой разумеющееся, и он не стал возражать, хотя обычно не позволял ей пить крепкие спиртные напитки. Но в этот вечер она была одета очень по-взрослому, хотя и скромно, и волосы были подобраны вверх – прическа, которую она делала крайне редко.
За обедом она сидела очень прямо и говорила не умолкая, тем более что Генри почти все время молчал.
– У Лафлинов не такой уж счастливый брак, правда, папочка?
– Я, право, не знаю…
– А Бенни говорит, что они вечно грызутся. – Она помолчала. – Не понимаю, зачем, в сущности, нужны все эти браки, когда в большинстве случаев ничего из них не получается.
– Из нашего же получилось.
– Да, как будто. А впрочем, откуда мне знать? Ведь если вы с мамой не поладите, я же узнаю об этом последней. Родители очень часто продолжают жить вместе радидетей, не так ли?
Генри улыбнулся.
– Могу тебя заверить, что мы с твоей матерью живем вместе отнюдь не из-за тебя и Лауры.
– Да, но… Вот сейчас мы отправились в путешествие, а мама осталась дома. Лет десять назад этого бы не произошло.
– Это не значит, что мы отдалились друг от друга.
– Нет, конечно. – Луиза задумчиво перебирала в пальцах рукав платья. – Но это значит, что вы как-то меньше зависите друг от друга.
– А это, может быть, не так уж и плохо.
– Да, понимаю, – сказала Луиза. – Понимаю. Я и не хотела сказать, что это плохо.
Генри явно чувствовал себя не в своей тарелке, и Луизу это обескураживало. Тем не менее она твердо решила провести с ним серьезный разговор на эту деликатную тему.
– Ты любил кого-нибудь до встречи с мамой?
– Да, – сказал Генри. – У меня были подружки.
– Кто именно?
– Ну… обыкновенные студентки.
– Да нет… я не о том. Была какая-нибудь одна, настоящая?
– Была одна девушка по имени Эллен.
– Почему ты не женился на ней?
– Меня призвали в армию.
– А больше никого не было?
– Была еще девушка в Германии… немка.
– Немка? – Это признание явно ошеломило Луизу.
– Она была очень хорошая.
– Да, но… На чьей она была стороне?
– Она работала на нас.
– О!
– Ее муж был убит.
– О! Понимаю. Значит, она была замужем?
– Она была вдова.
– Вдова. – Луиза кивнула, явно взволнованная всем услышанным. – И что же с ней потом сталось? Почему ты не женился на ней?
– Это еще недостаточное основание для женитьбы, если ты… если тебя к кому-то влечет.
– Вы, должно быть, разошлись, когда ты уехал?
– Именно так.
Луиза глотнула виски.
– А потом?
– А потом я познакомился с твоей матерью.
– Где?
– В Нью-Йорке, на коктейле у твоей двоюродной бабушки Фанни.
– Не очень-то романтичная встреча.
– Сожалею, но что поделаешь. А где бы ты хотела, чтобы это произошло?
– Ну, не знаю… В парке, в музее.
– Или, может быть, в метро?
Луиза улыбнулась.
– И как скоро вы поженились?
– Довольно скоро.
– Через год?
– Меньше.
– Ну когда?
– Я не помню… недель через пять-шесть.
– И это уже было романтично?
– Да.
– А потом родилась я?
– А потом родилась ты.
Луиза перевела дух, внутренне улыбнувшись, когда добралась до этого события – своего появления на свет.
– А почему вы ждали четыре года, прежде чем родить Лауру?
– Ну, видишь ли, иной раз так бывает…
– Ясно. – На минуту Луиза задумалась. – Но почему все-таки ты женился на маме, а не на той немке?
– Я любил твою мать сильнее.
– А она тебя любила?
– Да.
– Мне кажется, если я кого-нибудь полюблю, то буду любить так сильно, что уже никого так не полюблю потом.
– Если это сбудется, считай, что тебе повезло.
– Но так ведь лучше, правда?
– Это большая редкость.
– Мне кажется, у меня будет именно так.
И впервые за весь вечер она отвела взгляд от отца и уставилась в пространство, словно увидела перед собой свою первую и единственную любовь.
Оба почувствовали усталость – сказывалась дорога, купанье, почти бессонная ночь. Они вышли из ресторана и направились к своим хижинам. Луиза обняла отца за талию, он обнял ее за плечи.
– Хорошо здесь, правда? – сказала Луиза.
– Очень хорошо.
– Мне бы хотелось остаться здесь надолго-надолго.
– И мне.
Они подошли к хижине Луизы, и, повернувшись к отцу, она сказала:
– Здесь такие огромные кровати. Даже больше той, что была вчера.
Генри молча поглядел на нее.
– Я подумала… – начала было Луиза.
Генри снял руку с ее плеч.
– Спокойной ночи, – сказал он, повернулся и, не поцеловав ее на прощанье, направился к своей хижине.
10С этой минуты их дружба начала давать трещину. Ее стройная фигура вечно была перед его глазами – то в легком летнем платьице, то в вечернем туалете, – и небрежно раздвинутые колени или очертания груди в глубоком вырезе джемпера были для него как прикосновение раскаленного железа или удар ножа: боль была острой и физически ощутимой. Генри был измучен и нравственно унижен, как был бы измучен и унижен любой средний порядочный американец, открывший в себе постыдное влечение к собственной дочери.
Оставаясь один, Генри еще находил силы думать о посторонних предметах и чисто по-отечески – о Луизе; но стоило ему увидеть перед собой ритмично струящиеся линии ее тела (а она то и дело вбегала к нему в комнату – обнять, потереться щекой о его щеку, в элегантно-небрежной позе присесть напротив него с невинным, но бессознательно кокетливым видом), и его трезвые, упорядоченные мысли разлетались в прах, испепеленные огнем физической муки.
Проявлять поменьше любви, на которой до сих пор строились их отношения, и побольше отцовского авторитета – другого способа защиты Генри не мог себе избрать. Если раньше он всегда, не скупясь, изливал свое обаяние на Луизу, то теперь пришлось от этого отказаться. Он стал строг, потребовал, чтобы она ложилась спать в десять часов, и не разрешал ей пить больше одного стакана вина за день. А в Аддис-Абебе, куда они отправились из Малинди, он свел дружбу с итальянкой – дамой примерно одного с ним возраста, проживавшей в том же отеле. Если вечерами он сидел с итальянкой в баре, то просил Луизу им не мешать и отсылал ее к себе; она подчинялась очень неохотно, чувствуя – и не без основания, – что за этой внезапной вспышкой отцовского деспотизма кроется что-то другое. Особенно большую обиду нанес он ей, когда отправил ее вместе с выводком английских ребятишек и их нянькой смотреть королевских львов, а сам предпочел пойти в музей.
– И я с тобой.
– Глупости. Ты же хотела поглядеть на львов.
– Нет, папа, нет. Я лучше пойду с тобой в музей.
– В музей ты можешь пойти в другой раз.
– А почему не с тобой?
– Я иду с сеньорой Ламбрелли, а ты можешь пойти с Батлер-Кларксами.
Лицо Луизы окаменело, она была вне себя. Не проронив больше ни слова, она ушла с оравой английских ребятишек, которые все были много младше ее, да и нянька, судя по ее косичкам, тоже легко могла оказаться младше Луизы.
Детская обида Луизы значительно облегчила положение ее отца, так как теперь она меньше уделяла внимания своей внешности и одежде и никогда не смотрела ему больше в глаза с тем настороженно-испытующим выражением, которое в сочетании с ее красотой едва не толкнуло его на скандально греховный поступок.
Покинув Аддис-Абебу, они снова остались одни; теперь не было ни синьоры Ламбрелли, ни английских ребятишек, но отношения между отцом и дочерью уже утратили свою непринужденность. В Гондаре, когда они смотрели ангелов на куполе храма Селассии Дебра Берхан Генри провел долгую беседу с дочерью, но тема этой беседы была ограничена коптским храмом и состоянием цивилизации в Эфиопии семнадцатого века. Впрочем, за обедом он даже смеялся, и Луиза улыбалась в ответ, так что между ними стала восстанавливаться некоторая близость, но теперь уже Генри взвешивал каждое свое слово, а Луиза держалась пугливо и отчужденно, боясь снова испытать унижение.
После Гондара они полетели в Лалибелу – одинокое селение высоко в горах, доступное только в сухую погоду, когда маленький самолет мог приземлиться на илистой полоске земли в десяти милях от города.
Луиза, привыкшая летать на лайнерах, была немного испугана, попав на трясучий, болтающийся ДЦ-3. Но, заметив, что отец держится как ни в чем не бывало, она перестала бояться и даже не страдала от морской болезни, как некоторые из пассажиров.
Лалибела привлекала к себе туристов своими храмами, выдолбленными в скалах. Храмы были расположены в ущельях и соединялись один с другим туннелями. Для удобства туристов их сопровождали гиды, а в новом отеле, построенном в этом глухом углу, имелись ванны, простыни, мыло и прочие необходимые для белых путешественников предметы.
Генри и Луизу доставили с аэродрома в «ланд-ровере», который целый час петлял по узкой и крутой горной дороге. В отеле они только умылись и тут же отправились осматривать храмы, так как предполагали пробыть в Лалибеле всего сутки.
Они осмотрели медового цвета храмы, но это было не единственным, что им довелось там увидеть. Вдоль всех улиц города у стен домов, в пыли сидели нищие: изможденные люди в язвах протягивали слабые, трясущиеся руки; туберкулезные ребятишки; младенцы на коленях у иссохших матерей; покрытые гнойниками лица и тучи мух над обнаженными телами.
На Луизу нищие произвели больше впечатления, чем все эфиопские храмы и пейзажи, вместе взятые.
– Ты должен дать им что-нибудь, папа, непременно!
И Генри, не приученный подавать милостыню, как все англосаксы, неловко полез в карман и подал одному из несчастных несколько мелких туземных монеток, стоимостью в пять-шесть центов. Но дальше были еще нищие и еще, а потом те же самые нищие снова – когда они решили вернуться обратно, чтобы посмотреть храм, который случайно оставили без внимания, – и каждый раз Луиза требовала, чтобы отец подал милостыню, пока Генри не заявил наконец, что у него больше нет мелочи.
– Тогда дай им бумажки, – сказала Луиза.
– Не дури.
– Почему ты не хочешь? Ты же можешь себе это позволить.
– Разумеется, нет. Не могу же я накормить и одеть всю эту чертову ораву нищих!
Луиза замолчала. Она тупо смотрела на храмы и слушала объяснения своего просвещенного отца, но они едва ли доходили до нее. Потом, за обедом, она вдруг резко повернулась к нему.
– Но ты ведь мог бы накормить и одеть их, если бы захотел. Мог бы?
– Кого?
– Этих людей, там.
– Нет… Не знаю.
– Мы ведь богаты, разве нет? Одна из наших картин стоит пятьдесят тысяч долларов. На это можно купить уйму пищи и одежды.
– Конечно, – сказал Генри терпеливо, – но они все съедят, а картины уже не будет.
– Значит, лучше иметь картину, чем накормить людей?
Теперь она смотрела ему прямо в глаза. Это был прежний, хорошо знакомый ему прямой, ясный взгляд, только в нем появилась какая-то жесткость.
– Все это совсем не так просто, – сказал Генри.
– Тогда я бы хотела, чтобы ты мне объяснил.
– Когда-нибудь объясню.
Луиза вздохнула.
– Понимаешь, меня, по правде сказать, эти люди гораздо больше интересуют, чем храмы и всякие древности.
– Тогда тебе, видимо, надо было остаться с матерью.
Луиза покраснела.
– Я не хочу, чтобы ты считал меня неблагодарной, папа. Это было замечательное путешествие. Но ведь все эти чужие страны – они же состоят из людей тоже, не только из одних памятников старины.
– Да, – сказал Генри. – Да, конечно, прости меня. – Он и в самом деле чувствовал себя виноватым перед Луизой, страдавшей от смены его настроений, когда он от потворства внезапно переходил к строгости. Теперь, после того как Луиза проявила такую явную ребячливость, к нему возвращалась прежняя уверенность в себе, и он готов был снова принять роль снисходительного отца. Однако Луиза оказалась более непримиримой из них двоих.
– Так ты не хочешь объяснить мне?
– Что объяснить?
– Почему не нужно давать денег людям, которым нечего есть?
– Ну хорошо, – сказал Генри мягко. – На деньги можно купить пищу, но на них также можно купить средства для производства пищи, одежды и прочих вещей. Наши, в частности, деньги преимущественно вложены в предприятия, которые дают людям работу, и в конечном счете пищу и одежду большому количеству американцев и южноамериканцев и, возможно, даже некоторому количеству африканцев. Не поручусь, конечно, но очень может быть. Однако моих денег не хватит, да и ничьих денег не хватит – пока что, во всяком случае, – на то, чтобы снабдить работой и пищей все население земного шара.
– Но ведь не все наши деньги вложены в предприятия, – сказала Луиза. – Ведь у нас же есть эти картины и…
– Картины – это культура, – сказал Генри, – и она по-своему также необходима для людей, как и пища.
– И притом мы тратим очень много денег, – не унималась Луиза.
– Правильно, – сказал Генри. – Но это тоже дает людям работу и заработную плату. Все, кто обслуживает этот отель, сидели бы без работы, если бы мы не приехали сюда. И те десятидолларовые бумажки, которые по твоему настоянию я должен был бы отдать нищим, в свое время дадут кому-нибудь заработок.
Луиза некоторое время молчала.
– Ну что ж, – промолвила она наконец, – вероятно, это какое-то объяснение.Только я все равно не понимаю. – И, подумав, она добавила: – Мне кажется, будь у меня деньги, я бы их раздала.
11Аксум, последний городок, который они предполагали посетить в Эфиопии, был расположен на холмистом плато в горах, граничащих с Эритреей. Для туристов здесь имелись доисторические захоронения и безобразного вида стеллы – каменные шпили, торчащие в небо. Луизе было скучно. На нее не произвело впечатления то, что рассказывал ей отец о древнем храме, построенном на фундаменте, оставшемся от еще более древнего храма, возведенного, по преданию, царицей Савской и разрушенного иудейской принцессой Юдифью. Глаза юной американки не желали видеть ничего, кроме того, что она видела: унылые гробницы, украшения из драгоценных камней (в музее) и современную церковь, построенную ныне правящим императором Хайле Селассия и более всего смахивавшую на баскетбольный стадион в Гарварде.
– Знаешь, я все-таки не понимаю, – сказала она отцу, – зачем это нужно – тратить столько денег на такую огромную церковь в таком маленьком грязном городишке, в то время как у них есть старый храм. Ты именно это имел в виду, когда говорил, что культурные ценности важнее для людей, чем пища?
– Ну нет, не совсем, – сказал Генри. – Люди строят храмы, чтобы удовлетворять свои религиозные, а не культурные потребности.
– Но мы же осматриваем все эти храмы не из религиозных потребностей, поскольку у нас их нет.
– Нет, конечно. Ты права. Но религиозное искусство заключает в себе также и культурную ценность, как и светское искусство… как, например, Пикассо.
Они брели по улице Аксума, и было так жарко, что Генри в этом пекле совершенно утратил способность отчетливо мыслить, так ему, во всяком случае, казалось, в то время как Луиза отнюдь не ощущала, чтобы жара мешала работе ее мозга, скорее, даже наоборот.
– А какие у нас в Америке культурные ценности, папа? Пикассо же не американец.
– Нет, но у нас немало и своих художников.
– Однако мы же не ездим осматривать наши церкви?
– Нет, но у нас есть образцы прекрасной архитектуры, как, например, Линкольн-центр… И притом культура – это не обязательно только эстетика, она включает в себя и науку, и Гарвард, в конце концов, превосходный тому пример.
– Наука… Ну да. – В голосе ее прозвучали скептические нотки.
– Ты не находишь, что это важно?
– Было бы важно, если бы помогало людям…
– Так оно и есть.
– А тебе не кажется все же, что следовало бы сначала попытаться накормить всех людей на земле, а потом уже приниматься их обучать, просвещать и всякое такое?
Итак, все начиналось сначала. Луиза явно была очень взволнована, даже потрясена чудовищной картиной нищеты этих детей земли, которую она увидела в Лалибеле, но с не меньшей силой ошеломило ее и спокойное равнодушие и скупость, проявленные ее отцом, когда, раздав мелочь, он воздержался от более крупных подаяний.
При других обстоятельствах Луиза могла бы не обратить внимания на его непоследовательность, ибо дети склонны воспринимать поступки родителей как нечто непреложное и не размышлять над ними, но так как Генри после многих дней снисходительного потворства ее желаниям начал внезапно подавлять ее своим отцовским авторитетом, это дало ей в руки оружие, с помощью которого она старалась отвоевать то, что было прежде достигнуто. И стоило только ей пустить это оружие в ход, как она всякий раз наталкивалась на мягкость, на податливость, на беззащитность плоти. И так она продолжала донимать его вопросами от Асмары до Каира и от Каира до Рима, и к тому времени, когда они возвратились в Нью-Йорк, Генри порядком все это надоело, что он в раздражении и высказал, а Луиза оказалась в странной положении человека, выигравшего сражение, которое он, в сущности, предпочел бы проиграть.
12Последние недели каникул отец и Луиза провели вместе со всей семьей в Мартас Виньярд. «Наши африканцы», как называла их Лилиан, получили теперь возможность жить каждый сам по себе, что они и делали: Генри вернулся к письменному столу и книгам, стремясь до начала семестра закончить еще несколько глав своего труда, а Луиза, лежа на пляже на берегу Атлантического океана, где воздух был свеж и не так нещадно палило солнце, сообщала, как бы между прочим, подругам, что свой бронзовый загар она приобрела, путешествуя по Восточной Африке.
На этом фешенебельном курорте, расположенном на небольшом острове у берегов Массачусетса, Луиза встретилась с юношей по имени Дэнни Глинкман. Она немного знала его и раньше – они встречались иногда на вечеринках в Кембридже, так как отец Дэнни тоже преподавал в университете, и теперь стали проводить довольно много времени вместе. В этих встречах не было ничего романтического; они не назначали друг другу свиданий – просто совершали вместе прогулки, плавали или забегали в кафе-мороженое на Оак-Блаффс. Ни о каком увлечении со стороны Луизы здесь не могло быть и речи, так как Дэнни был некрасив, ниже ее ростом и обладал всеми недостатками, свойственными, как это ни прискорбно, подросткам: прыщами, неуклюжестью и ломающимся голосом. Однако слушать то, что произносил порой этот ломающийся голос, было для Луизы куда интереснее, чем целоваться с надоедливыми курортными мальчиками вроде Бенни Лафлина, ибо Дэнни Глинкман прочел уйму книг, о которых она знала лишь понаслышке, – труды таких авторов, как Маркс или Плеханов.
– Ты обязательно должна прочесть, что они пишут, – говорил он Луизе по пути в кафе на Оак-Блаффс.
– Но они же коммунисты, верно?
– Разумеется. – Дэнни пожал плечами и улыбнулся чуточку вызывающе.
– Но они же неправы?
– Кто сказал, что они неправы?
– Ну как это кто… – Луиза растерянно развела руками. – Все.
– А я этого не считаю, – сказал Дэнни. – Я читал «Коммунистический Манифест», и мне вовсе не кажется, что все это неверно. Наоборот, звучит очень убедительно.
Луиза покачала головой.
– Ну, не знаю… Не знаю.
– И потом ты должна прочесть Прудона «Всякая собственность – это кража» [21]21
Книга Прудона называется «Что такое собственность», Дэнни подменяет название цитатой из этой книги.
[Закрыть]. Мне здорово понравилось.
Дэнни говорил спокойно, невозмутимо и произвел большое впечатление на Луизу, которая никогда не читала книг такого рода. Впрочем, если бы социальная несправедливость не была однажды наглядно доведена до ее сознания и чувства, возможно, что Дэнни с его увлеченностью Марксом показался бы ей таким же скучным, как другие мальчишки, у которых был свой конек – Юнг и коллективное подсознательное. Так жизненный опыт воздействует на нашу психику, а наша психика на наши поступки.
– Иметь деньги гадко, – сказала она Дэнни, заговорщически понизив голос. – Я, правда, иной раз чувствую себя очень мерзко: понимаешь, Дэнни, в Африке я видела детей… детей и совсем крошечных младенцев, которым было нечего… ну абсолютно нечегоесть. И негде жить. И никакой помощи ниоткуда. А мы останавливались там в шикарных отелях и объедались до тошноты, и слуги чистили нам одежду…
– Вот это оно самое и есть, – сказал Дэнни. – И так повсюду, только здесь, у нас, не хотят в этом признаваться.
Луиза испуганно на него посмотрела.
– Здесь, у нас?
– Дети умирают в индейских резервациях, совершенно так же, как в Африке, потому что лишены настоящей пищи.
– Неужели правда? – воскликнула Луиза.
– И даже в Западной Виргинии дети у белых вырастают уродами. Многие дети – потому что они лишены протеина.
– В Западной Виргинии?
Дэнни кивнул, лицо его было серьезно.
– Так всегда было. Богачам наплевать на бедняков, а Америкой правят богатые.
– Но ведь коммунисты тоже не больше помогают беднякам, чем мы.
– Конечно, больше. Конечно, помогают. Они не дают людям умирать голодной смертью.
– Но они могут и убивать, верно?
– Верно.
– Это же плохо, разве нет?
– Не думаю, что убить преступника – это хуже, чем дать умереть невинному. По-моему, это лучше.








