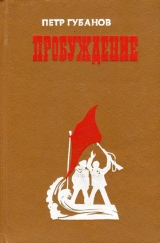
Текст книги "Пробуждение"
Автор книги: Петр Губанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
…Иван Пушкин, состоя по списку в команде миноносца «Бравый», пришел во время беспорядков на «Скорый» с явным намерением принять в них участие. Во время восстания добровольно исполнял обязанности на подаче снарядов к носовому орудию.
…Дмитрий Сивовал обвиняется в том же.
…Василий Боханов обвиняется…
Внимательно выслушав обвинительное заключение, я понял, что Раден произвел следствие добросовестно. Суду известно было почти все о происходивших событиях. Но нити руководства где-то обрывались. А в том, что вооруженное восстание готовилось, не сомневался никто.
На вопросы председательствующего и членов суда подсудимые отвечали коротко, нехотя. От предъявленных обвинений некоторые отказывались наотрез. И лишь Антон Шаповал говорил много. Он усиленно выгораживал товарищей, старался взвалить на себя как можно большую долю вины.
– Только я один из всех сидящих здесь виноват как руководитель и организатор восстания, – говорил Шаповал. – Со дня прихода на «Скорый» я вел агитационную работу на миноносцах. Мне помогали Решетников и Пойлов. Они погибли… Втроем мы готовили восстание.
Судьи слушали его с неохотой, с видимым безразличием.
– Я же накануне восстания агитировал в учебных ротах Сибирского флотского экипажа, чтобы поддержали. Стрелял и, кажется, ранил ротного, – взмахивая смятой в кулаке бескозыркой, говорил Шаповал. – Я проник в казармы Тридцать четвертого полка, чтобы поднять солдат, но мне не повезло. Предусмотрительные командиры вывели роты на плац и гоняли их маршем до ночи, – усмехнулся Шаповал. – Я был в Диомиде, в минном батальоне, когда началось там. Я знаю наперед свой приговор, но и меньшей вины бы хватило, чтобы расстрелять меня…
– А мы повесим тебя, – густым, сочным басом произнес генерал Шинкаренко.
– Вы можете повесить меня, – твердо продолжал Шаповал, – но вина сидящих на скамье подсудимых невелика, и строго карать их вы не имеете права. Они исполняли мою волю и волю двоих погибших товарищей.
– Военный суд полномочен решать по своему усмотрению, – вяло перебил его генерал и лишил слова.
Вторично вызвал Шаповала на разговор капитан первого ранга Раден, выступавший в роли свидетеля.
– Скажите, подсудимый Шаповал, вы знали, для чего поднимали корабли на восстание против власти? – спросил он.
– Да. Я это делал сознательно.
– Чего вы хотели этим достигнуть?
– Захватить все суда, стоявшие в порту, поднять на восстание гарнизоны Приморья и силою оружия ломать государственный строй. А потом на развалинах царизма строить государство рабочих и крестьян, без буржуев и помещиков, без эксплуатации.
– Ну, а те, что шли за вами, понимали это… э… знали, на что поднялись?
Шаповал замялся на секунду.
– Это вы их сами спросите, – ответил он, немного выждав.
– И спрашивать незачем. Понимали они! Напрасно их защищали. Я видел сам, как они действовали. Если бы с японцами так воевали.
– И воевали! – раздалось несколько голосов.
– Когда я увидел приближавшиеся под красным флагом миноносцы, мне сделалось жутко, – Раден зябко пожал плечами. – На «Скором» прислуга целиком находилась у орудий, действовала так, что будь это учения – приз получила бы. А у меня на лодке некому снаряды было подносить. Мичманы да кондукторы таскали. Сам я наводчиком стоял…
– От таких, как вы, одна лишь пакость на земле, – с ненавистью глядя на капитана первого ранга, негромко произнес Шаповал.
Приглашенный в суд мичман Нирод поливал обвиняемых грязью, клеветал. Широкобородый, похожий на адмирала Макарова, капитан второго ранга, с ясными, как у детей, голубыми глазами, свидетель с транспорта «Ксения», долго морщил и кривил лицо. Не выдержал, встал и хотел выйти. Но, передумав, повернулся к графу Нироду и громко, на весь зал, произнес:
– Постыдились бы вы, мичман, ведь воевали вместо…
Нирод избегал встречаться со мной взглядом. И только раз я заметил, как остановились на мне холодные, без блеска, глаза графа. «Дослужился, либерал, сиди теперь с ними», – прочитал я в них. Ничего, кроме гадливости, не питал я больше к своему бывшему сослуживцу.
Суд шел третий день. Устали и подсудимые и судьи. Матросы, привыкнув к новым условиям, шумели, переговаривались.
Когда стали читать приговор, наступила мертвая тишина.
– «По указу его императорского величества тысяча девятьсот седьмого года ноября двадцать второго дня, – густым, не стариковским голосом начал генерал Шинкаренко, – Приамурский военно-окружной суд под председательством военного судьи генерал-майора Шинкаренко, в котором присутствовали члены суда полковник Врублевский и подполковник Пипко, при секретаре коллежском регистраторе Миллере, слушал дело о лейтенантах Алексее Петровиче Евдокимове и Николае Николаевиче Оводове и нижних чинах: Антоне Шаповале, Дормидонте Нашиванкине, Алексее Золотухине, Иване Чарошникове, Николае Филиппове, Николае Данилове, Иване Пушкине, Дмитрии Сивовале… – Перечислив десятка три фамилий, генерал стал читать мой послужной список:
– Лейтенант Евдокимов, из унтер-офицерских детей, уроженец Кронштадта, гардемарином с 6 октября 1899 года, мичманом с 25 сентября 1902 года, лейтенантом с 4 апреля 1904 года, имеет ордена: святой Анны третьей степени с мечами и бантом, святого Станислава второй степени с мечами и бантом и третьей степени с мечами и бантом, серебряную медаль в память войны 1904—1905 годов. Под судом не был… – Последовала формулировка моего преступления. Генерал скорчил кислую мину, продолжил:
– Выслушав настоящее дело, суд признал виновными вышеперечисленных нижних чинов миноносца «Скорый» в том, что, совместно с убитыми и умершими от ран минно-артиллерийским содержателем Пойловым, баталером Решетниковым, неизвестной женщиной (Товарищ Надя) и другими мужчинами, личности коих не установлены… – при этих словах подсудимые встали, обнажили головы. Стало тихо. Голос генерала звучал сухо и жестко, как жесть:
– …по предварительному между собой соглашению в достижении целей тайного сообщества, они поставили своей задачей истребить командный состав судов и войсковых частей, захватить в свои руки управление войсками с целью силою оружия насильственно изменить установленный в России законный образ правления.
Около восьми часов утра семнадцатого октября, после того как Пойлов и Решетников выстрелами из револьвера убили лейтенанта Штера и капитана второго ранга Куроша, они совместными силами захватили миноносец и вступили в бой с миноносцами «Смелый», «Статный», «Грозовой» и канонерской лодкой «Маньчжур». Миноносец «Скорый» вел орудийный огонь по кораблям и правительственным зданиям до тех пор, пока верные долгу суда не привели его в негодность для боя.
Указанные нижние чины являются руководителями и организаторами восстания.
Обращаясь к применению законов, суд нашел: первое – что деяния подсудимых лейтенантов Евдокимова и Оводова представляют собой беззаконное бездействие власти против вооруженного бунта, что предусмотрено седьмым пунктом сто сорок четвертой статьи и сто сорок пятой статьей Военно-морского устава о наказаниях.
Суд избрал взамен ссылки на житье в Сибирь отдать их в арестантские роты, и за неимением таковых Оводова по лишении дворянства, чинов, а Евдокимова – воинского звания и орденов исключить из военной службы и заключить в тюрьму сроком на три года. Второе: за недоказанностью вины матросов Антона Першина, Порфирия Ро́га и Кузьму Коренина по суду оправдать, из-под стражи освободить…»
Я увидел удивленное и словно испуганное лицо минера.
– Думал, каторга, а вышло – в Харьков ехать, – глухо проговорил он.
С внезапной силой захватило меня чувство острой радости, словно оправдали меня. Я увидел, вернее, почувствовал на миг шелест осенней рябины, прохладу убранного поля, ручей… «Хорошо, что все это скоро будет радовать его», – пронеслось в голове…
– «Третье: нижних чинов миноносца «Скорый» матроса первой статьи Антона Иванова Шаповала, двадцати трех лет, матроса первой статьи Дормидонта Евлампия Нашиванкина, двадцати двух лет, матроса первой статьи Алексея Павлова Золотухина, двадцати двух лет, матроса первой статьи Ивана Прокофьева Чарошникова, двадцати трех лет, машиниста второй статьи Николая Филиппова (по его словам, Михайлова), двадцати трех лет, хозяина трюмных отсеков Ивана Степанова Пушкина, двадцати шести лет, подручного хозяина трюмов Дмитрия Максимова Сивовала, двадцати четырех лет, Николая Данилова, двадцати двух лет, Григория Мешанина, двадцати четырех лет, Тихона Отребухова, двадцати трех лет, Василия Боханова, двадцати двух лет, и Дмитрия Головченко, двадцати пяти лет, за явное восстание исключить из военной службы, лишить всех прав состояния в соответствии со статьями двадцать второй – двадцать четвертой «Об уголовных наказаниях» тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года и подвергнуть смертной казни через расстреляние».
Кто-то удивленно и громко ахнул. Судьи молча стояли против осужденных, растерянно пряча глаза. На выбеленных, как стены зала, лицах матросов – недоумение и ярость. Лица судей недвижны, но под высохшей дряблой кожей – испуг.
«Эти люди не правы, и они это знают, – подумал я, – их точит червь сознания неоправданной жестокости».
В жуткой тишине зала судебных заседаний навис призрак насильственной смерти.
«Неужто никто не спасет их от ненужной казни? Разве полным здоровья людям только и осталось, что носом в черную яму с пулей в затылке? Этого не может быть! Кто-то должен отменить бесчеловечный приговор!»
Из раззолоченной рамы, щуря близорукие светловыпуклые глаза, смотрел на приговоренных Николай Второй. Царственный лик, украшенный великолепной бородой, выражал немое одобрение.
– Всех не расстреляете, – с твердым спокойствием сказал Нашиванкин. Сел. Принялся торопливо поправлять повязку.
– Будьте вы прокляты! – раздались голоса из задних рядов. – За нас отомстят! Наступит и ваш час!
– Палачи!
– Убийцы!
– Изверги!
Поднялся и вышел вперед Антон Шаповал.
– Товарищи! – громко произнес он. – Мы пойдем на казнь, твердо зная, что будем отомщены, как будет отомщена вся пролитая народная кровь. Смерть наша только увеличит пламя, которое скоро уже поглотит палачей наших и все творимое ими зло… Да здравствует народ и его пробуждение! Пусть наша свежая кровь запылает великим огнем всенародного восстания и да придет же наконец та святая жизнь в мире и любви, то счастье, за которое мы вместе боролись!
Сидевший со мной рядом лейтенант Оводов вытирал платком мокрые от слез щеки. За три дня он почернел, осунулся, стал странно, по-стариковски сутулиться.
– Какое варварство, какая бесчеловечность! – возмущался он. – Непростительная низость!
Я помог ему снять с кителя погоны (свои я оставил в камере). Мы поздравили друг друга с новым званием. В зале раздался звон шпор. Конвойные стали выводить осужденных во двор.
Когда вышли на улицу, нас окружила толпа людей. Их отгоняли окриками и прикладами растерянные конвойные. Осужденные остановились. Жандармы отталкивали плачущих женщин.
Николай Оводов, упав лицом на плечо высокой, стройной женщины в черной меховой шапочке, громко рыдал, тяжело вздрагивая и дергаясь. Женщина с нежностью, тихо говорила ему что-то. Глаза ее были печальны, а свежее миловидное лицо алело ярким румянцем и на морозе казалось веселым.
– Не следовало бы их благородию так ронять себя, барыня, – сказал ей Пушкин, только что осужденный к расстрелу, – не подумали бы люди, что мы…
Женщина вспыхнула, отпрянула от него, сверкнула глазами. Но сразу же смягчилась, сконфуженно ответила:
– Мой муж заболел… оттого это с ним случилось.
– Коли так, виноват, барыня, что обидел, – шагая рядом, грустно произнес Пушкин.
И когда женщина осталась на пригорке, он часто оборачивался и вздыхал. А когда она скрылась из виду, поднял голову и, подставив лицо хлесткому ветру, зашагал прямо, решительно, не оглядываясь.
13
Вместе с приговоренными к смерти и осужденными на каторгу меня и Николая Оводова переправили на транспорт «Колыма». Ранним холодным утром портовый буксир вошел в бухту, синей извилистой раной рассекавшую хмурый остров. Фиолетово-серая поверхность воды клубилась холодным паром. Низкие голые деревья на берегу качались от ветра, стучали ветвями. Над Русским островом неподвижной громадой висела мрачно-лиловая туча.
Бухта Новик… Когда-то она была для меня бухтой Радостного Возвращения. Отсюда я любовался сиявшим ночными огнями городом. Сейчас передо мной высилась неприятной громадой плавучая тюрьма «Колыма», транспорт, покрашенный в грязно-серый цвет.
По веревочной лестнице поднялись мы на верхнюю палубу. Нас пересчитали, погрузили в трюм. Со стуком закрываемого гроба захлопнулась крышка люка. Здесь не было ни коек, ни стола, ни иллюминаторов. Тускло светили два электрических фонаря, подвешенные к подволоку, покрытому кроваво-красной ржавчиной.
Матросы располагались так, словно придется прожить здесь долго. Служба приучила их к частым переменам, и потому, попадая в экипаж, на корабль или в береговой форт, они привыкли чувствовать себя как дома. Но здесь… в ожидании… Это было удивительно, потому что каждый приговоренный знал: это последняя в жизни стоянка. Казалось бы, в эти часы человек полон мрачного раздумья, совершает необыкновенное. Так нет же: они были заняты самыми будничными делами.
Черноусый краснощекий красавец Иван Чарошников драил мелом медные пуговицы на бушлате. Подраив их до яркого блеска, заулыбался чему-то. Выражение лица его было задумчиво-сосредоточенное.
Дормидонт Нашиванкин пришивал к старой шинели хлястик. Он был тих и грустен. Раненой рукой придерживал шинель за полы, здоровой – держал иголку. Пришив хлястик, подергал его, пробуя прочность…
Иван Пушкин рассказывал собравшимся вокруг него о своей деревне. Худое, почерневшее от угольной пыли лицо матроса освещала задумчивая улыбка. Кожа на лбу собиралась в складки. Дмитрий Сивовал писал письмо. Он сидел в сторонке, один, с карандашом в руке, низко склонившись над листом бумаги. Временами он поднимал голову и подолгу смотрел в подволок. В глубине маленьких глаз была неутихающая душевная боль.
Глядя на маленького, тщедушного на вид матроса с карандашным огрызком в руке, я сердцем измерил благородство этих людей, почувствовал, что за их внешним спокойствием скрыты мучительная дума и жажда жизни. Жизнь у них уже отнята законом, но еще не убита солдатскими пулями. Люди в пропахших потом тельняшках, обросшие бородами, с немытыми лицами стали мне кровно родными. Я проникся сознанием правоты дела, за которое они должны умереть. Это было то, чего я не понимал прежде.
Наступила ночь, тревожная, темная, с воем ветра и шумом дождя над палубой. В трюме было слышно тяжелое дыхание людей, вздохи, короткие, устало обрывающиеся разговоры.
Оводов спал, широко разбросав руки, животом вниз, неловко уткнувшись лицом в локоть. Я лежал рядом с ним, но не спал – думал. Недалеко от меня устроились на ночь Пушкин, Золотухин и Сивовал. Вначале они молчали, каждый думая о своем. Разговор между ними завязался внезапно. Я вслушался.
– Вот какую шутку поднесли нам, – со злостью, сухо буркнул Золотухин.
– Ты о чем это, Леша? – сонно спросил Пушкин.
– Да все о том же, Иван. Не станет скоро нас на этом свете. Не станет, словно и не было нас… А главное, обидно: пройдет время – и никто даже знать не будет, за что мы боролись, кто судил, за что, где мы схоронены…
– Кому нужно – все разузнают, – послышался тихий, но уверенный голос Дмитрия Сивовала.
– Да. Умирать придется, Алексей. Хоть и очень тяжело, а придется, – задумчиво проговорил Пушкин.
– А нельзя ли убежать отсюда? – тихо спросил Золотухин.
Я поднял голову и увидел его. Золотухин сидел на корточках и всматривался в угол, наверх. Рыжие волосы его были взъерошены, глаза блестели, озираясь.
– Нет, не можно, Алексей, – с удивительным спокойствием ответил Пушкин. – Кругом вода, остров, да и… охраняют.
– А жалко жизни-то, – с трудом разжимая зубы, произнес Золотухин и лег.
– Кому же ее не жалко-то. Всякой твари умирать не хочется, – согласился Пушкин.
Я вспомнил: об этом они говорили на канонерской лодке «Маньчжур» в коридоре перед салоном. Но тогда не знали еще, что дни сочтены.
– Как назло, жизнь-то дразнит, когда у тебя ее отнимают, – разговорился Пушкин, – и кажется она такой хорошей, ну словно в первый раз увидел свет белый. Как вспомню свою деревню, домишко свой, семью – я сам новгородский, ты знаешь, – солнышко над крышей и тополь под окошком… Ну, словно кто-то внутри паклю смоляную жгет. Жарко становится. Бывало, пашешь: земля черная, хоть и не твоя – барская, а дух от нее идет веселый, солнце пригревает, пташки тебе напевают. И много-много света и прохлады вокруг. У-ух, тяжело, – шумно вздохнул Пушкин и замолчал.
Молчание длилось минуты две.
– А сколько раскидано и посеяно на свете божьем земной благодати, – заговорил он снова. – Пашни с хлебами, леса, реки – и все это одно к другому. Умно все придумано. Люди, пожалуй, не смогли бы этак придумать. Если бы не было бар да буржуев, как можно было хорошо жить…
– Можно было, конечно, – угрюмо буркнул Золотухин.
– Обидно, Леша, что потухнет для нас свет.
– Обидно, Иван… Меня еще ни одна девка не любила. И я даже не знаю, как это бывает.
– Д-да, – протяжно проговорил Пушкин.
– А у меня дома мама-старушка, и совсем одна, – просто сказал Сивовал. – Я у нее всегда был один.
Я смутно помнил мать, но от слов, сказанных матросом, защипало в горле. Я заворочался. Заметив это, они стали говорить шепотом.
«Как они страдают, – подумал я, – а посмотришь днем – ничего не увидишь».
Утром мне захотелось расспросить Нашиванкина о Вике. Но я не решался подойти к нему. Мучило сознание, что у меня впереди – жизнь, у него отнято все. Я думал, что завтрашний покойник живому не попутчик, и боялся, что разговор не получится.
Нашиванкин сам подошел ко мне. Сел рядом. Заговорил.
– Товарищ Надя умерла, – просто сказал он. Тяжело вздохнул.
Я молчал, не зная, что ответить.
– Ты был на мостике, когда ее ранило? – спросил я.
– Да. Но в тот момент, когда «Товарища Надю» ранило, я лежал без сознания. Был контужен взрывом. Когда я очнулся и встал, она уже лежала. На мостике живых, кроме нее, не было.
Нашиванкин умолк. На лбу его змейкой изогнулась свежая морщинка.
– Оплошали, – со вздохом проговорил Нашиванкин, – поторопились… Не подготовили к восстанию все команды… И вот: лучшие товарищи-революционеры погибли, сотни – под судом.
– А могли бы взять верх? – осторожно спросил я.
– Кабы поднялись все миноносцы и подоспел Тридцать четвертый полк – могли.
– А потом?
– …Выступили бы гарнизоны в Никольск-Уссурийске, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске… затряслась бы Расея-матушка. Эх! Поторопились…
Нашиванкин задумался. Лицо его, утратившее недавний загар, выразило сильное внутреннее движение. Он заговорил торопливо, но тихо:
– А ведь поднимутся люди, когда нас не будет. Они не допустят наших ошибок… Теперь, Алексей Петрович, вы должны знать, за кого стоять вам… нельзя быть в стороне… А мы ведь надеялись…
Нашиванкин остановился. Потом, собравшись с мыслями, принялся рассказывать о последних днях Вики. Он говорил все о ней, бередя во мне незажившую рану. Я вновь и с новой силой переживал горечь утраты. Сидевший рядом со мной человек принес частицу ее дыхания, последний звук ее голоса. Я помню и теперь, что говорил он.
– Вот убили «Товарища Надю», убьют нас, а мне почему-то не верится, что все будет для нас кончено. – Наивно-мечтательное выражение застыло на лице Нашиванкина. – Вот понимаю умом, а сердцем не верю. Ну как же это можно? Был для нас светлый мир с солнцем, с людьми, цветами и вдруг – на тебе – не стало… Вместо света – яма, пустота… Мне иногда почему-то думается, что умру вот, а потом снова появлюсь на свет в ком-либо другом. Обличье, конечно, будет не мое, а душа в нем – моя. – Он оживился. Заговорил вдохновенно, с жаром: – У нас на Смоленщине осенью леса словно горы золота. Наш дом стоит на краю деревни. Так ветви берез шумят над самой нашей крышей. А под ними желтой листвы… ну все равно что ковер, хоть ложись и валяйся. Когда был мальчиком, любил ловить ладонями на лету листья. Глядишь: а небо наверху голубое-голубое, воздух свежий… А тишина кругом… словно ты один на всем свете…
Нашиванкин на минуту умолк, потом поднял голову и внимательно поглядел на меня:
– Когда меня не будет, напиши письмо моему отцу. У меня рука болит, да и не хочу. Я все еще не верю, что умру. А вот когда расстреляют, напиши… что погиб я за народ, за лучшую долю…
Потом мы говорили о прошедшей войне, о тяжелой матросской службе, о грядущей революции, в приход которой Нашиванкин верил свято. Я слушал Нашиванкина со вниманием, верил ему. Если в чем не соглашался – не возражал, боясь обидеть его.
Если все, чем жил Дормидонт, оставалось в нем самом, то Антон Шаповал старался отдавать это другим. Он и в трюме «Колымы» стремился передать людям свою правду, знания, уверенность и силу.
– Это только временная победа наших врагов, – говорил он мне, – царизму, эксплуатации и неравенству наступит конец. И очень скоро.
– Какая же власть будет установлена в России после этого? – заинтересовался я.
– Власть неимущих установим, – разъяснял Шаповал. – Это будет народная власть. И управлять страной станет не кучка богачей, а представители народа, избранные народом.
– А как будет на флоте?
– Командовать кораблями станут представители революционного народа.
– Ну, а почему вы в этот раз не могли победить? – неуверенно спросил я.
– Большинство населения России только теперь начинает понимать, кто был прав, за что и с кем нужно бороться. Солдаты оставались верными присяге. Ведь здесь, во Владивостоке, будь во главе Исполнительного комитета не предатели Шпер и Ланковский, ни за что генерал Мищенко не вошел бы в город с карательными войсками. Революционная власть была крепкой и смогла удержаться. Да, вас не было здесь. Вы этого не видели. На некоторое время революция одержала победу… – Лицо его побагровело, глаза потемнели. Но голосом ровным и мягким Шаповал сказал: – Умирать не хочется. Ведь впереди так много интересного, хорошего. Жить и бороться – что может быть лучше!..
Нам помешали. Кто-то крикнул, и все побежали в темный угол трюма. Там бился, не давая связать себя, Николай Оводов. В приступе сильного нервного расстройства он перестал узнавать знакомых и бил всех, кто подходил к нему.
Вечером его отправили в тюремную больницу.
На четвертый день в трюм «Колымы» проник слух, что прибыли солдаты. Тюремщик, спустивший нам бак с кашей, сообщил, что какой-то миноносец подошел к боту и доставил на транспорт роту Десятого полка и что вместе с ними прибыли священник и врач.
«Утром – казнь», – подумал я. Мне сделалось жутко. В трюме стало тихо. Снаружи донеслись скрежет миноносца, тершегося бортом о транспорт, и лязг якорных цепей.
Приговоренные к смерти и осужденные на каторгу сидели тесной кучей, молча. В полумраке они почему-то казались громадной птицей, распластавшей перед взлетом крылья. Кто-то запел. Несколько голосов подхватило песню:
Матросы убиты, плывут в глубине,
Плещут волнами зелеными.
Связаны руки локтями к спине,
Лица покрыты мешками смолеными.
В черной крови офицерский мундир,
Трупы – матросы кронштадтские;
В воду их бросить велел командир,
Убили их пули солдатские.
Пели все. Мужественная песня о трагической гибели восставших балтийских матросов заполнила трюм, рвалась наружу.
В сером тумане кайма берегов
Низкой грядою рисуется —
Царский дворец Петергоф
Там над водою красуется.
– Где же ты, царь? Выходи
К нам из-за крепкой охраны.
В каждой зияют груди
Пулей пробитые раны…
На рассвете раздались наверху чьи-то отрывистые команды. Загудела палуба от топота множества ног. Со скрежетом открылся входной люк. В трюм спустился священник. Я узнал в нем соборного протоиерея Ремизова, разжалованного в полковые священники за конфуз на демонстрации. Он сильно изменился, похудел лицом и стал как будто ниже ростом. Зябко поеживаясь, Ремизов подходил к приговоренным и тихим, скорбным голосом предлагал исповедаться. Все отворачивались.
– Мы добывали русскому народу землю и волю, а вы, отец, именем Христа хотите прикрыть убийство, – сказал Антон Шаповал, когда подошла его очередь. – Убирались бы лучше отсюда. Мы уж как-нибудь обойдемся без вас…
Приговоренным к расстрелу приказали выходить наверх.
– Товарищи! Пожар революции разгорается, – обратился к оставшимся Антон Шаповал. – Нам возврата нет, но вы должны завершить начатое дело революции! – И первым стал подниматься по трапу наверх.
Мне запомнился клочок серого неба с бегущими низкими тучами и тяжелая, с золотыми погонами на плечах фигура в квадрате раскрытого люка.
Выходили по двое, обняв друг друга за плечи. Ноги медленно ступали по трапу.
– Под распятье идем, – сказал Иван Чарошников, проходя мимо меня. Потом остановился, обдернул бушлат, поправил бескозырку.
– Не на парад, чай, идешь, – сурово проговорил Пушкин. Запнулся. Молча уставился на здоровяка Чарошникова. – Идем, браток, – вздрагивающим голосом закончил бывший хозяин трюмных отсеков.
За ним медленно, с опущенной головой шагал Дмитрий Сивовал. Ослаб духом. Его поддерживали двое товарищей.
Дормидонт долго не выпускал мою руку. Я чувствовал лихорадочное биение крови сквозь жесткую кожу пальцев. Вспомнив что-то, он встряхнул головой, потом снял с себя старую матросскую шинель и отдал мне. Остался в тесном, выгоревшем на солнце бушлате.
– Моя дорога короткая, а вам еще пригодится, возьмите – глухо проговорил Дормидонт, – а то замерзнете в плаще.
Я не мог спорить с ним. Взял. У трапа он встал. Обернулся.
– Так не забудь же написать, – сказал Дормидонт напоследок.
Трюм опустел. Я забился, как в детстве, в темный угол, чтобы быть подальше от людей. За моей спиной громко, никого не стесняясь, плакал матрос.
Мерно качнулась тюрьма. От борта отошел миноносец.
14
Из трюма «Колымы» меня перевели на миноносец «Усердный», доставивший на остров солдат и священника. Корабль стоял у Угольной стенки, притихший, как хищник, пожравший жертву. В форпике, куда меня поместили, было тесно от банок, бочек и швабр; пахло смолой, пенькой и краской. Чтобы я не задохнулся, люк не закрывали.
Охранял солдат из роты Десятого полка. Курносый новобранец в длинной, неловко сидящей шинели невидящим взглядом смотрел куда-то – мимо причала, сопок и голых деревьев. Молчал. Я пытался заговорить с ним. Солдат резко и зло обрывал меня, отворачивал рябоватое лицо с белесыми веками.
– Ир-рроды! Братоубийцы! – с внезапной силой проговорил новобранец. Плача, всхлипывая, запинаясь, солдат стал рассказывать: – Поубивали матросиков. Побили всех… Вначале привели и поставили к столбам… я сосчитал: всего столбов было четырнадцать. Матросики стояли в пяти саженях от нас и смеялись над нами…
«Вы и стрелять-то не умеете», – сказал черноусый высокий матрос, красивый такой. А другой, светловолосый, с перевязанной рукой, добавил: «Пускай по нас поучатся, зато потом метче будут палить в буржуев».
Лица у сердешных были белые-белые, словно полоски на тельняшках.
К каждому подходил поп и говорил: «Кайтесь, я напутствую к новой жизни». Только все они от попа отказались. А когда стали надевать саваны, матросы воспротивились. Так силой надели, христопродавцы…
Солдат тяжело и протяжно вздохнул, провел по лицу ладонью. На посиневшей от холода щеке остался след грязи и ружейного масла. Взволнованный пережитым, он продолжил рассказ:
– Привязали к столбам. Светловолосый, с перевязанной рукой, тот самый, что стоял шестым, прогрыз зубами холстину и попросил покурить. Взводный наш сжалился над сердягой… свернул и сунул ему в рот цигарку. Вы бы только посмотрели, как он курил, покойный, перед смертью-то… Потом скомандовали стрелять. Стреляли всей ротой, а упали только двое. Когда дали еще залп, то не упало ни одного. Полковник Эфиров заругался. А Гиршфельд ударил меня два раза ногой пониже спины. Немец стоял сзади и видел, как я вверх палил…
Тогда всю роту отвели назад. Вместо нас против осужденных встали крестники[2]2
Крестники – георгиевские кавалеры, служащие сверхсрочной службы.
[Закрыть]. Их было мало, но они стреляли точно. Троих матросиков все же только поранили. Так их дострелял из нагана полковник Гиршфельд.
Солдат замолчал, достал кисет и, зажав между колен винтовку, принялся сворачивать папироску. Руки его вздрагивали. Он прикуривал долго. Со мной солдат больше не разговаривал. Он отошел от люка и стал ходить взад и вперед по палубе…
Осенний закат розоватым светом облил серое тело «Усердного». Небо наверху очистилось, стало выше, светлее, глубже. Наступили холодные сумерки с льдистым блеском сине-зеленых звезд.
Когда стемнело совсем, я услышал скрежет выбираемой якорной цепи. Кто-то властно командовал на мостике. Голос командира показался мне знакомым. Я вслушался внимательнее, но крышку люка закрыли. Забурлила вода за бортом. «Усердный» отошел от стенки. Он быстро набирал ход.
Я думал, что через полчаса «Усердный» придет в порт и меня отведут в тюрьму. Но не успели пройти канал, как люк открылся.
В глаза мне ударил темно-синий круг в звездных крапинах. На брызгах, летящих от форштевня, вспыхивал рубиновый свет ходового огня. Несколько холодных капель упало мне на лицо. В проеме открытого люка показалась голова солдата.
– Их благородие… командир просют идти в его каюту, ваше благородие, – запнувшись, сказал он.
Не догадываясь, что это значит, я поднялся по скобчатому трапу наверх. Скользя по перекатывающимся лужам, качаясь, с непонятной тревогой в сердце шел я по палубе чужого миноносца. Я испытывал боль оттого, что не нужен стал кораблю, вздрагивающему от гуда машин, службе, офицерам, закутавшимся в плащи и застывшим на мостике.
Подойдя к двери, постучался. Никто не ответил. Я вошел. Каюта была пуста. Теплым, до слез родным пахнул на меня знакомый уют командирской каюты. Здесь было все так, как у меня на «Скором»: письменный столик и шкаф для платья из красного дерева, круглое зеркало, медный умывальник, койка.
Сколько надежд родилось и умерло в неверной тишине неспокойного крова! Сколько тревожных ночей без сна, морских экспедиций и крейсерств, атак, стоянок!.. Порт-Артур, бухта Тахэ, Чифу, знойный, как чертово пекло, Шанхай… Живая, далекая Вика. Она была со мной…
Погруженный в думы, я сидел в кресле спиной к двери, как привык сидеть всегда. Перед глазами проплывали картины из прошлого, образы близких и дорогих мне людей. Никто не вошел, не помешал.
Я слышал, как плескалась от хода вода, и чувствовал, что миноносец качается сильнее, чем полагалось в закрытом бассейне. По времени мы должны были пройти Босфор и входить в Золотой Рог. А «Усердный» почему-то ускорил ход и стал переваливаться с борта на борт. Встречные волны с грохотом бились о корпус. Что-то гудело, скрипело, скрежетало.








