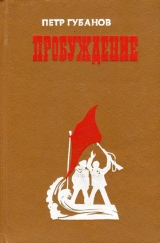
Текст книги "Пробуждение"
Автор книги: Петр Губанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Конец неудавшейся речи я скомкал. Сел злой и усталый. Но сразу же вспомнил о Вике и посмотрел на часы. Было ровно восемь.
«Вика пришла. И сразу же уйдет», – пришло в голову.
Поднялся капитан первого ранга барон Раден. Он был старший из командиров судов и, кроме того, находился на особом положении у адмирала. Подняв еще выше острый свежевыбритый подбородок, Раден грозно блеснул стеклами пенсне, оглядел сидящих..
– Господа! – зычным голосом произнес он. – Положение в крепости тревожное. Недовольства нижних чинов растут. Атмосфера накаляется. На канонерской лодке «Маньчжур» четыреста шестьдесят нижних чинов. И четыреста из них – ненадежные. Я могу положиться на очень немногих. – Раден поправил пенсне. – Но с твердой уверенностью я заявляю, что «Маньчжур» не станет на сторону мятежников. Неустанно следят за нижними чинами верные присяге кондукторы. Все офицеры канонерской лодки готовы, не щадя жизни, исполнить свой долг. Все они, от старшего офицера до младшего мичмана, встанут с оружием на защиту престола и государем дарованных прав, – твердым, уверенным голосом закончил Раден.
Наконец Иессен объявил, что совещание окончено. Попрощавшись с Николаем Оводовым, я выбежал на улицу. Через несколько минут входил в сквер Невельского.
«Ушла или еще ждет?» – стучало в висках. Аллея была темна и пустынна. Я повернул направо, в глубину сада, и едва не столкнулся с Викой.
– Как я рад, что ты не ушла, – жадно оглядывая всю ее, радостно сказал я вместо приветствия.
– Я думала, что не придешь, и собралась уже уходить, – тихо ответила Вика. Глаза ее потеплели. Из-под шапочки выбилась темная прядка.
– Меня задержали, и никак не мог быть раньше, – оправдывался я, внимательно рассматривая прядку, подковкой лежавшую на лбу.
– Через час с четвертью я уезжаю. Ты проводишь, Леша? – спросила Вика, задумчиво глядя на меня.
– Куда?
– В Никольск-Уссурийск и Спасск. По делам… не надолго, на несколько дней.
– Так внезапно?..
Шли по улице молча. Я вспомнил, о чем говорил генерал Флуг, и с болью, и жалостью подумал, что вот идет она рядом, а в любую минуту жандармы могут арестовать ее и посадить в тюрьму. Могут арестовать в дороге, дома, на вокзале – где угодно.
– За тобой установлена слежка жандармским отделением, – сказал я.
– Знаю.
– Может быть, тебе пока не приезжать обратно.
– Н-нет! Сейчас самое время, чтобы приехать обратно. Скоро наступит то светлое время, о котором я тебе говорила.
Я колебался – сказать ли о том, что услышал на совещании…
– Властям все известно, Вика, – с твердой решимостью начал я. – Они осведомлены о всех ваших действиях через своих филеров. Они узнали, что существует тайное сообщество, от проникшего к вам провокатора. Я узнал это сегодня на секретном совещании. Этот провокатор знает руководителей, и он же предал Шамизона и открыл явочную квартиру на мысе Чуркина.
– Это нам известно, – вздохнула Вика.
– За «Общей столовой» в доме Кунста давно следят.
– А мы считали арест делегатов от судовых команд во время собрания в столовой случайностью…
– Командование крепости готовит удар, вернее, расправу, – раздраженно продолжал я. – Флуг вызывает из Раздольного эскадроны драгун и казачий полк… Иессен отправил в море крейсеры…
– Поэтому мне нужно уехать и скорее вернуться.
– Ну, как знаешь, – проговорил я.
Мы шли по обрывистому берегу Амурского залива, в сторону вокзала.
Над водой ползли густые клочья тумана. Воздух был сырой и холодный. В просветах между темно-серыми рваными тучами светили редкие звезды.
– Хорошо, что ты начинаешь понимать смысл происходящего, – облегченно вздохнула Вика. – Я рада, что ты привыкаешь различать правду.
– Нет, Вика. Для меня все стало еще запутаннее…
– Наступит время – и все прояснится.
– Не знаю… Вряд ли…
– Обязательно прояснится. Сердцем ты наш. Если бы ты был не с нами – не стал бы раскрывать секретов, доверенных тебе.
– Это не то, Вика. Я не хочу, чтобы сотни людей попали в тюрьму и на каторгу. Боюсь, что с тобой может случиться что-либо…
Вошли в вокзал. Поезд стоял на путях. По перрону прохаживались редкие пассажиры с чемоданами и саквояжами.
– А помнишь, Вика, как ты провожала меня?
– Как это было давно! Как много изменилось с тех пор и как много осталось по-старому!
– Я такой же, каким и был…
– Это неправда, – слабо улыбнулась Вика. – Ты теперь наш. Ты будешь с нами обязательно, – говорила она, стоя на подножке вагона.
Пронзительно и тревожно засвистел паровоз. Громко зафыркал, выбросив под колеса густые кольчатые клубы серого пара.
Гибкие, горячие руки неожиданно обвились вокруг моей шеи. Вика молча прижалась щекой к моему лицу. И сразу же, словно испугавшись порыва, отстранилась. На разгоряченном лице гасла смущенная улыбка. Что-то по-женски жалкое, усталое уловил я в глазах ее, смотревших на меня с пристальным вниманием.
Громко залязгали колеса, двинулись вагоны, набирая ход. И когда поезд скрылся в туннеле, я все еще ощущал на лице прикосновение мягкого, теплого, дорогого.
8
«Тяжко знать намерения враждующих и оставаться в стороне, – думал я, лежа на диване в каюте. – С кем я? С людьми, которыми командую? Я им чужд. У них свои интересы, своя жизнь, свой путь».
Я вспомнил, как резко изменилось за последние несколько дней их отношение ко мне. Стремлением установить на корабле порядок я встал на их пути досадным препятствием. Мне было понятно это. И все же я не хотел отступаться от своего.
«Я пойду к ним. Они всегда понимали меня, а я любил их, как только может любить командир своих подчиненных». Я уцепился за эту мысль, словно утопающий за соломинку. Находиться в одиночестве больше не мог. Я хотел видеть матросов, говорить с ними, понимать их.
Встал. Застегнул на все пуговицы китель. Вышел из каюты. В носовом кубрике было немноголюдно. Отсутствующим взглядом встретил меня хозяин трюмных отсеков Иван Пушкин. На выбритом красивом лице Чарошникова было написано выражение безразличия. Мне показалось, что в кубрике слишком душно. Ушел.
Проходя мимо баталерки, услышал за переборкой голоса. Открыл дверь. Решетников и Шаповал, словно онемев, стояли с раскрытыми ртами. Пойлов сидел в углу, в тени, и мрачно хмурил брови. Нашиванкин смущенно улыбался.
Я понял сразу значение их сходки и пожалел, что вошел. «Наверно, считают, что шпионю», – подумал я, испытывая стыд.
И снова – один в каюте. Она стала еще теснее. Безжалостно давили на меня стены и подволок.
Выход нашелся неожиданно. Приказом по флоту за беспорядки на вверенном мне миноносце я был снят с должности командира. Командовать «Скорым» пришел лейтенант Штер. Меня назначили на старый, совсем износившийся «Безупречный», давно уже отплававший свой срок.
Перед уходом я спустился в носовой кубрик. Матросы ужинали. Вкусно пахло щами.
– Садитесь с нами, покушайте, ваше благородие, – сказал Иван Пушкин, обернувшись ко мне, – не гнушайтесь нашим хлебом-солью.
– Просим вас, – предложил Антон Шаповал.
– Будьте гостем, Алексей Петрович, – быстро проговорил Дормидонт, вставая и неумелым жестом предлагая мне сесть.
Я ощутил что-то горячее в глазах. Чувствуя перекатывающийся ком в горле, я сел за стол, взял ложку – так, словно никогда в руках не держал.
– Вот воевали мы вместе и на смерть ходили вместе, а теперь расстаемся с вами, ваше благородие, – пытаясь придать голосу больше бодрости, грустно произнес Пушкин. – А в общем, довольны вами мы, все матросы… потому как старались в обиду нас не давать…
– Немец этот длинный покажет теперь, почем фунт лиха, – пробурчал сидевший в конце стола Алексей Золотухин.
– Добра не жди, – подтвердил Дормидонт.
– А меня простите за то, что изводил вас тогда, помните, на минном учении, – привстал Порфирий Ро́га.
– Спасибо вам всем за службу, – ответил я. – Доволен и я вами и помнить всегда буду вашу отвагу и преданность…
По собственному желанию со мной вместе перешел на «Безупречный» мичман Алсуфьев. Матроса первой статьи Шаповала и хозяина трюмных отсеков Пушкина Штер списал с корабля в первый же день. Он считал их главными зачинщиками беспорядков.
Придя на «Безупречный», я заметил сразу, что корабль небоеспособен. Матросы смотрели на службу как на ненужную повинность и отбывали положенный срок, словно незаслуженное наказание. Отказы от заступления на вахту были в порядке вещей. Матросы выражали открыто свое недовольство. Стена недоверия закрывала путь к сознанию и сердцу матроса. Но здесь мне было легче. Я был для них новый командир. Матросы, как и полагалось, смотрели на меня изучающе, с подозрением. Прежней боли от этого я не испытывал.
На очередном смотру «Безупречный» стоял во второй линии, против «Скорого». С острой ревностью глянул я на палубу своего корабля. (Я еще не мог привыкнуть к новому положению и «Скорый» по привычке считал своим.) Там стояла выстроенная в две шеренги команда. Перед строем уверенной, прыгающей походкой прохаживался лейтенант Штер.
К правому борту «Скорого», урча мотором, подошел катер под флагом командующего. Из катера вышел контр-адмирал Иессен в сопровождении капитана второго ранга Балка и флаг-офицера. На приветствие адмирала команда ответила молчанием. На миноносцах стало совсем тихо. Что-то сейчас произойдет? Нет, ничего не произошло. Иессен медленно прошелся вдоль строя, вяло махнул рукой и стал спускаться по трапу обратно.
Голубой адмиральский катер отошел от борта и направился к «Безупречному».
– К нам идет косорылый! Уже подходит! – зашумели в строю.
– Не станем отвечать на приветствие! – громко сказал кто-то во второй шеренге.
– Не будем! – пронеслось вдоль строя.
Иессен вступил на палубу. Шеренги замерли. До середины строя адмирал шел молча. Бесстрастное лицо его было серее, чем обычно. Нервно вздрагивали красные веки.
– Здорово, братцы матросы! – глухо произнес адмирал.
– Здравия желаем, ваше превосходительство, – раздалось несколько голосов.
На непроницаемом лице командующего появилось что-то похожее на улыбку.
– Барабанная шкура! – зашикали на минно-артиллерийского содержателя Цуканова. – Все выслуживаешься! Достукаешься!
– Есть недовольные службой? – вяло спросил Иессен, обводя строй потухшим взглядом.
Все молчали. Адмирал приблизился к рулевому Гвоздееву, поднял указательный палец в уровень лица.
– Чем ты недоволен, братец? – вкрадчивым голосом спросил Иессен.
– Чем недоволен, спрашиваете? – угрюмо произнес Гвоздеев и, помолчав немного, ответил: – Службой, ваше превосходительство.
– Это почему же, голубчик?
– Домой пора. Там одни старики, работать некому. Да и хватит. Я свое послужил.
– А как же я? Вот уже тридцать третий год верой-правдой служу царю-батюшке.
– Вам пахать не надобно. Мужики за вас пашут. А нужды вы не знаете, потому как земли у вас много, ваше превосходительство, а у меня ее, землицы-то, – с лапоть.
От неожиданности адмирал растерялся. Потом охнул и рассмеялся дребезжащим, старческим смехом:
– Ну и рассмешил же ты меня, братец. Земли – с лапоть. Ха-ха-ха!.. Это ты хорошо сказал… Но ведь землю я не отбирал у тебя… И ни у кого не отбирал. Она-то, землица, перешла ко мне от отца, а отцу от деда. А моему прапрадеду даровал эти земли за верную службу на флоте царь Петр Великий… То-то вот, братец.
Выйдя из неловкости, Иессен не стал больше расспрашивать матросов. Поговорив для приличия с офицерами, командующий покинул миноносец.
– Бить надо таких адмиралов, – тихо сказал Гвоздеев, не заметив меня.
– При случае нелишне сбросить за борт в море, – ответил сосед, кивнув в сторону адмиральского катера, стоявшего у борта.
Вечером я зашел к Алсуфьеву. Он сидел за столом в белой, праздничной сорочке, читал книгу.
На книжных полках стояли и лежали игрушечные бизоны, крокодилы и леопарды, привезенные из Шанхая. Мичман ревностно коллекционировал безделушки из фарфора, изображавшие зверей. Это было его слабостью.
– Вы довольны смотром, Алексей Петрович? – весело спросил Алсуфьев, встречая меня.
– В восторге, – ответил я.
– Как вам понравился Иессен?
– Он был такой же, как всегда, Андрей Ильич.
– А здорово его пригвоздил к палубе рулевой, – искренне заулыбался Алсуфьев. – «У тебя земли много, а у меня – с лапоть». Здорово!
– Не в этом ли корень всех беспорядков и бед на флоте, Андрей Ильич? Один богат, другой – беден. Одни трудятся, а другие сладко живут. Отсюда все исходит.
– Не любят матросы господ, это верно. В особенности ненавистны матросам ирманы, флуги, иессены. Но неужели эти самодовольные бароны и графы не понимают того, что так дальше нельзя! – с жаром продолжал Алсуфьев. – Ведь ни уговоры, ни посулы больше но помогут. Надо удовлетворить требования матросов. На мой взгляд, они законны.
– Да, конечно, законны, – подтвердил я, думая о своем.
– Так почему же их не удовлетворяют? – пожал плечами Алсуфьев.
– Боятся, что матросы большего потребуют, – ответил я.
– А по-моему, дело не в обычных недовольствах нижних чинов, – встряхнул головой мичман, рассыпав на лоб светлые, цвета соломы, волосы, – тут куда сложнее. Все дело в государственном устройстве, в правлении страной. А верховная власть расшаталась. Россия – громадный износившийся дредноут. Старый корабль окончательно обветшал, на слом ему пора, – задумчиво проговорил Алсуфьев. – Надобна перестройка.
– Да, надобна, – согласился я. – Но кто сделает это? Царь? Не станет он этого делать. В этом мы уже убедились. Царский манифест – фикция.
– К тому же рассчитанная на глупцов, – добавил Алсуфьев.
– Теперь и матросы это хорошо понимают. И ни один честный офицер не станет их обманывать, – горько усмехнулся я, вспомнив, как после возвращения из Шанхая собирался прочитать команде лекцию о манифесте.
– И все же обновление России возможно, – уверенно проговорил Алсуфьев. – Не знаю, как это будет, но верю, что совершится. Наступит же время, когда не станет ни привилегий для отдельных, ни ограничений для многих. Люди станут свободными и равными. Думается мне, что совершат это сами люди и не спросят ни у кого соизволения.
– Но для этого ведь не настало еще время, – с сомнением произнес я. – Теперь же возможна лишь кровопролитная междоусобица, не больше. Потом… когда-нибудь… позже…
– Я хочу дожить до этого прекрасного времени, – просто сказал мичман. – Хочу еще послужить России, поплавать и принести людям пользу.
– Хорошо бы… а пока – тяжело, Андрей Ильич. Иногда места не могу себе найти, – пожаловался я.
– Все зависит от себя, – сказал Алсуфьев задумчиво. – Я полагаю, что на вещи и факты нужно смотреть трезво и смело… верить в человека и в себя. А то, что матросы требуют, или, как говорит начальство, «нижние чины безобразят», так это – сама жизнь, и против нее не пойдешь.
– И все-таки трудно. Трудно, потому что непонятно и ничего не видно, как в тумане.
– Иногда я тоже задумываюсь над смыслом жизни, и – нелегко становится, – смущенно произнес Алсуфьев, – а так… ничего.
– Вы еще очень молоды, Андрей Ильич, и все вам кажется просто.
– Вы тоже, Алексей Петрович, не старик, – мягко улыбнулся мичман. – Тужить о старости рано.
– Я не о старости. Другое меня мучит…
Беседа с Алсуфьевым не принесла облегчения. Густая неотвязная боль сидела глубоко внутри, и выгнать ее было невозможно. Не покидала меня она ни днем, ни ночью.
Не помню, как и откуда пришло это. Оно вошло в меня внезапно, как в раннем детстве врывается в ночь яркое утро с пением птиц, запахом трав и деревьев. Я ощутил вдруг необычную свежесть чувств, ясность мысли и удивительную легкость в теле. Или уж так устроен человек, что после душевного бремени обязательно должно наступить облегчение? Ко мне оно пришло без причины и неожиданно.
Все было так же, как и раньше. «Безупречный» стоял у причала. Матросы драили тертым кирпичом медные поручни и люки. Швабрили палубу. Солнце купалось в лужицах воды, разлитых по всему кораблю, по-осеннему нежно согревало матросские лица и руки. Яркий свет лежал на всем: на сопках, домах, деревьях. Поверхность бухты отражала несказанную голубизну неба с редкими облачками в глубине.
«Сегодня должно произойти что-то важное», – подумал я и сразу же забыл об этом.
Все шло привычным чередом, как и полагалось в воскресный день. После окончания приборки, когда миноносец сиял блеском отдраенных медяшек и белизной прошвабренной палубы, прозвучала дудка:
– Всем наверх! Водку пить!
Матросы, перебрасываясь шутками, выходили из нижних помещений. Медленно, с наигранной важностью подходили к баталеру, сидевшему за столом, на котором красовался бочонок, наполненный водкой. Грузный черноусый баталер Ухов привычно орудовал черпаком, ловко наливал водку в протянутые чарки.
Отобедали. Ушла в увольнение вторая смена. Я сошел на причал и стал медленно расхаживать по усыпанной желтым песком бетонированной дорожке. У деревянных ворот остановился и в светлом раздумье стал смотреть на синюю гладь бухты.
Внезапно я почувствовал позади чье-то присутствие. Обернулся. В трех шагах стояла Вика, взволнованная, посвежевшая, родная. С зажмуренными глазами и неловкой улыбкой, она, казалось, вышла из синевы и яркого света.
– Ты? Приехала? Здравствуй!
– Здравствуй, Леша! Я еле нашла тебя… Ведь ты был на «Скором»?
– Был… Я так рад, что ты приехала сегодня, Вика, и пришла сюда… Знаешь что? Едем!
– Куда?
– Куда-нибудь. За город. Ну, хотя бы в Лянчихе или Дефриз. Мы не были там давно.
– Едем, – охотно согласилась Вика, – сегодня я свободна от всего.
На углу Ботанической я нанял извозчика. По главной улице города навстречу нам толпами шли празднично одетые люди. Когда выехали за черту города, глазу открылась панорама моря и желто-коричневых сопок с нависшим над ней сияющим куполом.
Я почувствовал вдруг, что мы совершенно одни: Вика и я. День, наполненный осенним теплом, тишиной да синью моря и неба, расстилал свои краски и, казалось, уходил в бесконечность. Я весь был полон изумительным ощущением жизни, здоровья, бодрости. Рядом – Вика. При каждом толчке я чувствовал прикосновение худенького плеча. От рук ее пахло теплом, кружащим голову.
– На этот раз я даже побывала дома, – задумчиво проговорила Вика. – Мама постарела и… очень плакала, когда прощались… Папа стал неразговорчив. Все пишет что-то. Сидит чаще один в кабинете. Собирается уйти в отставку.
– Славные у тебя родители, Вика… А я даже не помню своей мамы… Мне хочется вместе с тобой как-нибудь поехать к твоим…
Вика смолчала.. Я догадался, что продолжать этот разговор ей не хотелось. Откинув голову, она смотрела на причудливые нагромождения скал, нависших над дорогой. Лицо ее постепенно светлело.
– Ты не знаешь, как я жила эти годы, – заговорила Вика. – А если бы ты знал, как мне хочется, чтобы и ты прошел все это вместе со мной. И кружок, и ссылку, и… Спасск, очень памятный мне. Школа наша была на самой окраине города. Там и жила я. А бывать приходилось везде. Возвращаешься, бывало, ночью домой – страшно. Трудно иногда приходилось. А тут еще привязался ко мне с ухаживаниями адвокат местный… Он и выследил, и предал меня. Заинтересовался, где я пропадаю вечерами. Шел следом за мной и напал на явочную квартиру. Арестовали меня на другой день. Потом Сибирь…
Вика умолкла. Смотрела задумчиво вдаль.
Я же полон был счастья. И мне нравилось все: гулкая каменистая дорога, тряска, пестро раскрашенная дуга с колокольцем, красный затылок кучера и его картуз. Мне хотелось совершить что-нибудь необыкновенное. И я жалел, что никто в эту минуту не тонет, никому не угрожает опасность быть раздавленным лошадью, чтобы можно было броситься и спасти…
Приехали в Лянчихе. Оставив у трактира изумленного кучера с четвертным билетом в кулаке, мы направились вниз, на берег залива. Нас встретил лодочник кореец, с темным и блестящим, словно от масла, лицом. Сопровождая слова бесконечными поклонами и угодливой улыбкой, он говорил:
– За полрублей, капитана, перевезу туда… на другое берега.
Мы сели на переднюю банку. Лодочник, не переставая улыбаться, столкнул в воду «юли-юли» и долго, держась рукой за борт, шел следом. Я знал, что по обычаям его страны это считалось проявлением вежливости, но мне было неловко за него. Греб он старательно, и лицо его, покрытое бисеринками пота, блестело. Улыбка была простая и искренняя, она говорила: «Я рад, что вы оба счастливы, капитана и барышня… и хорошо, если дадите на мою бедность не полрубля, а целый рубль…»
Саженях в пяти от берега я взял Вику на руки и вступил в воду. Я нес ее и не знал, отчего мне так радостно, весело: то ли оттого, что холодом режет ноги, то ли потому, что на руках у меня Вика.
Лес вплотную подступал к берегу с песчаной косой внизу. Деревья, обвитые хмелем, стояли спокойно, задумчиво. Вяло шумели листья, рассыпая еле слышный звон. На зеленых, протянутых, словно руки, ветвях играли жидкие отсветы солнца. На воде лежали густые неровные тени.
– А мы здесь были, – с восхищением глядя наверх, сказала Вика. – Только кажется, словно во сне это было.
– Вот здесь мы ловили ракушек, – узнавая знакомую бухточку, сказал я. – И ты их ела, а я варил их на костре.
– Потом ты обжег руку, а я обвязала ее листьями.
– Давай попробуем, может что-нибудь поймаем.
Нагнувшись над водой, мы стали рассматривать дно. Зеленоватую толщу насквозь пробивали лучи. Обитатели моря были хорошо видны. Неподвижно лежали на камнях фиолетовые морские ежи и звезды, полосатые офиуры и брюхоногие моллюски, красивые, пестро раскрашенные голотурии и планарии. Из травы выпорхнуло несколько рыбок. В зарослях красно-зеленых растений закопошились креветки. Глубже и дальше белыми грудами лежали ракушки. Все эти годы здесь никто не нырял за ними. Их стало больше, чем было. Я нашел выброшенный прибоем шест и принялся вытаскивать ракушку. Если бы на конец шеста прибить гвоздь, то было бы совсем нетрудно доставать их со дна. А так ракушки скользили из-под шеста.
– Эх ты, горе-ловец, – вмешалась Вика. – Совсем разучился. Дай я попробую…
Шест долго находился в воде и был очень тяжел. Вика с трудом управляла им, но настойчиво пыталась вытащить на берег ракушку. Оставалось меньше сажени, чтобы взять ее рукой, когда ракушка ускользнула.
Обласканные голубым отражением света, сидим у воды, на камне. Море – в вялых морщинах – спокойно. В прозрачной дали тянутся к небу сине-лиловые сопки.
– Мы уедем отсюда, Вика, далеко… за эти вот сопки… на запад…
Вика задумчиво, молча кивнула головой.
– …увидим Черное море, Крым, Кавказ. Мы будем двое и счастливы.
– Возможно, – безвольным шепотом произносит Вика. Темные глаза лучатся мягким светом. Выпуклый смуглый лоб покоен.
– Когда-то ты мечтала плыть далеко… хотела видеть, как живут люди в других краях…
– И как мало пришлось плавать и ездить… Только Приморье да Нарымский край – вот и все, где я была.
– Поездим… Россия велика, а времени у нас много…
Лениво размахнувшись, я бросил в воду камешек. Булькнув, он всколыхнул поверхность воды. Гладь заволновалась расходящимися кругами.
– Велика Россия, – вздохнула Вика, – только спит она тяжким сном. Народ оковы рабские носит. А я хочу видеть родину свободной, людей – счастливыми…
– Но путь, которым вы хотите добыть свободу, приведет к гибели тысяч людей, Вика. И убивать станет русского русский. Не излишне ли жесток этот путь?
– Другого нет. И путь этот совсем не новый. Борьба между богатыми и бедными существует с тех пор, как человек в первый раз сказал: «Это мое». Не станет ни войн, ни восстаний, когда все люди скажут: «Это наше».
– Я боюсь, что ты погибнешь в этой борьбе, Вика… дорогая.
– Об этом я не думала. Некогда было.
– Ты всегда была такой… отчаянной.
– Такой, видно, родилась, – грустно улыбнулась Вика.
И снова мы говорили, не помню о чем, понимая друг друга с полуслова. Старались не возвращаться к тому, что ждало нас впереди и разделяло…
День этот был велик. Каждая секунда раздвигалась в отрезок жизни.
Когда возвращались обратно, на западе багрово полыхал закат, темные тучи на горизонте купались в громадной алой реке. Подкравшийся вечер пугал меня. Я боялся, что счастье уйдет внезапно, как пришло, оставив по себе мучительно-тревожный след.
Ужинали втроем. Худенькая, опрятная учительница, подруга Вики, по виду старше ее лет на десять, была за хозяйку. Звали ее Аделаидой Савельевной. С нежностью любящей сестры относилась она к Вике. Светло-голубые близорукие глаза Аделаиды Савельевны сияли от радости, когда она накрывала на стол. Она старалась все делать сама, как будто Вика была очень редкой гостьей в ее доме. Ко мне она отнеслась просто, по-дружески, словно знала давно. Вика надела длинное, до каблуков, белое полотняное платье с мережками на груди и рукавах, подошла к зеркалу, оправила волосы. Я чуть не ахнул. К ней очень шло это платье, делало ее другой, удивительной. Вика подошла ко мне и, улыбаясь, просто сказала:
– Вот мы и дома. Сейчас сядем за стол. Как хорошо быть снова вместе…
– Ты сейчас такая красивая, Вика, что нет слов выразить…
– Не хвали, я бываю совсем другой, – она шаловливо погрозила мне пальцем.
Я осмотрелся. На письменном столе лежали книги, журналы. Я взял лежавшую сверху брошюру. Тонкими красными линиями были очерчены отдельные абзацы. Страницы пестрели пометками, восклицательными и вопросительными знаками. Тут же лежала стопка газет. Все в комнате: книги, мебель, занавески на окнах – было аккуратно, опрятно. По всему было заметно, что здесь живут женщины, да еще учительницы. И все это освящено присутствием Вики. Она жила здесь, дышала, прикасалась к вещам.
Сидя за столом, мы больше говорили, чем ели. Аделаида Савельевна была учительницей литературы, и мы говорили о любимых писателях. Вика продекламировала отрывок из «Мцыри». Я никогда раньше не слышал, чтобы она читала стихи. И это почему-то взволновало меня. Потом мы пели втроем: «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна…»
Вика сидела напротив, смотрела на меня задумчиво, с грустью. Держалась по-домашнему, легко и просто. На сердце у меня было покойно, уютно. Не хотелось уходить отсюда. Когда собрался на корабль, Вика встала.
– Несколько дней я буду занята, – сказала она. Что-то в лице ее дрогнуло. – Ты будешь нужен мне, Леша… Я дам знать, я позову. Ты придешь?
– Об этом не нужно спрашивать, Вика, – ответил я, испытывая тревогу. – Я приду к тебе куда угодно. Приду.
9
Минный батальон, расквартированный в бухте Диомид, восстал накануне суда над арестованной летом Первой ротой. Совместно с прибывшими на шлюпках матросами минеры атаковали казармы Десятого полка, несшего охранную службу. Это произошло на рассвете.
В обед оттуда вернулся минно-артиллерийский содержатель Кузьма Цуканов. Он носил в контрольно-ремонтную мастерскую приборы Обри для проверки. Старый служака рассказал мне:
– Вечером из города прибыли в Диомид возмутители: человек двадцать матросов и двое штатских. Они прошли в казармы Второй роты к минерам и стали смущать тех крамолой. Утром минеры и взбунтовались. По сигналу «Рота, подъем!» они бросились к пирамиде, разобрали винтовки. Командир роты капитан Юшкевич уговаривал, приказывал и просил, чтобы те сложили оружие. Кто-то из задних рядов выстрелил и тяжело ранил господина капитана.
Тогда выход на улицу загородили фельдфебель и унтер-офицеры… так их загнали в угол, крикнули «Шкуры» и стали колоть штыками. Мой земляк Гордей Плюта, царствие ему небесное, умер в казарме до пришествия фершала.
Цуканов вытер платком глаза, поморгал покрасневшими веками и продолжал:
– Выйдя на улицу, взбунтовавшиеся минеры направились к казармам Десятого полка, освобождать арестованных. С ними двое штатских, что прибыли накануне. Один был мужчина, а вторая – женщина. Обыкновенная женщина.
Я вздрогнул, словно от удара.
– Ты сказал, среди них была женщина?
– Да, конечно.
Мне сразу пришло в голову, что эта женщина – Вика.
– Рассказывай, что было дальше, – приказал я.
– Они пели песни про какие-то «вихри враждебные». А когда патруль открыл по ним огонь, рассыпались в цепь и стали кричать: «Братцы, не стреляйте! Свои!» Тут подоспел полковник Рацул с ротой солдат. Солдаты залегли в цепь, но стрелять по минерам не стали.
Тогда их благородие господин полковник приказал офицерам открыть огонь из пулеметов. Минеры залегли. Неизвестного мужчину убило сразу же. Минеры поднялись, пошли. Женщина шла впереди. Минеры, стреляя, бежали следом. Видя, что захватить казармы охранного полка не удастся, минеры стали уползать обратно. Кое-кто убежал в город. А большинство бунтовщиков, ваше благородие, укрылось в сосновом лесу. Но их никак не могут взять, проклятых, – закончил Цуканов.
Коричневые маленькие глаза его злобно блеснули. Медно-красное, обожженное солнцем лицо расплылось в угодливой, льстивой улыбке.
– Подойти бы на миноносце, ваше благородие, со стороны Уссурийского да и жахнуть – сдались бы. Сцапали бы всех сразу, без пролития крови…
Возмущенный словами Цуканова, я смолчал. «Недаром же матросы называют тебя барабанной шкурой, – подумал я. – Какая лакейская душа!»
Я представил себе людей, мечущихся в западне, со смертной тоской в сердцах, почувствовал всю отчаянность их положения.
Это был даже не лес, где они скрылись, а чудом сохранившийся клочок шумевшей здесь когда-то тайги.
Спрятаться там и снасти жизнь было невозможно. Это была лишь оттяжка неминуемой жестокой расплаты.
Отпустив Цуканова, я заметался но каюте, словно в клетке. Восстание в Диомиде представилось мне с жуткой ясностью. Я увидел мглистый, туманный рассвет и розоватый огонь из пулеметных глоток. Почувствовал горячий запах сгоревшего пороха. Увидел Вику, торопливо шагающую впереди минеров, потом бесстрашно бегущую навстречу свинцовому ливню.
«Где бы она ни находилась – ей грозит смертельная опасность. Как спасти ее? Где искать?»
Я одевался, чтобы поехать в Диомид, когда доложили, что меня хочет видеть какой-то штатский.
В каюту вошел Дормидонт Нашиванкин. Он был встревожен, имел усталый вид.
– Я принес вам письмо, – глухо произнес он, расстегивая плащ и раскрывая на груди клинышек тельняшки.
«Из Диомида и переоделся наспех», – подумал я.
– Спасибо, Дормидонт, – с трудом сдерживая волнение, ответил я.
«Вика жива! От кого же еще он мог принести письмо». Я торопливо разорвал конверт и прочитал:
«Дорогой Алексей!
Жду тебя сегодня в семь часов вечера. Приходи обязательно. Ты очень нужен. Меня найдешь на Суйфунской, 21, во дворе направо, первая дверь».
Подписи не было.
– Спасибо, Дормидонт, – еще раз сказал я. Он не уходил, хотя повернулся было, чтобы уйти. Остановился в нерешительности и нервно комкал в руке снятую по привычке фуражку.
– Товарищ Надя зовет вас по очень важному делу, – тихо сказал Дормидонт.
– По письму вижу, что по важному.
– Дело это важное, Алексей Петрович, для всех нас, матросов, да и не только матросов… это самое важное для хороших людей, что только может быть, – волнуясь, проговорил он.








