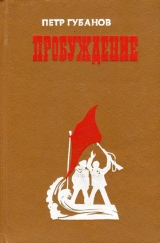
Текст книги "Пробуждение"
Автор книги: Петр Губанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Справа и слева от «Скорого» поднялись фонтаны воды, ядовито-зеленые у основания, блестяще-белые вверху. Залп. Еще залп. Взорванные бело-зеленые водяные массы окатывают серые тела трех миноносцев. Их корпусы содрогаются и гудят, как гигантские камертоны…
«Маньчжур» орудийным огнем ударил в спину и сердце восстания. Рядом с ним стоят на якорях верные правительству «Статный» и «Смелый». К ним подошел «Грозовой» и отдал якорь. Выход из бухты закрыт. «Сердитый» и «Бодрый» поворачивают на обратный курс и идут к месту своей стоянки, к стенке Строительного порта. По вспененной снарядами прозрачно-зеленой воде идет «Скорый» еще несколько секунд том же курсом. Потом ложится, на циркуляцию. Теперь он остался один против трех миноносцев, канонерской лодки и верных правительству крепостных батарей. Отстреливаясь, «Скорый» шел в глубь бухты, в сторону Гнилого Угла, и громко завывал сиреной, словно звал кого-то на помощь. Желто-зелено-белые водяные холмы вставали по курсу, справа и слева. Осколки стальным дождем хлестали по корпусу и надстройке, сметали людей, стоявших у орудий. По бухте перекатывалось пенное кружево.
«Боже мой! Что делается!»
Во мне заклокотала ярость. В этом неравном поединке я видел убийство. Дух мой восстал в защиту людей, мечущихся но узкой бухте на железной коробке. И я невольно подумал о том, как ничтожен командир без судовой команды. Соблазн смять минной атакой строй верных правительству кораблей был велик. Но кому скомандовать на минный аппарат и орудия? Корабль пуст.
В Гнилом Углу рота солдат встретила «Скорый» ружейной стрельбой. Дав несколько залпов по развернутой в цепь роте лейтенанта Шишко, «Скорый» повернул на обратный курс. Он несся полным ходом, поднимая форштевнем серебристо-белый бурун. На корме его полыхало пламя, изнутри тяжелыми клубами валил желто-бурый дым. Пожар никто не тушил. На захламленной расстрелянными гильзами палубе валялись убитые, корчились раненые. Помочь им некому. Кто мог еще стоять, находились у орудий. Запомнилась напряженно наклонившаяся фигура Якова Пойлова, загонявшего снаряд в казенник. Он заряжал носовую пушку, наводил ее и стрелял. Пушкин и Сивовал, перешагивая через трупы погибших товарищей, подносили снаряды.
В это время на мостик поднялась Вика. Она огляделась, резко откинула голову. Прислонилась к обвесу, чтобы удобнее было стоять на ходу. Ни товарища Кости, ни Чарошникова рядом не было. Дормидонт, надвинув на брови бескозырку, сгорбившись, крутил рулевой штурвал. Вика, держась за поручень, шагнула к нему, чтобы сказать что-то. Хлесткий встречный ветер растрепал ее волосы. А в следующий миг фонтан воды, поднятый взрывом у борта, окатил мостик, злобно ударил в лицо Вике белыми брызгами. Она закрылась рукой, словно водяные брызги были страшнее осколков…
«Скорый» на этот раз проходил близко от «Безупречного». До последнего часа не забуду Вику, какой запомнилась она мне в этот миг. Вика же опять не заметила меня.
Мне почему-то вдруг вспомнился бьющийся о затонувшую баржу вельбот и – Вика на волоске от смерти. Тогда я испугался, что ее захлестнет громадный вал со страшной косматой гривой. Но Вике суждено было жить…
«Скорый» шел на отчаянный прорыв. «Маньчжур», «Грозовой», «Смелый» и «Статный» в упор били по восставшему миноносцу из пушек. На «Скорый» обрушивались водяные смерчи. Он качался, как раненый воин. Изрешеченные осколками, валились матросы. Раздавались стоны. Потом прозвучал оглушительный грохот. Изнутри, вслед за выброшенными выше клотика кусками труб, повалил пар. Взорвался котел. «Скорый» волчком закружился на месте. Несколько человек прыгнули за борт в кипящую от разрывов зеленовато-белую пену. Когда пар немного рассеялся, я увидел, что на мостике – ни души.
«Убили!» – тупая боль сдавила мне горло.
Еще одни снаряд рванул на корме. Подхлестнутый новым взрывом, «Скорый» вздрогнул и на точке завершенной циркуляции повернул на выход из бухты.
Без капитана, с опустевшей палубой, притихший и неуправляемый, шел на врагов мятежный корабль. Пушки его молчали, но на стеньге мачты по-прежнему развевался красный флаг. Оставалось каких-нибудь двести метров до «Грозового», когда еще один снаряд угодил в «Скорый» и разворотил ему корму. Миноносец дал крен и с заклиненным рулем повернул в сторону.
Через минуту «Скорый» с лязгом и грохотом выбросился на берег. Снаряды «Грозового» продолжали рваться, разметывая мешки, сложенные в бунты против агентства «Алмазов и К°». Над интендантским грузом поднялись клубы мучной пыли…
Я выбежал с корабля на стенку, отвязал шампуньку, привязанную к угольной барже. Со злобным отчаянием греб, направляясь к поврежденному миноносцу.
«Вынесу ее из пекла, уберегу от ареста, спасу, – стучало в крови, пульсировавшей бешеными толчками. – Никто не имеет права убить ее. Я пронесу ее мимо солдат и жандармов, и никто не посмеет остановить меня».
У лестницы напротив памятника Невельскому трое жандармов кололи штыками рабочего, лежавшего на земле. Двое матросов в окрашенных кровью тельняшках лежали ничком. Иван Чарошников отбивался прикладом от наседавших жандармов. Незнакомый мне матрос полулежа стрелял из нагана в солдат, катившихся сверху. Лицо его было в крови, левая рука болталась, как плеть. По рукаву белой голландки бежала алая струйка. Все это показалось ненастоящим.
На изуродованном миноносце было много убитых. Я бегом поднялся на мостик. Свесив ноги, неловко подобрав под себя голову, лежал товарищ Костя в изорванной осколками кожаной куртке. Он был мертв.
В левом углу, разметав влажные черные волосы, лежала Вика. Лоб и щеки ее были мертвенно-бледны, глаза открыты. Они утратили живую черноту, сухо и слабо блестели. Я с ужасом понял, что значили обескровленный цвет лица и безвольные припухшие губы.
– Прости меня, Вика, – опустившись рядом с ней на колени, прошептал я.
Вика шевельнула рукой, но продолжала смотреть вверх незнакомым, отсутствующим взглядом. Я прижал ее маленькую руку к своему лицу. Рука была теплая. Я заметил, что рукав платья влажен от крови. Из-под спины расползлась алая лужица.
– Ты слышишь меня? – громко, испугавшись звука собственного голоса, позвал я.
Пальцы Вики слабо разжались, рука упала. Глаза смотрели безучастно, с покорным, неживым выражением. Сухой блеск в них потух.
«Умерла», – навалилось на меня неумолимо тяжелое, страшное. Я закрыл глаза Вики, встал.
«Что делать? Оставаться ли здесь, вернуться на «Безупречный»?»
Не отрываясь, всматривался я в странно изменившиеся дорогие черты, когда чья-то рука опустилась мне на плечо.
– Вы арестованы, – сказал кто-то за спиной.
Я повернул голову. Передо мной стоял жандармский ротмистр с холеным лицом.
Когда мы сходили с корабля, все было кончено. У борта «Скорого» подпрыгивали на одном месте два жандарма. Они яростно втаптывали в землю лоскутки красного флага, сорванного с мачты. Перепачканные песком и грязью, клочья материи рдели кусками содранного мяса и, казалось, взывали о мщении.
11
Грозно лязгнула щеколда. Я очутился во дворе крепостной гауптвахты. Передо мной – серое одноэтажное здание, окруженное забором. Окна маленькие, с решетками, под самой крышей.
Сопровождавший меня жандармский ротмистр открыл дверь камеры с серыми, как мокрая известь, стенами.
Заскрипели дверные петли. Заскрежетал замок. Прозвучали быстрые удаляющиеся шаги.
«Один!»
Я несколько раз смерил шагами длину и ширину камеры. Изучил надписи на стенах. Мыслей не было, только давящая страшная усталость в мозгу, в душе – опустошенность.
Из головы не выходила картина боя «Скорого». В ушах продолжали звучать залпы.
«Какой ужас! Какое жестокое убийство!»
Ночь принесла бурю. Вой ветра и шум дождя я слушал как причитания.
Чтобы увидеть, что делается на улице, мне пришлось устроить на нарах сооружение из двух скамеек и табуретки. Прижавшись лицом к холодному железу решетки, я всмотрелся в серую завесу дождя. В темноте ночи я различал чахлый кривобокий куст, согнутый ветром. Это была единственная зелень во дворе гауптвахты. Ветер стремился свалить его, дергал в стороны. Куст гнулся, шумел, роптал и гудел, рассыпая листья. Ветер неистовствовал, казалось возмущенный его непокорностью. Корни цепко держались за каменистую землю.
За оградой лежал безжизненный берег. Дальше было море. Я не сразу заметил в темноте серебристо-пенные проблески прибоя.
Я не слышал стука копыт двух арестантских кляч, но увидел телегу, тащившуюся вслед за ними мимо гауптвахты. Не слышал и окрика часового, осветившего фонарем темную массу. Тогда я не знал, что лежало в телеге под мокрой рогожей.
«Какому богу в жертву принес ее… во имя чего? – думал я. – Есть ли мера вины перед Викой? Стоит ли жить и… зачем?»
Я не умел разобраться в том, что произошло, не мог еще найти свое место в прошлом и настоящем. Не было точки опоры и силы преодолеть привычные понятия. И это было мучительно.
Выхода из ужасного тупика, казалось, не предвиделось. Я знал, что меня будут судить и, наверное, разжалуют за непринятие мер против вооруженного бунта, быть может даже сошлют в арестантские роты. И все-таки я цеплялся за жизнь. Всем существом ждал наступления утра, света, лучей.
Прошло несколько дней. Разум настойчиво требовал поисков истины. А путь этот был труден, как плавание в тумане.
«Одна ли на свете правда? – думал я. – И если одна, то кто был прав семнадцатого октября? Вика вместе с рабочим в кожаной куртке и восставшими матросами или те, кто расправились с ними?
Назимов погнался за «Тревожным» и за мной с полным сознанием своей правоты. Он был уверен, что поступает верно, исполняет долг, когда стрелял по «Скорому». Если бы лейтенанта Штера не застрелили в самом начале, он стал бы стрелять сам, чтобы не отдать восставшим вверенный ему миноносец. Дормидонт, Антон Шаповал и Виктория тоже вышли на бой, уверенные в своей правоте. Может быть, правы и те и другие? Нет, так не может быть».
Времени для размышлений было достаточно. Желание понять все до конца становилось все сильнее.
Шли дни, однообразные и серые, как стены камеры. На смену им приходили ночи, тревожные, как неизвестность. Утром ко мне проникал узкий луч солнца и оставался не больше часа. По лучам я считал сутки.
Недели тянулись медленно. Прошел чуть ли не месяц, когда меня повели на допрос. После полумрака и затхлого воздуха камеры колкий ноябрьский мороз приятно защипал щеки и нос, увлажнил глаза. На траве, деревьях, крышах домов задорно сверкал в лучах солнца утренний иней. На сизо-голубых раковинах капустных листьев, валявшихся по обочинам дороги, серебрились тончайшие паутинки. Дорога подмерзла, заиндевела. Я испытывал чувство радости, слыша в тишине утра гулкий стук собственных шагов. Сопровождал меня угрюмый горбоносый поручик. В тот день он был караульным начальником на крепостной гауптвахте. Он молчал, видимо считая неудобным начать разговор. Мне говорить не хотелось.
С каким-то нелепым восторгом всматривался я в причудливые узоры, нарисованные морозом на окнах домов, в знакомую бухту. Миноносцев у стенки Строительного порта не было.
Я думал, что конечный пункт следования – здание окружного суда на Посьетской, но мы почему-то повернули на Адмиральскую пристань.
– Куда это мы? – удивленно спросил я.
– На канонерскую лодку «Маньчжур», – сухо ответил молчаливый поручик.
– Зачем?
– С вас будет снимать допрос председатель следственной комиссии капитан первого ранга Раден, – с любопытством глянув на меня, разъяснил поручик.
– Ах, вот что… но неужели более подходящего места не нашли для следствия?
– Так удобнее… Вот уже месяц комиссия работает день и ночь. Столько работы, – пробормотал поручик. Почесал затылок, хмуро посмотрел на меня, сочувственно спросил: – Как это вас угораздило попасть в эту кашу?
Я не ответил.
Мы молча вступили на палубу лодки. В корме зияла пробоина.
«Неплохо стреляли комендоры», – усмехнулся я.
У входа в салон мне было приказано ждать, когда позовут. Семеро матросов сидели в полутьме, прямо на палубе, и тоже ждали. Их охраняли караульные солдаты. Арестованные непринужденно, громко разговаривали.
– И вы с нами, ваше благородие? – удивленно спросил один из них.
Я узнал Ивана Пушкина. Всмотревшись, заметил Алексея Золотухина и молчавшего Дмитрия Сивовала. Остальные были незнакомы. Все семеро, как узнал я после, были отнесены ко второму разряду виновности.
– Как же это вас? – сочувственно произнес Пушкин, не дождавшись ответа.
– Не знаю, – нехотя ответил я.
С минуту матросы молчали. Потом разговор возобновился.
– А ты знаешь, Иван, кто схватил-то меня? – послышался сиплый, простуженный голос Алексея Золотухина.
– И кто же?
– Да этот… чтоб ему пусто на том и на этом свете было, гаденыш мичман… граф этот, Нирод.
– И меня он же нашел вместе с Митрюхой на «Ксении», – Пушкин кивнул головой в сторону Сивовала. – В угольной яме спрятали нас братишки… и то разнюхал…
– Дормидонт, жалостливое сердце, пожалел изверга себе на погибель. А как нужно было застукать, – покачал головой Золотухин, – ах, как нужно было… Шипунов, Нашиванкин и я схоронились под колосниковую решетку. Все одно нашел. Собака. А так гулял бы теперь на свободе. Или в леса убежал, либо паспорт достал… Ищи тогда ветра в поле. Покойный Сашка Решетников, царство ему небесное, винтовку в руке держал. Не дал мне. А я не промахнулся бы…
– В другой раз будем умнее, – заметил молчавший все время Сивовал.
– Поумнеешь, Митрий, – Пушкин обнял его за плечи. – Вот покормим клопов еще месячишко на гауптвахте, потом каторги отведаем.
– Если бы карцером да каторгой дело-то обернулось, – заговорил незнакомый мне матрос, – а то – я узнал вчера от караульных солдат, – он снизил голос до шепота, – расстреляли минеров-то… публично… в бухте Тихой… закопали всех в одну яму и пропустили по ней маршем солдат.
– Да… дела, брат, – вздохнул сидевший в тени рядом с ним.
– И нас по голове не погладят, – заметил задумчиво Пушкин.
– Хорошо бы на каторгу, – тихо произнес Золотухин, – а коли расстреляют – худо…
– До самой смерти живы будем, – зазвучал чей-то бодрый, звенящий голос. – А коли на роду так написано – и умрем, братцы…
Дверь в салон внезапно открылась, и меня пригласили войти. Там сидели трое: капитан первого ранга барон Раден, военно-морской следователь, подвижный, как угорь, мужчина средних лет с землисто-серым, невыразительным лицом, и юркий чернявый писарь.
– Садитесь, – сухо произнес Раден, указав на кресло против себя.
Я сел.
– Вас отдал под суд комендант крепости за бездействие против вооруженного бунта на кораблях, – равнодушно и устало сообщил Раден. Поправил пенсне и так же ровно, безучастно продолжил: – По ходу дела против вас появились дополнительные обвинения. Здесь много неясного. Будем говорить начистоту. – Жесткий, упрямый подбородок его подался вперед, глаза смотрели колюче, сухо. – Я буду задавать вопросы. Вы должны мне отвечать, как подсказывает вам честь офицера.
Я молчал.
– Скажите, Лейтенант Евдокимов, почему вы семнадцатого октября после поднятия Андреевского флага, стоя на мостике «Безупречного» и имея под собой невзбунтовавшуюся команду, не приняли никаких мер, когда на «Скором» вспыхнуло восстание?
Я долго обдумывал ответ. Писарь скрипел пером, путал мысли.
– Мое вмешательство не помогло бы, – наконец сказал я. – Притом меня не послушались бы…
Раден побагровел.
– Не послушались бы… А почему на «Маньчжуре» офицеры смогли прекратить бунт? Потому что жизни не жалели ради спокойствия государства и сохранения престола. И второе. Скажите мне, почему вы не помешали поднять на «Безупречном» бунтарский флаг и даже не пытались привести нижних чинов к повиновению?
Ответить на это было трудно. Говорить неправду и испытывать неприятное чувство от фальши мне не хотелось. А раскрывать себя было ни к чему.
– Если разрешите, я воздержусь от ответа, – сохраняя присутствие духа, спокойно ответил я после недолгого раздумья.
– Можете. Вы имеете право, – холодно произнес Раден.
– Спасибо, – не удержался я от благодарности.
– Скажите, лейтенант Евдокимов, у вас есть семья? – спросил неожиданно военно-морской следователь. – Ну, словом, отец, мать, жена, дети?
– У меня нет никого.
– А скажем, привязанность какая-нибудь… любимая женщина? – голос следователя звучал тягуче, приторно, ласково.
– Нет, после прибытия из Шанхая, да и прежде, я жил уединенно… привязанностей никаких не имел… – и тут я насторожился, понял, к чему он клонит. Внутренне напружинился, готовый к новому неожиданному вопросу. В одну секунду решил, что о Вике не скажу ничего. Они не узнают от меня ее имени, кто она и откуда.
Следователь почувствовал что-то и сделал внезапный убийственный выпад.
– Вам знакома эта женщина? – ловким движением фокусника рука следователя поднесла к моему лицу фотографию.
В первый короткий момент я не понял, что это. Взял фотографию в руки. На ней была снята женщина. Она лежала. Ее тело до шеи прикрыто простыней. Лицо… неживое. И это была Вика.
Не знаю, заметил ли следователь, как дрожат мои пальцы, но сам я почувствовал это. В горле защипало, потом сделалось жарко. Заколыхалась перед глазами мутное пятно и заслонила изображение. Овладев собой, я всмотрелся в фотографию. Голова Вики лежала на валике, и черты лица были схвачены четко.
«Даже мертвую не оставили в покое».
Вика была такая же, какой видел ее на «Скором». Только мягче стал овал лица да губы словно припухли. Детское что-то и жалкое до слез появилось в ее худенькой шее. В левом верхнем углу – часть окна с казенной больничной занавеской. «Попала в анатомический покой», – подумал я.
– Эту женщину… видел однажды… мертвой… семнадцатого октября на «Скором».
– Все это нам известно, – разочарованно проговорил следователь.
– Зачем вам понадобилось находиться на мятежном миноносце после того, как верные правительству суда привели его в негодность для боя?
Я знал, что этот вопрос будет задан, и готов был ответить.
– Там остались секретные сигнальные книги. Я забыл передать их лейтенанту Штеру. Чтобы не пропали, я пришел сразу…
– Лейтенант Евдокимов незадолго до беспорядков был командиром на «Скором», – пояснил следователю капитан первого ранга Раден.
– Очень хорошо, – сказал следователь, делая какую-то запись.
– А вот имеются сведения, что вместе с этой женщиной видели вас на железнодорожном вокзале. Правда, сведения непроверенные, – проглотил фразу следователь. – Было ли это?
– Не было, – решительно и грубо ответил я.
Сидящие передо мной люди становились ненавистны мне. То, что они заставляют говорить неправду, все сильнее раздражало меня. Вопросы иссякли внезапно. Мне указали на противоположную дверь салона.
«Впускают в одну, выпускают – в другую», – усмехнулся я.
Выйдя в коридор, я услышал, как Раден говорил следователю:
– Я так и полагал. Все знавшие его офицеры утверждают, что жил он замкнуто, женщин не имел.
«Где же теперь Вика? – думал я, шагая впереди неразговорчивого конвоира. – Зарыли где-нибудь ночью без свидетелей, тайком. Но кто-нибудь да видел. Выйду на свободу – разузнаю».
В грудь ворвалась невыносимая грусть, когда увидел знакомый мрачно-серый забор гауптвахты и стены с решетчатыми окнами под крышей. Войдя в камеру, я был неожиданно удивлен и обрадован. На нарах, в углу, низко опустив голову, сидел Николай Николаевич Оводов.
– Николай… ты? – пронзенный внезапной жалостью к товарищу, тихо проговорил я, когда дверь камеры закрылась.
– Я, – безвольно отозвался Оводов. – Вчера вызывали на допрос. А на гауптвахте – две недели.
– Ну рассказывайте, Николай Николаевич, я ведь уже месяц здесь.
– Приятного мало. Предал суду меня генерал Ирман – за непринятие мер против вооруженного бунта. За командира «Сердитого» – его ранили – заступился Иессен. А я вот… здесь. И тюрьмы – не избежать. Я приказал отдать взбунтовавшимся нижним чинам ключи от снарядного погреба. И это – самое тяжкое обвинение, предъявленное мне. На допросе барон Раден на это упирал. И все хотел узнать, почему я отдал ключи, не помешал убить Куроша и удалился в каюту. А я и сам не знаю. Страшно было. Страшнее, чем на войне. Стрелять в своих, русских, – ужасно. А Курош получил по заслугам. Из-за таких, как он, страдает столько людей. Все камеры переполнены нижними чинами. С «Маньчжура» здесь чуть ли не треть команды. В камеру, где я сидел, поместили четырнадцать нижних чинов. – Оводов устало встряхнул головой и тихо продолжал: – Что станет с женой и дочуркой – не знаю. У них нет никаких средств к существованию. Жили на мое жалованье. Отец Веры, будучи женат вторично, умер внезапно и ничего не оставил дочери… Дочурку мы тоже назвали Верушей. Так что в доме у нас две Веры: большая и маленькая, – слабо улыбнулся Оводов.
Помолчав немного, он заговорил снова:
– Думаю и ничего не могу придумать. Как они будут жить? Как тяжело мне сейчас.
Он уткнул голову в колени. Тело его странно задергалось. Из горла стали вырываться глухие прерывистые звуки. Я отошел от него, прилег на нары, к которым успел привыкнуть, и до вечера не вступал с ним в разговор. Оводов напряженно думал о чем-то, сидя в углу. Временами принимался ходить по камере. Движения были неровные, нервные…
– Извини меня за слабость, Алексей Петрович, – начал он, подсев ко мне ближе. – Я страшно устал, и нервы…
– Я тебе сочувствую вполне, хотя никогда не знал, что такое семья, – с нахлынувшей теплотой проговорил я.
– А я ведь думал не только о них… о жене и дочери. За две недели здесь чего я только не передумал. Временами мне страшно делалось… Ведь рушится жизнь. Прежней прочной основы нет больше. Устои государства ослабли. Разваливается все. На всем – признак разрушения. Прежней России нет и, наверно, не будет. Я чувствую сердцем близкий конец всему… Будучи гардемарином, я научился сознавать себя значимой величиной. Мечтал продолжить деяния моих дедов. Ведь все они были моряками, ходили в кругосветные плавания и дальние вояжи. Некоторые дослуживались до адмиральских чинов. А иные… как я, становились жертвой возмущений и бунтов – службу кончали рано… Мой прапрадед Акинфий при восшествии на престол Екатерины Великой, будучи мичманом, находился в карауле на кронштадтском бастионе. Так за недопущение Петра Третьего в Кронштадт государыня наградила его производством через чин. А обернись дело иначе, лишился бы живота.
При вступлении на престол Николая Первого Оводов Ростислав очутился на Сенатской площади на стороне противников государя. Сидел в Петропавловской крепости и умер в Сибири…
– То было одно, теперь – совсем другое, – прервал я Оводова. – Прежде князья да дворяне боролись за власть и престол, теперь – простые люди. Они хотят, чтобы не было ни царя, ни дворян. Мастеровые, солдаты и матросы не хотят жить, как жили раньше. Я знаю, чего хотели и почему восстали матросы на «Скором». Кто из деревни – хотел земли побольше, кто из города – чтобы не заставляли на заводе работать по десять – двенадцать часов и чтобы заводчики платили как полагается. Они хотели равенства и свободы для всех.
– Но ведь никогда люди не были равными, – не соглашался Оводов. – Сколько существует Россия, всегда были мужики. Они пахали землю и растили хлеб. Были ремесленники в городе, чиновные люди и дворяне. С давних пор дворянин защищал, не щадя жизни, русскую землю, укреплял государство. У него – свое назначение.
– Я с тобой не согласен, – решительно возразил я. – Когда-то, очень давно, у людей незаметно и незаконно дворяне отняли и землю и права. – Я говорил ему то, что узнал от Вики и о чем думал в камере долгими осенними ночами. – Незаконное различие между людьми передавалось из поколения в поколение. Над этим прежде редко кто задумывался. Но всему есть предел. Ты видишь сам: Россия больна. А носитель болезни – дворянство, богачи. К счастью, выздоровление наступит.
– А если болезнь окажется смертельной? – с тревогой спросил Оводов. – И наступит хаос, анархия? Ведь все идет к этому.
– На мой взгляд, этого бояться не следует. То, что произошло и отчего мы очутились здесь, не бунт, не позорные беспорядки. Матросы на «Скором» и рабочие на берегу, те, которые палили из ружей в конных драгун, хотели равенства… равенства для всех и свободы. Их задачей было – стереть различие между людьми.
– Но ведь это неосуществимо. Против этого вся система государства, ее основа и корень.
– Отсюда и – кровавая междоусобица, – пояснил я. – Основа на этот раз взяла верх…
– А что бы получилось, если бы власть кругом, в крепости, гарнизонах, на кораблях, захватили нижние чины и мастеровые? – спросил Оводов.
– Не знаю, – ответил я.
Ночью Оводов не спал. Полежав немного на нарах, он встал и принялся ходить по камере из угла в угол, вдоль ее и поперек. Я несколько раз просыпался. Он ходил с низко опущенной головой – все думал о чем-то. Под утро я увидел его плачущим, но сделал вид, что не заметил.
Разговоры в последующие дни получались у нас отрывочные, незаконченные. Оводов вскакивал на середине фразы и принимался ходить в мрачном раздумье. Выглядел он очень усталым. На четвертые сутки с ним случилась истерика. И только после этого я догадался, что он болен.
Через комендантского адъютанта Верстовского, заведовавшего гауптвахтой, я потребовал врача из Морского госпиталя. Вечером прибыл оттуда врач, надворный советник Лемкул. Он осмотрел Оводова и нашел сильное нервное расстройство. Главный доктор госпиталя, действительный статский советник Рончевский, донес об этом рапортом коменданту крепости и просил отложить суд над больным офицером. В просьбе было отказано. Оводова оставили со мной. И он до суда находился в камере.
12
Меня и Николая Оводова судили вместе с участниками восстания на «Скором». В зале заседаний военно-окружного суда было душно и тесно от множества людей. Больше половины помещения занимали подсудимые: бывшие мои сослуживцы и те, которые пришли с других кораблей, когда началось восстание. Они сидели бок о бок на плотно сдвинутых во всю ширину зала скамьях. Нашиванкина я заметил сразу и очень обрадовался. Он сидел во втором ряду, недалеко от меня, печальный и бледный, с перевязанной рукой. Его привезли из госпиталя. Горькая улыбка тронула осунувшееся лицо Дормидонта, когда он увидел меня. «Жаль, что очутились здесь, но что поделаешь», – означала она.
Чарошников густо оброс черной бородой, был строг, задумчив, серьезен. В серых добродушных глазах его вспыхивали искорки любопытства, когда он посматривал на судей. Иван Пушкин казался вялым, рассеянным и безучастным. Слева от него сидел Алексей Золотухин с заострившимся, настороженным лицом. Он не сводил с членов суда зеленоватых глаз. С другой стороны боком прижался к Ивану Пушкину маленький, незаметный помощник хозяина трюмов Дмитрий Сивовал. Он был спокоен и, казалось, отдыхал после тяжелых авральных работ.
В первом ряду сидел Антон Шаповал. Он выделялся среди остальных могучим телосложением. Шаповал часто оглядывался и подолгу смотрел на товарищей изучающим взглядом, словно проверял – все ли так, как нужно. И на суде он не собирался сбросить с себя бремени добровольно возложенной ответственности. Все в нем говорило, что борьба не кончена и много придется еще бороться, защищать, доказывать. Если всех других объединяло выражение видимой или кажущейся умиротворенности, то в нем все дышало неуспокоенностью, протестом. На загорелом лице его напряжен был каждый мускул, каждая клетка. В темной глубине глаз светилась упорная мысль.
Подсудимые были одеты как попало: кто в бушлате, кто в шинели либо форменной рубахе – кого в чем схватили. Все на них было просто, обыденно. Почему-то бросались в глаза помятые, извалявшиеся брюки, заправленные в сапоги.
Председательствовал генерал-майор Шинкаренко, сухой, высокий старик с седыми бакенбардами и розовым, гладко выбритым подбородком. Справа и слева от него сидели члены суда. Я всмотрелся в серые лица судей и заметил на них скрытое волнение, беспокойство, глубоко спрятанную тревогу.
«Они не уверены в своей правоте», – сделал я первое открытие после выхода из камеры.
Четыре с половиной часа читали обвинительное заключение. Казенными, сухими выражениями были изложены преступления обвиняемых, указаны характер и степень виновности.
– Лейтенант Николай Оводов обвиняется в том, – гундосил секретарь суда коллежский регистратор Миллер, – что, командуя эскадренным миноносцем «Тревожный», семнадцатого октября, стоя на мостике и имея на судне в наличии всю команду, а лично при себе револьвер и быв очевидцем проявления восстания на миноносце «Скорый» и нападения бунтовщиков на капитана второго ранга Куроша, не принял никаких мер к подавлению восстания. Он же не сделал никаких распоряжений для противодействия мятежникам на случай попытки овладеть его судном, чем мятежники и воспользовались – ворвались на «Тревожный» и захватили его. По требованию бунтовщиков открыть снарядный погреб лейтенант Оводов приказал квартирмейстеру Кочергину отдать ключи от оных погребов, а сам удалился в каюту…
…Обвиняется лейтенант Алексей Евдокимов в том, что, командуя миноносцем «Безупречный»… – зашелестели в ушах слова, а мне почему-то захотелось пить, – когда мимо этого миноносца проходили под красным флагом «Тревожный» и «Скорый», явно занятые нижними чинами, восставшими с оружием и производившими обстреливание правительственных зданий, он, видя это и имея по состоянию вверенного ему миноносца полную возможность прибегнуть к действию оружием против мятежников, не принял никаких мер…
Миллер вздохнул, быстро и нерешительно посмотрел на сидящих в зале и уткнулся в бумагу.
– Матрос первой статьи Шаповал (он же Товарищ Андрей) обвиняется в том, что взбунтовал на явное восстание миноносцы «Бодрый» и «Сердитый». Он же командовал ружейным обстрелом миноносца номер «шестьдесят семь», а также призывал к восстанию «Властный» и «Беспощадный», стоявшие у стенки Угольной гавани.
Ему же было поручено руководством «Владивостокской военной организации» осуществить на деле план восстания.
Матрос первой статьи Дормидонт Нашиванкин обвиняется в том, что поднял на миноносце «Скорый» мятежный флаг, – ровным, без ударений, голосом читал коллежский регистратор Миллер, – стоял на рулевой вахте до конца восстания и по приказаниям убитого подстрекателя по кличке Товарищ Костя и умершей от ран неизвестной женщины по кличке Товарищ Надя управлял маневрами миноносца.
Обвиняется Алексей Золотухин в том, что стрелял в заведующего отрядом миноносцев капитана второго ранга Балка и ранил его.
Иван Чарошников состоял в руководстве и во время восстания находился на мостике. При аресте оказывал отчаянное сопротивление.








