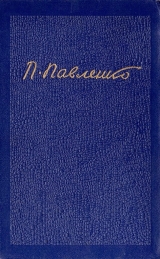
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
То, что французы изобретают как новизну, давно было известно людям пустыни. Мы только не умели перевести их поверья в деловой план и проспали с выводами, которые делает от своего имени Дессолье. У нас увлекаются каналами, запуская колодцы (а посмотрите – только вблизи колодцев и сохранилась еще старина, они куда живучее рек), собирают песни о соловьях и розах, песни, перенятые от персов, и спокойно констатируют – без дрожи и азарта исследователей, – что у туркменов нет танца. Почему же его нет?
– Ваш вывод из всего?
– Если вы правильно поняли меня, я все время хотел доказать вам, что организация хозяйства Азии должна волновать нас насущно. Если ее укрепления и каналы построены пленными и невольниками в дни, когда коренное население Азии было неизмеримо обильнее, то вспоминая кстати о хошаре и учитывая, что в ближайшие годы мы должны будем удвоить по крайней мере добычу хлопка, то есть развернуть посевы на новых площадях, мы придем к выводу, что требуется нечто, могущее сразу удесятерить энергетику сельского хозяйства. Нам нужно механизировать хошарные работы и поставить моторы у колодцев, сократить сеть мелких водных распределителей, упростить и ускорить порядок полива. Надо решить себе смысл трактора в Азии и признаться заранее, что одни тракторы не вырвут хозяйства из тупика. Жизнь Азии зиждется на силе солнца и ветра. Поиски культуры должны быть больше обращены вперед, а не назад. Вам не кажется странным полное отсутствие здесь, в условиях очень добросовестных ветров, ветряных двигателей? Ни одного ветряка. Почему? Этого здесь никто не знает. Энергия солнца? Она валяется в Туркмении насыпями. А вопросы пастбищ? А овцы? Древняя Азия знала только высокие сорта шерстных овец. Где они? Вот вам тема – гибель коней. Напишите стихи о гибели текинских аргамаков, увековеченных классической литературой. Все герои нашей литературы поездили на этих аргамаках, еще Н. Н. Каразин хвалил их за резвость, а ныне туркмен путешествует на лошади-выродке или на осле. Вас не интересует история исчезновения туркменских коней, причины исчезновения и обстоятельства?
– Да ведь что-нибудь обычное – мор какой-нибудь, эпизоотия, кризис с кормами?
– В июне тысяча девятьсот шестнадцатого года по приказанию генерала Мадридова было вывезено из степей пять тысяч чистокровных жеребцов, а каракулевыми овцами снабжались полковые кухни. Туркменские племенные кони погибли от генерала Мадридова. История любит курьезы.
– В этом я с вами согласен.
– Знаете ли вы, что еще в прошлом столетии англичанин Шекспир весьма интересовался растением сары-гурай, распространенным в Афганистане, у нас в Копет-Даге и во всем Заревшайском оазисе и употребляемым как смолка для жевания детьми и женщинами? Сары-гурай – прекрасное средство для чистки зубов. Шекспир присматривался к растению очень внимательно и, наконец, отверг всякую нужду в нем культурной Европы: «Смола оного растения ослабляет силы человека и вредна для пищеварения». А сейчас – и только сейчас – выяснилось, что в корневищах сары-гурая имеется процентов пятнадцать вещества, дающего все химические реакции, свойственные только каучуку. Если поверочные испытания подтвердят открытие, хозяйство Туркмении получит новую основную культуру. Сары-гурай неприхотлив, растет повсюду, и достаточно одного дождя в год, чтобы растение вполне созрело, тогда корневища его достигают до двадцати граммов веса.
Если мы с вами вернемся сюда через десять лет, Туркмении нельзя будет узнать. Все эти пески, которыми окружена страна, представляются мне «лесами» вокруг начатого строительства.
Вот всего несколько скромных цифр. В нынешнем году тутовые парники Туркмении дадут два миллиона саженцев. К концу пятилетки площадь под питомниками будет равна четырем тысячам гектаров, и питомники обеспечат освоение под кустиковые плантации шелковицы пятьдесят тысяч гектаров пустыни при высадке на них одного миллиарда сеянцев. Вы представляете, что будет? Нет, конечно. Да и действительно трудно себе представить это светопреставление наяву. Все будет переоборудовано – климат, пейзажи, свет солнца. Или вот вдумайтесь в цифры: в Туркмении статистика зарегистрировала шестьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать человек кустарей. Я не имею сейчас под рукою цифры промышленных рабочих, но сколько их? Не очень ошибаясь, можно утверждать, что пока не более десяти тысяч. Смотрите ж, да шестидесяти четырех тысяч шестисот девятнадцати кустарей – тридцать четыре тысячи двести восемь женщин. Прямо страна трудовых амазонок! Кустарь Азии – кандидат в пролетарии. Как только его производство, – а оно домашнее, убогое, – будет заменено фабрикой, он первый кандидат к станку. Рассматривая специфику деревенских ремесел, можно предположить, что женщины скорее мужчин покончат с кустарничеством и кадры туркменского рабочего класса, как уже частично показывает опыт первых заводов и фабрик, будут созданы женщинами. Где? В стране, которая высокопарно называлась черным пятном на исторической совести Азии! Рабочий класс создается из наиболее угнетаемых. Издревле угнетенная женщина формирует рабочую армию Туркменистана.
Давно задуманный шелководеревянный колхоз на пятьсот гектаров будет первым в Азии женским колхозом.
Мы отдыхали в чайханах Ашхабада, Чарджуя и Кзыл-Аяга. Мы стояли в прорехах куполов на всех знаменитых мечетях, и пески бежали под нами, как низкие облака, заслоняя линию горизонта. Мы спали на шпалах в Чимен-и-Бите и на пограничных постах у Боссаги. Мы думали о Туркменистане. Мы видели его в снах.
Так, потихоньку от себя, вошли в сознание никогда не происходившие разговоры.
Так родились диалоги про себя.
Впрочем, я не стану оспаривать, если найдется, кто скажет, что именно он и тогда-то вел эти речи со мной. Я соглашусь с ним и припомню даже детали его одежды, черты, настроения и все случайные фразы, брошенные мне моим собеседником вне рамок беседы. Я даже позволю опровергнуть ему его реплики со ссылкой на мою забывчивость, потому что хоть это и диалоги про себя, но все же – диалоги.
Шесть тысяч километров, отделяющих нас от Москвы, развертываются в обратную.
Я сижу в вагоне и думаю и, как четки, перебираю в памяти дни и ночи двух месяцев. Я представляю себе, как вернусь в Туркмению года через два и заблужусь в Ашхабаде, не узнаю Чарджуя, долго буду соображать, где же это возился со своими стаканчиками агроном Крутцов? Той пустынной полосы между Кушкой и Чимен-и-Битом, вдоль границы, где я пал с коня в желании скорее умереть, чтобы только забыть усталость и жажду, – той полосы песков не будет.
Корабли Библоса перестанут ходить по Аму-Дарье, их заменят глиссеры.
В боссагинских колхозах разведут пограничные тутовые рощи.
И люди будут другими. Едва ли я встречу кого-нибудь, кто пожмет руку и скажет: «А помните, мы с вами выступали на митинге в Безмеине весной тысяча девятьсот тридцатого года? Помните, читали постановление ЦК ВКП(б) о льготах колхозникам?» Мы учимся теперь помнить вперед. Мы учимся помнить будущее.
Шли крепкие крутые тучи, но вот на самом горизонте молния чиркнула по ним, как ножиком, и, будто зерно из вспоротого чувала, прямым раструбом пошел пахучий синий дождь.
Запах мокрой земли толкнул меня и моего спутника – пограничного командира – опять к окну, и сквозь дождь мы пытались заглянуть памятью далеко назад – в пограничные туркменские степи, сползающие прямо с неба вместе с солнцем миражными реками, всадниками и караванами.
– Хороша наша туркменская сторона, – сказал командир. – Бедная, смотри пожалуйста, а как приучает.
Я чувствовал, что мысли его так близко касались чувств, как рука с рукою в нервном пожатии. Он сжал свои руки и так же ощутительно и видимо соединил все токи, разрывавшие его изнутри. Больше не было мыслей и не было чувств – ничего кроме дрожи и жара, кроме восторженной смелости жить в мире далеких и бедных границ, о которых не мог он забыть, потому что они были границами его мира.
1930–1933
Люди в горахУ нас есть теперь, с точки зрения развития международного коммунизма, такое прочное, такое сильное, такое могучее содержание работы (за Советскую власть, за диктатуру пролетариата), что оно может и должно проявить себя в любой форме, и новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые, – не для того, чтобы со старым помириться, а для того, чтобы уметь все и всяческие, новые и старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы коммунизма.
В. И. Ленин
Горы в том виде, как они даны нам природой, хороши только издали. Жить в них трудно. Не добровольно вскарабкались аулы на дьявольские высоты, не из любви к альпинизму. Их загнала вверх, на откосы гор, борьба.
Аулы стоят на краю пропастей, как самоубийцы. Сделай шаг к ним, попробуй схватить их – и, кажется, они тотчас ринутся вниз головой в пади ущелий.
Удобства и преимущества горной жизни своеобразны. Они состоят главным образом из недостатков, на взгляд человека равнины. Чем уже дороги к аулу, чем труднее пробраться к нему – тем счастливее этот аул.
Жизнь такая воспитывает, что и говорить. Приобретаются ловкость, выносливость, сосредоточенность, упрямство, настойчивость. С другой стороны, развиваются замкнутость и нарочитое сужение жизненных интересов.
И, однако, Дагестан – вовсе не страна отшельников, а родина удивительных мастеров. Дагестанские Кола Брюньоны – оружейники, медники, башмачники или седельные мастера – забредали и в Бухару и в Фец, переплывали океан и ухитрялись сбывать в американские музеи произведения своих мужественных рук. Они продавали скифские вазы, персидские кувшины и арабские мечи, любовно сделанные ими самими в ауле Кубачи, в ста километрах от железной дороги. Там охотно делают они их и сейчас с тем поразительным искусством, которое способно обмануть глаз и нюх любого знатока старины.
Больше всего в Дагестане оружейников. В дни гражданской войны они мастерили винтовочные патроны; ковали шашки, от руки делали наганы и маузеры, перенося на свои домашние пистолеты, в порыве освоения западной техники, даже чужие фабричные марки. С тех пор они выросли.
– «Посмотри, что с ними стало, – сказал ашуг и взял в руки свой сааз», – как поется в старой песне.
Халил из Согратля
Согратлинцы – каменщики. Еще при Шамиле они славились искусной каменной кладкой, сухой, без глины и извести.
Согратль лежит в горах, на узкой тропе между Чохом и Кази-Кумухом. Развалины царской крепости глядят с соседней горы на пожарище старого Согратля, на обломки каменных хижин, поросших бурьяном. Этот каменный поединок истории (аул сожжен в 1877 году казаками; крепость немногим позже сожжена согратлинцами) красноречив, как памятник.
Снизу, из ущелья, Согратль похож на небоскреб, упавший назад и прислонившийся спиной к скале. Некоторые этажи небоскреба как бы лопнули, и трещины стали ходами. Но общая архитектурная целостность сооружения осталась. Согратль, конечно, сооружение, а не деревня. Он ловко и чисто, как бы зараз, одновременно, построен из тесаного камня. Сакли с большими аркадами условно напоминают Гренаду.
Штабели кизяка (навоз с соломой) на крышах уложены с изящным мастерством и похожи на кирпичные барьеры с рисунчатой кладкой или на макеты ковров с мудреным линейным орнаментом.
После того как закончилась гражданская война и Халил Мусаев, оружейник, перечинил все винтовки и револьверы, он сделал для приезжего гостя тросточку. Можно вскинуть ее к плечу и стрелять, как из маузера, а на вид – обыкновенная тросточка с загогулиной. Зачем он делал эту тросточку, непонятно; но ведь говорят: «Даже великий Леонардо вынужден был изготовить для одного из королевских праздников в Милане автоматического льва, который делал несколько шагов, разрывал себе грудь когтями и обнажал скрывающиеся в груди лилии».
В сущности стреляющая тросточка была формалистским абсурдом, и после нее Хасан перестал делать оружие. Стояли тяжелые дни для Согратля. Аулу необходима была вода для питья и орошения. Из всех реальных возможностей представлялась одна – провести с гор к аулу водопровод в два с половиной километра длиной. Необходимы были трубы. Никто в Согратле, конечно, и не помышлял о том, чтобы написать в Наркомзем и попросить помощи или содействия, – тогда горы еще жили своим разумением. Люди запросто пришли к Халилу и попросили его придумать что-нибудь и, может, даже укоряли стреляющей тросточкой. Халил придумал.
– Надо взять бревна, – сказал он, – и сверлить их. Вот это и будут трубы. Бревна достать вы сумеете, а машину для сверления я изобрету.
И изобрел действительно, и сверлил ею любой диаметр в длину, и просверлил, как и требовалось, два с половиной километра бревен.
Машина получилась хорошая, работала она вручную, силами двенадцатилетнего мальчика, и обошлась, не считая старого железного лома, в каких-нибудь семьсот – восемьсот рублей. Это изобретение положило начало тому Халилу Мусаеву, которого теперь знает весь Дагестан. Машину тотчас потребовал к себе райисполком и долго сверлил ею что-то, потом от райисполкома забрал ее Наркомзем, и теперь трудно даже представить, где она и что с нею. Никто просто не помнит, как она выглядела.
Вскоре сделали Халила Мусаева заведующим мастерскими при согратлинской школе. Тут развернулся он вовсю и наделал сотни фуганков, пил, бритв и оконных рам, воспитав отличных учеников. Изобретать почти не было времени, хотя он все же успел разобрать искалеченную пишущую машину гунибского райкома, заново смонтировать ее, заменив отсутствующие части своими и вместо русского алфавита поставил аварский, для чего самому пришлось лить буквы и гадать, как их лучше разместить на рычажках, чтобы было удобно печатать. В общем машина вышла на славу, но сама работа не понравилась Халилу Мусаеву.
– Детский механизм какой-то. Ни то ни се.
А тут как раз пришла пора строить новую школу, и он совсем отстал от работ мастерской. Школа, – построенная, разумеется, без единого техника, – оказалась прекрасной. Приближалось 1 мая 1933 года.
– Хочется сделать подарок аулу к Первому мая, – сказал Халил и исчез на две недели, взяв с собой нескольких подручных мастеров.
Мая 1933 года на маленькой согратлинской площади, между мечетью и читальней, торжественно был открыт памятник Ленину. Он весь из целого камня. Голова – работы Мусаева.
С этого дня слава Халила стала славой Согратля. Им хвалились согратлинцы на базарах, именем его попрекали соседние аулы своих нерешительных мастеров. Гордо Согратль вызывал соседей на установку такого же памятника. А памятник просто великолепен. Голова Ленина на крепких и легких плечах молодо глядит на аул.
Не успел Халил закончить памятник, явилась необходимость надстроить второй этаж школы.
Но штука не в том, чтобы достроить, – говорит Халил, – а так надо сделать, как еще нигде не было, – и задумывает во всю длину наружной стены второго этажа барельеф, он показал на голландскую печку в классе, выступающую из стены на треть своего объема, и сказал, что вот в таком роде и будет Маркс, читающий «Капитал» народу. Барельеф торопился закончить он к началу учебного года – к сентябрю, был хмур, молчалив и стеснителен в разговоре.
– Когда освобожусь, сделаю один подарок Сталину. Револьвер!
– Такой? – товарищ показал красивый бельгийский пистолет.
– Зачем же такой делать, раз уже фабрика его делает. Надо такой, какого еще никогда не бывало.
– Какой же?
– Сразу сказать трудно. А месяца через три сделаю, тогда увидите. Сначала надо изобрести инструменты, которыми придется делать револьвер, и вот это трудно. Мне бы маленьких напильников штук пять-шесть, круглых, плоских, трехгранных. А когда инструменты изобрету, тогда сделаю семизарядный лучше любого, необыкновенный револьвер будет.
Он стоит и улыбается в мелкую бороденку. Согратлинцы окружают его толпой и смотрят на мастера, гордясь им без всякого стеснения.
– Скоро у нас украдут Халила, как девицу. Все аулы нам завидуют. Все он может – и мост построить, и памятник сделать, и револьвер, и фуганок. Наверно, скоро автомобиль сделает.
– А ты что хочешь, Халил? Учиться бы не поехал?
– Учиться бы не поехал. Я путешествовать бы поехал. На Тульский оружейный завод хочу путешествовать. Насчет пулемета у меня кое-что в голове есть, – и стоит, как виноватый, теребя пояс нервными неутомимыми руками, тридцатисемилетний ребенок, только вчера почувствовавший волю к жизни.
Нур-Магома Махмудов Хунзахский
Это человек, про которого говорят в Хунзахе, что он может изобрести все на свете.
Хунзах – районный центр, бывшая царская крепость – лежит в двух километрах от Хунзах-аула, родины Хаджи – Мурата и столицы аварских ханов.
Кругом – пустота безлюдной горной вершины. Невысокие холмы, плато, спадают прямо в небо. Эти несколько километров плоскости, кажутся островом в небе, на дальних краях которого легкими тенями восходят горы, – единственная другая земля, которую отсюда видно.
Среди холмистых складок плато аул развалился, как чабан на пастбище. Улицы аула – к удивлению – почти горизонтальны, наклон наиболее крутых не превышает двадцати градусов. Каменные сакли не сливаются одна с другой и почти не сидят одна на другой, а, подпершись кривыми балкончиками легкого грузинского склада, стоят вразвалку. Кое-где выведены аркады, как в Чохе или Согратле. Похожий на речной пароход, с широкой верандой во всю длину свою, вздымается дом Алихановых-Аварских, ныне чулочная артель. Расписные русские ставни мелькают то здесь, то там на кирпичных или штукатуренных стенах.
Можно подумать, что Хунзах покупал себе сакли на толкучке, как старую мебель, не заботясь ни о каком стиле.
Все это оттого, что он был столицей, что он был богат, скуп и крепко обжит русскими фельдфебелями и духанщиками. Вот дом ханши Паху Вике, сыновья которой вырезаны имамом Гамзатом. Вот мечеть, в которой Гамзат был убит Османом, братом Хаджи-Мурата. Могила имама, посягнувшего на династию аварских ханов, видна на краю запущенного кладбища. Вот обвешан просыхающими детскими одеялами склеп араба Абу-Муслима. Он заперт, потому что почтенного сторожа склепа недавно убили, а ключ неизвестно где. Вот дом Хаджи-Мурата – крепкий, хороший дом ханского родственника и барина. Под крышей – турьи рога, прибитые еще им самим. Внучка наиба, так много сделавшего для русской литературы, сейчас не может принять нас – она только что вернулась не то из пед– не то из медтехникума и занята по горло. Тогда мы идем к кузнецу Нур-Магоме Махмудову, последней и главной достопримечательности аула. Его веселый дом стоит в клубах пара и дыма, как убежавший самовар.
Вдвойне черный – от природы и от копоти горна, – с длинными руками, за которыми не угнаться рукавам пиджака, хозяин вылезает к гостям.
Он ждал все утро господина Амодэо, строителя плотин, который ночевал в крепости и сегодня рано утром выехал с комиссией в Ботлих, так и не заехав к Махмудову, который тоже строитель электрической станции, к притом лучшей во всей Аварии. Он знаменит тем, что задумал и один выстроил в своем ауле гидростанцию.
– Значит, хорошо знаете грамоту?
– Кое-что. Названия железных предметов – болт, шайба, винт, молоток – понимаю. Остального не понимаю.
Махмудов – кузнец, потомок и выученик тех мастеров дагестанского средневековья, которые ковали кольчуги, лили ядра и делали замысловатые ружья своим войнам. Нур-Магома починяет маузеры, часы и автомобили. Он кузнец.
– Как же вы станцию-то сделали?
– По прейскуранту, – застенчиво отвечает он. – Имею несколько таких прейскурантов.
– Покажите, пожалуйста.
Он приносит горку книг: первый том «Промышленности и техники» Генри Д. Бэргарда; «Станки по металлу и работа на них – т(ом) 2-й, без начала; «Начальную физику» Цингера; «Основы физических явлений» Г. И. Покровского; «Электротехнику в задачах и примерах» Генселя – вып (уск) 1-й; «О телефоне, телеграфе и радио» Беликова и какую-то изорванную, без начала и конца, книжку об автомобиле.
– Как же вы читаете? По складам?
– Смотрю чертежи – и является мнение.
Стараясь оправдать виртуозность своего воображения в зрительной памяти, он объясняет, что пробует, конечно, читать и текст:
– Когда попадается название железного предмета – сразу понятно, в чем дело. Остальное понять трудно, трудно.
– Как же вы строили?
– Вот же в прейскуранте все сказано. Смотрю картинку – является мнение, – повторяет Махмудов.
Он нескладно высок и ребячлив, хотя и не моложе своих сорока. В нем разлита хитрейшая беспечность молодого, еще не остепенившегося мудреца.
Сначала он построил модель одноцилиндрового двигателя со свистком из наганного патрона и манометром из аптечной жестянки. Успех модели раскрыл его силы, о которых он сам, по-видимому, подозревал очень смутно.
Родилась мысль построить электрическую станцию.
– Зачем?
Он смеется:
– Теперь без машины нельзя.
Больше от него ничего невозможно выудить. Гидростанция оформлялась так, как подсказывали ему рисунки прейскурантов – все эти воспроизведения древних рычагов и первых паровых «адамов», костлявых, хрупких, бестолковых экзотов старой техники.
Какое гигантское напряжение мозга, какое вдохновение настоящего мыслителя должен был проявить этот застенчивый человек, чтобы вообразить возможные движения книжного рисунка и перенести их внутрь своей старой водяной мельницы.
На деле, однако, все получилось очень просто и дельно. Деревянное водосборное колесо он соединил коленчатым валом с другим, меньшим, от него провел к турбине ремень, купил где-то турбинку, водрузил на стену манометр, прибил распределительную доску, натянул провода – и пошел, посмеиваясь и поводя от смущения плечами, пригласить общественность аула на торжество открытия собственной гидростанции. Он зажег электричество в сельсовете, в правлении колхоза, в чулочной артели и получил за постройку двести пятьдесят рублей от сельсовета, лошадь от колхоза, пятьдесят рублей от чулочной мастерской и на пятьдесят рублей товаров от кооператива. Теперь он – директор, механик и сторож станции. Над дверью каменная доска:
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОСТРОЕНА
Н. М. МАХМУДОВ МАЯ 17 1932 г.
Станция работает в меру своих сил и способностей, очень исправно. Она так проста, вся деревянная, вся на шурупах, и до того понятна любому горцу, до того обыденна, что именно в этом – в простоте и понятности – важнейшая ее роль.
– А теперь что задумали?
– Ай, не знаю. Может, горный трактор; может, другое…
Он не мог бы заполнить даже обычной нашей несколько суесловной анкеты, потому что у него нет никаких событий в сорокалетней жизни. Он родился, вырос и возмужал в своем ауле. Он был кузнецом, как и отец его. Он всегда жил здесь, не выезжая, не странствуя, не накопляя внешнего опыта. Душа его прозрачна. И только одна страсть иногда тревожит мозг – любовь к чертежам и машинам.
Разговор идет о Сулакском строительстве, об инженере Амодэо, построившем за свою жизнь сорок и спроектировавшем больше ста плотин. Речь идет о сулакской плотине в двести тридцать два метра, какой нет нигде в мире.
– Прейскурант не будет? – спрашивает Махмудов.
И этим вопросом он выдает себя. Двести метров? Это его нисколько не трогает. Полтора Днепрогэса? Он абсолютно равнодушен к сравнениям, разделяя, видно, французскую пословицу, что сравнение – это не доказательство. Но общий чертеж, атлас, картина, слепок с замысла – увлекают его. Вспоминаются слова Ленина: «…механика была снимком с медленных реальных движений, а новая физика есть снимок с гигантски быстрых реальных движений. Признание теории снимком, приблизительной копией с объективной реальности, – в этом и состоит материализм».
И вот стоит человек сорока лет, Нур-Магома Махмудов из Хунзаха, неграмотный аварец, кузнец по профессии, беспартийный.
Он задумал и выстроил гидростанцию в десять лошадиных сил, не думая ни прославиться этим, ни приобрести капитал. Он разводит руками и, не умея объяснить путей своего творчества, улыбается, чешет затылок и говорит о том, что без машины теперь прожить нельзя.
Ему весело сочинять проекты станций, модели двигателей, контуры горных тракторов, весело чинить крохотные карманные часы и сваривать ломаные автомобильные оси, – этому малому, в сорок лет смело вышедшему погулять в мир жизнерадостной неудовлетворенности. Перед ним раскрыт прейскурант небывалой, еще никогда не случавшейся жизни, той самой, о которой и сказаны слова Ленина, приведенные в начале повествования.
1934







