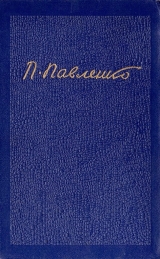
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
– Как? – переспросил я.
– «Я знаю, ты – большой человек, – сказала она, – и говоришь речи на празднике всех женщин. Сделай мне добро и скажи сегодня слово хорошего пожелания в мой радостный день». – И, – он виновато поглядел на меня, – я, кажется, выругал ее. Что я скажу ей? Ее праздник для меня позор. Я должен был бы оттаскать за косы ее свекровь и побить морду мужу – вот какая была бы моя речь, товарищ!
Когда мы добрались до колодца Тимура, солнце уже буйствовало во-всю на пустом, как футбольная площадь, небе. Облака бежали от него за горизонт, валясь друг через друга. Колодец был пуст. Не останавливаясь, чтобы не терять последние силы (не останавливаться в пути – иногда больший отдых, чем остановка), мы направились к трем колодцам Искандера. Все они были также пусты. У третьего из них мы дали отдых лошадям и вскипятили себе чай из солоноватой и мутной воды. Солнце шло теперь тише, – проскочив три четверти неба, оно сонно спускалось к серой черте бархатного запада. За ним осторожно вползли на небо легкие подвижные тучки.
Мы пили чай, напоминавший по вкусу прокисший бульон наших московских столовок, и обсуждали, куда бы могли провалиться Ашраф и Ата Гельды, два соседа и два конкурента. Нам некуда было больше ехать, мы решили ждать утра и возвращения хозяев воды. И наше время было легким, ленивым и сонным. Но едва лишь стемнело, мы услышали голоса людей и конский усталый дых. Бахши и его ученики, спеша на вечерний той, остановились, чтобы проверить у нас дорогу.
– Ехали бы с нами, – сказал бахши. – Что тут сидеть? Они приглашали к себе всех, кто может притти.
Мы отказались. Вскоре показалась новая группа всадников – мирабы из далекого кишлака на Аму.
– Гельды уже отправился? – спросили они. – Вы не оттуда? Не знаете, проехал ли уже бахши, или нет? Если Ашраф и Гельды там – бахши начнет петь, не подождав нас.
Когда они скрылись среди барханов, мой товарищ сказал:
– Вставай, поедем и мы.
– Передумал? – спросил я.
– Что передумал? Хочу посмотреть, что за той. Я еще не видал таких праздников, чтобы из-за семейного дела сзывали всех кулаков. Впрочем, что бы там ни было, нам-то сегодня как раз это наруку. Мы увидим такое, на что не рассчитывали заранее.
Мы вернулись в кочевку под песню. Она вела нас к кибиткам, как маяк, и мы слезли с своих лошадей никем не замеченные, прошли к толпе женщин и детей и увидели за ними Ашрафа Ибрагимова, Гельды и еще двух других колодезных кулаков на ковре, среди плова и музыки. Они вели тихий, но страстный разговор впятером, не принимая участия в общем веселье.
– Мир вам, – сказал мой товарищ. – Вот радость, что я вас сразу увидел. Целый день я искал тебя, Ашраф, и тебя, Гельды, и не мог найти. Хорошо, что вы отмечаете праздником отмену рабских обычаев в нашем быту. Давно пора забыть старые порядки, давно пора считать женщину равной себе и свободной. Привет тебе! – сказал он, кивая утренней женщине. – А к вам, уважаемые друзья, у меня короткое дело, пусть не омрачит оно вам дорогой праздник.
– Нет, нет! – сказали кулаки. – Что могут омрачить твои благородные речи?
– Исполком налагает на тебя, Ашраф, как на хозяина самого большого колодца, налог за эксплоатацию источника а сумме пятнадцати овец в год, и столько же на тебя, Гольды, за три твоих источника. Размыслите, друзья мои, предложение исполкома и дайте мне позже свой ответ. Может быть, вы не согласны платить налог? Тогда скажем с радостью, как подобает в праздник, пусть будут колодцы достоянием общим, а их вода бесплатной для всех, как воздух. И во славу женщины, в радостный день которой мы обсудили это, назовем все четыре колодца ее почтенным именем.
Бахши, поэт, давно дрожавший от мгновенного вдохновения, ударил по струнам дутара.
– Играй! – закричал ему мой товарищ, а мне тихо шепнул: – У нас говорят: соловей, у которого отнята роза, превращается в ворону. Посмотри на них.
Нам подали чашку с пловом. Мы сели среди детворы и стали слушать музыку.
У туркменов нет танца ни как искусства, ни как простого развлечения. Искусство – это песня и музыка, развлечение – борьба и скачки. Никто до сих пор не занялся объяснением, почему же не повезло у туркменов танцу, который в давнем почете у узбеков, принят на праздниках у казахов, которым афганцы пользуются как средством проверки темперамента и боевой горячности и который персы культивируют как самое высшее из эротических искусств. В Туркмении же никому не придет в голову производить ритмические телодвижения перед боем, накануне брачной ночи или в день религиозного праздника. В театральной школе Ашхабада туркменские девушки учатся танцовать с видом людей, публично проделывающих до очевидности глупые и безнравственные движения. Они стараются производить их наиболее деревянно, скупо, замкнуто, – краснея, когда хоть одно искреннее движение проскальзывает сквозь их плясовую работу. Между тем туркмены любят песни и понимают и ценят музыку. Их музыка двухголосная, в то время как в Хиве, Бухаре и даже в Персии – одноголосная. Туркмены относятся к музыке, как испанцы к бою быков. Туркмены воспринимают музыку как нечто полемическое. Они наблюдают за мелодией, как шахматист за чужой партией. Они могут не соглашаться с мотивом, будут оспаривать удар руки по струнам или акцент эмоции, вложенный бахши в музыкальную фразу. Они воспринимают песни и музыку физиологически – не на струнах дутара, но на них, на их собственных нервах оперирует мастер. Они плачут, смеются, вздрагивают или сидят зачарованные, чтобы вскочить в диком азарте и, истекая нервным потом, долго и отчаянно радоваться музыке криками поощрения.
Всякое музыкальное произведение имеет у туркменов свой поэтический текст или, во всяком случае, программу каких-то музыкальных образов.
В этот момент для него ничего не существует, кроме собственного очарования. Здесь любят рассказывать исторический факт, перешедший в поэтический анекдот.
Когда женщина Хелей-бахши состязалась со знаменитым Кер-Кеджали, она была на последних днях беременности. Состязание начали с вечера, и в полночь Хелей-бахши почувствовала наступление родовых болей.
Она спросила мужа:
– Победы или ребенка?
– Победы, победы! – ответил тот.
Она вышла из состязания, родила, затем вернулась и посрамила в игре знаменитого Кер-Кеджали.
Вамбери так описал музыкальный вечер в Туркмении:
Бахши аккомпанировал себе сначала легким прикосновением к струнам дутара, потом, мало-помалу воодушевляясь, начал сильно и порывисто бить по инструменту. При описании сражений он особенно воодушевлялся. Его энтузиазм заражал и молодых слушателей, сцена становилась в высшей степени драматичной: молодые джигиты, испуская глухие стоны, бросали шапку на землю, рвали на себе волосы, как будто им страстно хотелось вступить в бой друг с другом.
С 1863 года мало изменилось отношение к музыке.
Мы сидели среди вздохов, возгласов, причмокиваний. Кто-то ожесточенно скреб пятерней замлевшую грудь, кто-то прищелкивал в такт мелодии пальцами.
Когда бахши кончил и смолкли все одобрения, до нас долетел нервный шопот женщин, гурьбою сидевших в сторонке. Они говорили, что никогда еще ни у одной женщины не было такого удачного праздника и что интересно – будут ли названы колодцы просто «Арват-кую» или же личным именем – «Еофа».
– Так, – сказал товарищ, – налога они платить, видно, не будут. Ну, да дело как раз не в том – самое главное, нынче же все узнают, что за воду платить никому не следует. Довел план до станка, – сказал он, смеясь и поднимаясь к лошадям.
Наутро мы завтракали овечьим сыром и чаем у старого чабана за много километров от вчерашней кочевки.
– Слышали новость? – спросил он нас. – Вчера был семейный той у одного из наших и приехали двое из района – не вы ли? – и объявили колодцы Ашрафа и Гельды свободными и назвали их именем женщины, в честь которой был праздник.
– Нет, это не мы, – сказал мой товарищ. – И чем же кончилось дело?
– Большой шум идет по кочевкам, – ответил чабан, – у кого в доме свекрови еще не разрешили невесток, спешат теперь, торопятся праздник устроить, чтобы опять приехали эти двое, – остальные колодцы освободить. Шутка ли, у нас еще сорок колодезных хозяев осталось!
Он засмеялся, сдвинул папаху на лоб и, погладив затылок, сказал:
– Вся наша беднота теперь на ногах. А на женщин даже смотреть страшно, – еще бы, каждой хочется, чтобы ее именем назвали колодец. И мужьям их тоже приятно. Прямо скачки!
Чувство водыПотомок Александра Филипповича Македонского, изумленный плодородием Мургабской долины, повелел, в предупреждение набегов кочевников, окружить ее – легендарную родину арийцев – сплошною глинобитною стеной.
Страбон был неправ, оставляя этот факт без комментариев и не говоря, – а это мне яснее, чем Страбону, – что злейшим из кочевников-басмачей был тогда не человек, а песок соседних Кара-Кумов. Вся песчаная Азия простегана швами древних и новых стен, стены эти – песок, ввергнутый на дыбы и связанный на некое время клеем навоза; стены идут по степям, как естественные холмы и обрывы, неведомо что охраняя и ничего не деля. Стены прежних времен стали рельефом страны, костяками барханов, обрывами у берегов рек. По обломкам стен вьется древний след песчаных набегов.
В кзыл-аягских селениях песок подтачивает живые жилища: подбираясь к стенам их, он поднимается до самого гребня и своею тяжестью стремится согнуть, изломать стену, а если она крепка – он льется через гребень во двор и вскоре образует на месте стены высокий неутомимый бархан, начинающий заплескивать острою пылью логово самого человека. За бывшей крепостью Кушкой, вдоль афганской границы, линии жилищных окопов-аулов идут в три-четыре ряда. Три первых брошены, человек живет в четвертом, но уже образует пятый, куда отступит во благовремении.
Туркменская земля катится пылью. Горсть земли, сегодня питающая хлопковый стебель, назавтра уходит бродить с барханами и носится колючим ветром над чужими оазисами. Метафорически говоря, земля здесь дика и необузданна и не терпит цивилизационной муштры. В пустынях трава селин с длинными, прочными, как английский шпагат, корнями увязывает барханы в недвижные бугры и покрывает их головы узлищем своих сухих, кажущихся засохшими, стеблей. Пески, связанные селином, лежат, пока не придет человек и пока колесо его арбы или лапа его верблюда не нарушат мертвого оцепенения. След колеса начинает выветриваться и углубляться – на сантиметр, на два, на три, – и через полгода он бежит как небольшая канавка, готовым руслом для водного потока с гор, а след верблюжьей лапы может превратиться в болотце.
Песок усмиряют водою. Хлопок и хлеб родит здесь вода.
История любого народа старательно копит рассказы о разрушениях. Разрушенное становится небылью и переходит в легенду грузом гипербол, чтобы стать потом сырьем истории. Туркменские сказки подчинены одному герою – воде. В памяти сказок сохранены имена разрушителей и среди этих имен главнейшие – название рек. Тимурлен и Аму названы впереди всех разрушителей.
Предания сохраняли нам либо рассказы о набегах рек, либо имена людей, отводивших реки в пустыню, чтобы отдать на разграбление пескам землю побежденных оазисов. Итак, история среднеазиатских феодальных династий, история братоубийственных войн, история здешних рынков – есть история рек. Вода – крепость, рынок, враг, цивилизация, друг, жизнь. Реки, низвергаясь с отрогов Памира, пролетали пустыню, вбирали в себя барханы, колодцы, кочевки, стада, раскидывались озерами и болотами, создавали могилы из встречных оазисов и создавали заготовки оазисов там, где до того не было жизни.
На юге, где начинаются все реки Туркмении, в хребтах Памира, Копет-Дага и Сефид-Кух, таким образом, были заложены счастье и мир туркменов: там было начало рек, и там жили их враги, во всякое время могущие отвести воду. И, наконец, там же, в горах, существовали какие-то законы великих периодических разливов, когда даже без вражеского вмешательства реки сворачивали с привычных путей и гибелью шли на живую землю.
Пройдя через столетия, борьба Средней Азии за воду, не ослабевая ни на минуту, приобрела лишь более сложные и хитрые формы и из басмаческой превратилась в окопную. Теперь никто уже не разрушает рек, не направляет их бег в пустыни, но, проводя окоп за окопом, арык за арыком, старательно выбирает реки из русел, отводя воду на свои поля. Есть шумные благодатные реки, которые никуда не впадают, а косичками оросительных канав расплываются по полям. Таков, например, Мургаб, впадающий в хлопковые плантации Мервского оазиса. Но давно подмечено, что из года в год Мургаб несет все меньшие воды, обессиливаемый новыми арыками персидских крестьян, и оазис незаметно, но жутко сжимается.
Есть другая вода. Ее розыск тяжел. Ее извлекают из-под земли посредством колодцев. В песках Кара-Кумов до четырех тысяч таких действующих, временно иссякших, совсем заброшенных и начатых скважин.
Некоторые исследователи туркменской жизни не могут себе объяснить, как это туркмен-кочевник, настоящий воин, запорожец Азии, – в то же время и хитрый извлекатель подземных вод, опытнейший строитель колодца? Но мне ясно, что туркмен находит воду и укрощает ее не как строитель, а как охотник, и все его колодцы – это скорее капканы, в которые он заманивает воду, чем сооружение вполне оседлого человека. В туркмене нет двойственности, вся его жизнь – борьба за воду. Борьба может быть разной – либо сражением, либо охотой в одиночку. Не только осаждать реки, но и охотиться за подземными водотоками, как он охотится за джейранами, но еще и итти по следам случайных весенних потоков с гор, как идет он по следам своих стад, захватывать потоки в водохранилища и загонять на свои поля.
В Средней Азии культивируют не хлопок, а воду. Ей обернуться хлопком и хлебом – пустяк. Урожаи воды капризны, непостоянны, зависимы от тысяч случайностей, – туркмен-земледелец в своем быту создал запутаннейшую, но выверенную до неизмеримо малых деталей систему водного пользования. Опыт научил людей организованным действиям, и еще исстари вода была началом артельности.
Разрушение водного узла или временная порча регулятора несут полное прекращение жизни во всем районе командования данного канала. Час перебоя в распределительном узле уже есть гибель двадцати – тридцати процентов урожая. Вот где действительно «всякое промедление смерти подобно есть». И в заботах об усовершенствовании механизма водопользования старый быт создал правила жизни, охватывающие и экономику и идеологию дехканина жесткими догмами родового благополучия без всяких исключений и примечаний. Вода объединила людей рода общностью насущнейших интересов – одни дежурили на каналах, другие поливали, а осенняя чистка каналов от ила, хошар, собирала тысячи и десятки тысяч людей на сроки от недели до двух месяцев. Одиночки, жившие вне общества, превращались в кочующих земледельцев, оседавших на землях, случайно орошенных разливами, и уходивших на новые поймы, как только высыхали их первые. Тут оазисы часто идут за реками.
От воды общего пользования роды проводили свои арыки. Каждый род имел свой арык, и каждое колено в роду могло иметь свой подсобный канальчик; и два врага в одном семейном узле должны были, в целях личной безопасности, иметь два распределителя вместо одного. Роды плодились и размежевывались, расчленялись арыки, и земля изрыта ими, как траншеями, вкривь и вкось.
Она исковеркана арыками еще и потому, что реки здесь не имеют точных дорог и весной легко меняют их, заставляя людей бросать свои старые водные системы и передвигать их ближе к руслу или удалять от него. Периодические наводнения сносят построенное и принуждают и изобретать новое.
Аму за неделю передвигается на сотни метров в сторону. Люди тут помнят случаи, когда береговая полоса длиной в три километра и шириной до пятисот метров размывалась в две-три недели. И потому здесь никогда не известно, где будущий год будут лучшие земли и что станет с обработанными сегодня.
Большая вода – несчастье, и несчастье же – вода скудная.
Род придумал себе водное право. «Су» – вода – есть в то же время и норма земельного надела и норма водопользования; то есть в сущности «су» – это водный надел.
По родовому праву, холостой, бездетный, разведенный, одинокая вдова, круглые сироты лишались ее; поэтому в каждом ауле с местной водной склокой были свои лишенцы, уличенные муллой в сумасшествии и прикованные к цепям. Уличение в сумасшествии было одним из методов классовой борьбы в старом ауле.
Приданое девушка получала водою. Товарищ, рассказывавший мне о воде, имел из родового канала семнадцать минут воды через каждые шестнадцать дней, а дети его имели бы по четыре минуты.
Иметь четыре минуты через шестнадцать дней – это значит быть бедняком. Четыре минуты ни для чего не нужны, и было издавна придумано сдавать эти минуты в аренду: бедняк либо запродавал их, либо объединялся с соседями и сообща поливал надел. Бедняцкие минуты были еще и чудовищно относительны, потому что земли бедняков обычно лежали далеко от головы канала, и бедняк получал воду в последнюю очередь. Его минуты были минутами последней воды в канале.
Старый аул четко разбивается на единоличных держателей воды, батраков и родовые полуартели. В пределах родового канала воду на отдельные «су» распределял выборный водный староста – мираб, неограниченный владыка своих избирателей и слуга байства и духовенства. Впрочем, очень часто мирабы сами были духовными лицами ввиду важности и ответственности их дела.
Революция принесла с собой программу советизации воды и планы создания воды социалистической. Это звучит кратко и кажется очень простым, как конфискация кулацких излишков или обобществление помещичьего инвентаря, – на деле же это высшая математика с мудрейшими расчетами, измерениями, учетом гидромодульных формул и прочей сложностью, отвергающей настрелянный глаз мираба и доводящий точность распределения воды на каждый гектар применительно к определенной культуре до своеобразной таблицы умножения.
В Средней Азии культивируют, образно говоря, не хлопок и хлеб, а воду, и революция должна была притти прежде всего ломкой старых водных законов. Революция уничтожила санашиковое водно-родовое право, распылила «водные капиталы» байства и духовенства и прошла техническими измерениями и многократными статистическими учетами, чтобы закрепить себя не декларацией, а инженерией.
Все арыки были освидетельствованы и произведено «сокращение штатов»; там, где существовало пять родовых арыков, оставлено два, улучшена сеть мелких распределителей, усовершенствованы головные сооружения, и где при пяти арыках никогда не хватало воды, при двух стало ее с избытком. Революция начала организацией моды. Есть достижения уже показательные: в двух районах Мервского округа таким образом удалось исключить сто пятьдесят два километра холостых ходов каналов, и это позволяет оросить пять тысяч гектаров новой земли.
На Мургабе из года в год все меньше воды. На Теджене всегда опасность «водяной засухи». На Аму-Дарье, орошающей примерно семьдесят тысяч гектаров, вместо того чтобы орошать два миллиона, только и разговоров, что нет воды. Здесь землю не удобряют, землею не дорожат, за лишним гектаром не тянутся, – что земля, когда Аму за год проносит мимо любого аула свыше двадцати миллионов тонн питательных солей, и все дело в том, чтобы их извлечь и уложить на поля.
Да, на Мургабе нет воды, ее разбирают в верховьях афганцы, но сто пятьдесят два километра уже запросто сэкономили пять тысяч гектаров. Более бедный водою, чем Чарджуй и Керки, оазис Мургаба гораздо сильнее по хлопку благодаря отличной ирригационной системе. Да, на Аму водный голод, но миллион девятьсот тысяч гектаров бессмысленно впадают в Аральское море. Вопрос об организации воды становится вопросом организации Советской Азии.
Что означают на языке хозяйственных будней сто пятьдесят два километра холостых ходов каналов? Они означают скопление родовых предрассудков и наличие многих склок. Кладбищами каналов называют здесь места, где глиняные холмы и застарелые овраги арыков, переплетаясь между собою, как змеи, изгнали от себя человеческое жилье и слились с пустыней. Но вот уже сто пятьдесят километров каналов-растратчиков убраны. Казалось бы – все! Ну, еще сотня-другая сэкономленных километров, ну тысяча!.. Но организация есть движение.
Первый же хороший колхоз оказался хозяином, достигшим дальнейшей экономии воды новыми путями там, где при единоличном хозяйстве, казалось бы, уже ничего нельзя было выдумать. Колхоз нашел дополнительно к прежним новые способы экономить воду.
Дело началось – как у нас часто бывает – с паники, когда на колхозные «поля», на крохотные делянки, окантованные поливными канавками и застроенные вкривь и вкось глиняными заборами, влез трактор. Он вел себя на этих полях пьяным слоном – протыкал заборы, распахивал канавки, сметал валы или сам скатывался под откосы канав. Кое-где дехкане вернулись к верблюдам, сочтя тракторизацию делом нереальным для Средней Азии. Было страшно за репутацию трактора.
Встала задача – начать широчайшую кампанию за срытие дувалов, ставших рельефом страны от дней македонских. Глиняная чересполосица занимает здесь кое-где тридцать – сорок и больше процентов полезной площади. Перед колхозами встала задача изменить ландшафт, обратив глиняные ребра полей – эти костяки для бродящих барханов – в удобрение. Здесь довольно часто удобряют поля своими домами и заборами, потому что глина с навозом, выдержанные от двадцати до четырехсот лет, прекрасный коллекционный корм для растений. В поступке подобного рода нет никакого жеста. Все дело в том, что дома строятся просто: дехканин черпает его в виде ила со дна реки или арыка и печет из ила в смеси с навозом свежие стены. Глиняных гор столько, что их уничтожение совершенно изменит пейзажи страны, и уже никогда не будет в Туркмении больше ни кладбищ каналов, ни кладбищ древних руин. На удобрениях из остатков феодализма (не фигурально, вы видите) вырастут шелковичные рощи. Это звучит гордо, как образ и многообещающе, как реклама, а на самом деле все – на примере отдельного случая – произошло и происходит в других местах в общих линиях так.
Там, где череззаборица не мешала, пахали тракторами, а воду на поля подавали из арыков «нбвой», орудием вавилонянина, перед которым даже водоподъемный винт Архимеда, построенный более двух тысяч лет назад, оказался бы чрезвычайно роскошной вещью. «Нава» дает пять процентов полезной рабочей воды из ста процентов выкачанной, и навой надо работать двое суток, чтобы полить гектар, а трактор за сутки вспахивает здесь четыре-пять, местами и семь гектаров, и даже колхозник боится такой машины, за которой ему не угнаться с поливом. Он боится запахивать много, раз нельзя эту землю полить и засеять. Для него прозвучало не особенно убедительно намерение срывать дувалы. Зачем?
Все равно и так не успеешь полить, ибо сроки поливки жестки, половодье капризно и надо всегда торопиться с водою.
Но вот товарищ, мобилизованный на посевкампанию из Ташкента, – это как раз в моем иллюстративном случае – человек городских, не водных дел, поставил на водоподъем три «фордзона» с насосами.
Дехкане уверяли, что машина воду не поднимет. Пустили «фордзоны» – и вода взорвалась кверху и ринулась в деревянный лоток на берегу, сотрясая его обитые жестью борты. Дехкане сказали, что такой разъяренной водой поливать нельзя, и, выгнув уровень деревянного водохода, товарищи-выдумщики заставили ее не течь, но ползти ползком. Тогда колхоз к машинистам, работавшим у моторов круглые сутки, стал посылать наряд из двух человек. Они сидели на корточках у водопада, прыгавшего в лоток и становившегося там на дыбы, следили, как этот водопад быстро опрокидывался плашмя и уползал работать в канаву. Они сидели, разводя руками и кивая одобрительно головами, чтобы чувствовать новую воду, помогали машинистам кипятить чай, ласково увеселяя их своей беседой, и изредка бегали в кишлак в сотый раз сказать, что, к их удивлению, все в порядке. Так, по-двое, по-трое, своеобразными водными заседателями, прошли целые колхозы. Три «фордзона» заменили здесь его восемьдесят чигирей (колес, увешанных глиняными черпаками и вращаемых верблюдом или ослом), освободили на поля столько же животных, но самое главное – они несли сокращение полива района с двадцати с лишним дней до двенадцати или четырнадцати. Сократить сроки полива – это значит усилить его темп. Усилить темп – значит получить ту самую отстающую воду, которая так пугала при многогектарной машинной запашке. Это значит получить воду из темпа. Выходит, что один темп – уже новые гектары в посевном плане. Получается странное «лишнее» су, а воды в каналах нисколько не больше, чем в старое время.
Будут ли срыты теперь дувалы? Там, где видели трактор в качестве водоработника, захлопывающего ножницы между возможностью запашки и возможностью орошения, они будут срыты скорее, чем там, где люди не сидели ночами, с «летучей мышью» в руках над пляшущим взрывом моторной воды, не пили чай с машинистами и не переживали при этом нового понимания воды. Но существуют песни, рассказы, слухи и, наконец, те же «фордзоны». Через два-три года в Туркмении будут другие ландшафты.
Есть в старой туркменской поэзии песни, названия которых развеваются над ними, как боевые знамена: песни, останавливающие караваны, укладывающие стада на отдых или вызывающие сыпь во время болезни казымак. Есть еще песни, прославляющие знаменитых мирабов и знаменитых искателей подземной воды – строителей колодцев.
Но что такое теперь мираб, как не приказчик другого беспрекословного водохозяина – посевной? Может быть, разве только кую-уста, строитель колодца, еще сохранил свои позиции в кара-кумских песках. Чувства меняются быстро! Любовь к вещам – эта любовь кустаря – переходит в любовь к соотношению вещей. Чувство воды ныне питается не водою, как благом господней любезности или как вещью, а функциями воды, положенными на функции организации. Инженеры мало что строили нового, но, сократив какие-то километры, из прежней воды сделали большую, трактор дал темп полива – темп разве вода? – а вот полить можно больше – и уже нет искусства отдельного мастерства, есть просто искусство времени.
Быстрое на руку водоневежество молодого колхозника делается отличным профессиональным качеством рядом с медленным чувствованием воды у мираба.
Тверской текстильщик, двадцатипятитысячник, приезжает, впервые видя поливные порядки, и помогает руководству водой. О воде говорят в партии, кооперации, Госторге. Товарищ, верхом на коне управляющий куском туркменской пустыни, уверяет, что нужно написать книгу о партработе на седле для его кочующих областей, а другой, ему вторя, мечтает написать руководство о партработе с водой. Тот, кто не думает в Туркмении о новой воде, – говорит он, – не думает о социализме.
Чувство воды становится общим, как чувство революции, потому что, конечно, история среднеазиатских водных реформ и строительств есть прежде всего история пролетарской революции на Востоке – и потом уже истории инженерии.
Но вот об этом еще не написано ни книг, ни стихов.
Сейчас туркменские ирригаторы работают над постройкой ударной реки, которая, исходя из Аму, впадала бы в юго-восточный кусок пустыни, отвоевав для хлопка десятки тысяч гектаров. Есть противники ее. Их много. Среди них и скотоводы Кзыл-Аяга, соседи запроектированной реки, имя которой Келифский Узбой. Они говорят, что вода хороша, но не всякая: колодец в пустыне – добро, а речной поток – зло, он способен метаться по пескам, как басмач, через него не перегонишь стада, он перережет пути от пастбища к пастбищу. Может быть, они правы? А может быть, здесь старые и новые чувства и смыслы воды? Говорят, что о проекте Келифа будет издана книга мнений за и против. Пусть в ней тогда запишут свои опасения рядом с доводами строителей-инженеров и пастухи кзыл-аягских стад.
И это будет первая из книг, открывающая советскую воду.







