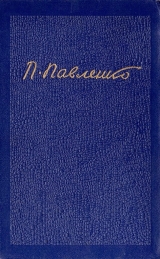
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
На шоссе
Москва кончается в сущности за Подольском. И почти сразу же начинается огромное поле отшумевшего сражения, идущее к западу вдоль пути на Малоярославец, Медынь, Юхнов и Рославль – к Бобруйску. За линией фронта шоссе пересекает Березину и через Брест выходит к Варшаве. Места звучные, памятные…
Нет ни одного города на этой старой военной дороге, который не был бы воспет то в летописях 1812 года, то в сводках Совинформбюро за годы Отечественной войны, но есть немало и таких, что обессмертили себя дважды.
Дорога эта, с тех пор как ее помнят русские люди, всегда приводила к победе. В сущности, это был кратчайший путь из Москвы не только к Варшаве, но и к Берлину. С годами положение изменилось лишь в том смысле, что теперь из Москвы на Берлин не одна дорога, а больше. Овеянная славой 1812 года, столбовая Смоленская дорога, она же Можайская, ныне стала Минскою магистралью…
За Подольском, за его чистенькими, точно выставочными огородами у каждого дома, за его аккуратными улицами, по которым – это было воскресенье – шли люди с лопатами и граблями в бумажных футлярах, напоминающими издали теннисные ракетки, за рядами новых жилых домов, убегающих в открытые поля, за другими деревнями и селами – почти сразу, без долгого предисловия – начинается окраина сражения, которое, подобно лавине, шло летом 1941 года на восток, а зимой повалило с востока на запад.
Точно гигантский ледник прополз по этим местам. Он изломал леса, разметал мосты, вдавил глубоко в землю деревни, размолол города. За два года сгорело столько деревень, сколько не сгорело, должно быть, за много веков. Немец хотел отбросить Россию к дикой, пещерной жизни, чтобы десятилетиями бродили мы одичавшими толпами по выжженным равнинам, по вырубленным лесам. Этого не произошло. Не оказалось на свете силы, способной повернуть нас назад.
С шоссе, бегущего к Варшаве, видно, как с каждым днем нарастает жизнь в местах, казалось бы на век умерщвленных.
Первый звук рассвета вблизи Малоярославца оказывается ревом трактора. Истерзанный город, составленный из отдельных, почти не связанных друг с другом кусочков, тесно окружен густозеленым морем озимей, темными полосами яровых. Огороды своей гофрированной отделкой украшают все пустыри между домами, свисая даже по краям крутых оврагов и прижимаясь к шоссе вблизи регулировочных пунктов. Огороды в садах, огороды на площадях, огороды вокруг сараев, даже в палисадничках перед учреждениями и магазинами. На подоконниках вместо излюбленной герани торчит рассада в ящиках из-под мин или в немецких касках.
Деревни по сторонам шоссе, то чудом уцелевшие, то выжженные дотла и закопавшиеся в землю, – безлюдны: все на полях. Изредка вприпрыжку промчится мальчишка лет двенадцати с холщовой сумой за плечами – колхозный рассыльный или письмоносец.
Он останавливает любую машину:
– По колхозной надобности! – и смело лезет в кузов, будь это «бьюик» или «виллис».
Время от времени вдоль шоссе попадаются груды мешков с картошкой и узлов с пожитками, охраняемые дремлющими ребятами. Рядом горят костры. Женщины помоложе хлопочут у чугунков, постарше – пасут поджарых коровенок с глазами диких коней. На языке дороги – это возвращенцы. Немцы сняли их в свое время с насиженных мест и увезли за собой. Отбитые от немцев где-нибудь на Могилевщине или отсидевшиеся от них в глухих лесных болотах, они сейчас же развели на новом месте огороды, посадили картошку и только потом – сняв урожай – стали потихоньку путешествовать в родные места.
Колхозный плотник Павлов из-под Мятлево, сбежавший от немцев на территории Белоруссии, возвращаясь домой, поставил двенадцать изб, восстановил четыре моста. Он говорит:
– Ребятишки просят: «Дедушка, сделай нам домик, холодно нам в землянке». Ну, я не ирод. Обстраиваю народ, помогаю государству.
Деревни вдоль шоссе поблескивают новыми срубами, точно места эти заселяются первыми поселенцами, но еще много и землянок, и блиндажей, и утепленных шалашиков.
– Писала я на фронт своему, он против, – говорит хозяйка такого шалашика, румяная бойкая красноармейка с таким веселым лицом, будто выпадало на ее долю одно хорошее.
– Отчего же против?
– Да чего ж нам, сами подумайте, старую избу отстраивать? Пожили, слава богу, в ней. Теперь думаем получше домишко поставить, комнатки на четыре, по-городскому. А дело это сейчас не под силу. Отвоюемся – тогда вот…
Мысль о том, что после войны жизнь непременно должна стать еще лучше, чем была, волнует многих. Деревни возрождаются часто на новых местах, а не там, где их столетиями держал помещик, а потом привычка к родному месту; из низин они перебираются на высокие косогоры, от болот – на берега рек, с проселка – к большаку. Иные деревеньки вдруг начинаются, казалось бы ни с того ни с сего, возле брошенной войсковой баньки или пустого интендантского склада, с обширными навесами и полуподвалами. Это не случайность, а тонкий расчет, экономия сил и времени. Интендантский складчишко – уже готовая колхозная кладовая, – хотя колхоза собственно сегодня еще и нет по причине малочисленности населения, но он будет. Родится и колхоз. А кстати рядом проходит военная дорога – ««жердянка». Она тоже не должна зря пропадать, она удобнее, чем мокрый горбатый проселок, и ее следует как можно скорее обжить, использовать «на все сто».
От «Красного Ручья» сохранилась всего одна изба, но табличка с названием деревни гордо поблескивает на стволе старой березы, как раз напротив одиночки-избы. Хозяин ее – не довелось мне повидать его лично – получает почту за всех отсутствующих односельчан и отвечает всем землякам на фронт. Пробовали его переселить куда-нибудь поближе к уцелевшим деревням, отказался: «Что ж деревне-то – пропадать? Как я стерегу деревню, так о ней имеется понятие, а уйдешь – сотрется из памяти; а людям, как вернутся, куда итти?..»
Упрямый старик так и сторожит свою исчезнувшую, но живую в сознании людей деревеньку. В глухом, обкусанном сверху лесу стучит топор. Среди хаоса поваленных деревьев поет пила.
На безлюдной поляне, вдали от человеческого жилья, высится братская могила, убранная почти свежими цветами. Кто и откуда приходит к ней? Кто бережет ее для потомства? Спросил об этом. «Все ходят, – сказал подросток-пастух. – Проезжающие и проходящие – все ходят. Може, свой брат тут лежит».
Слились с землей и бесславно исчезли в ней лишь «немецкие выселки» – кладбища фрицев; но почти у каждой деревни есть такие свалки в безыменных оврагах и балках, о них говорят с презрением, с ненавистью, как с местах грязных, ни на что хорошее не пригодных. Хорошее слово: «немецкие выселки»! На века б сохраниться ему как названию свалочных мест за нашими городами и селами.
Развалины немецких танков и пушек вмонтированы войной в нашу природу. Полуприкрытые березняком, заросшие мхом, они постепенно превращаются в низенькие курганчики, каждый со своей биографией. Реальные события и молодые легенды переплетаются здесь между собою, рождая новый фольклор и придавая всему уже давно глубоко мирному быту воинственный отпечаток.
Несмотря на то, что не везде есть радио и редко газеты – любая новость пробегает по Варшавской дороге со скоростью телеграммы. Рассказы о сражениях, о пленных так же естественны и необходимы здесь, как разговоры о работе сельпо. Воинственный дух дороги не замирает нигде. Санитарные автомобили, бегущие со стороны тыла к фронту, возвращенцы, солдаты-отпускники и выздоровевшие раненые, районные работники и, так оказать, коренное население дороги – ее регулировочные посты и ремонтные группы – составляют особый мир жителей особого города, – он растянулся на многие сотни километров и имя ему ВАД № 2. На его питательных пунктах и в его гостиницах течет своеобразная жизнь прифронтового «города», вытянутого в одну линию вдоль всего шоссе. Таких длинных дорог в Европе нет. Но, несмотря на свою длину, дорога живет жизнью улицы. Могилев и Бобруйск недалеки. До Березины можно по пальцам пересчитать все объезды и мостики, не за горами и Брест. Немало людей из-под Кричева побывало – в немецкие дни – за Бугом, они знают, что там сейчас творится.
Шестнадцатилетний парень прибыл в прошлом году, как раз незадолго до отступления немцев, из Лейпцига, идя два с половиною месяца по ночам без карты и компаса.
– Вы теперь завяжите мне глаза, спутайте ноги – я эту проклятую Германию по запаху узнаю, подошвами почувствую. Сонный, я и то разберу, кто рядом – наш или немец, – говорил он своим, собираясь в партизаны.
Семидесятилетняя старуха, неграмотная, полуслепая, обнаружила в прошлом году, уже после прихода Красной Армии, двух переодетых немцев и немедленно сообщила о них командиру красноармейской части.
– Я их узнавать наловчилась, – рассказывает она. – А чего! У меня в хате вся Европа перебывала – и финны, и испанцы, и австрияки, и итальянцы. Пригля-де-лась я, милые, при-ню-халась! Ну и ну! Теперь немец от меня хоть в любую одежду спрячется – я все одно найду. Мне бы только ему в глаза посмотреть – тут уж я сразу скажу, немец он или кто…
От горизонта доносится глухое ворчанье далекой канонады, кое-где лепечут зенитки, в воздухе шум самолета, и на земле – никакой толчеи, никаких пробок, ничего такого, что бы подсказало сознанию, что мы вблизи фронта. Войска научились быть невидимыми.
Штабеля воинских грузов. Ящики, тюки. Семена, удобрения. Слышится речь – белорусская, польская, украинская, узбекская, русская.
Вот обрывки невольно подслушанного разговора:
– Что на переднем, не знаете? Шуму что-то сегодня много.
– Нервы!
– У него?
– Конечно. Бьет с утра в белый свет, как в копеечку.
– Это хорошо.
По шоссе проносится грузовик с бойцами дорожного батальона, с лопатами, пилами. Они мчатся на ямочный ремонт – засыпать на шоссе лунки.
1944
Инициатива
Поздним вечером мы переправились через реку в том месте, где два дня назад ее форсировали наши передовые части.
На песке западного берега всюду, насколько хватал глаз, точно выброшенные гигантским шквалом, валялись в изобилии самодельные плоты из бревен и хвороста, понтончики из пустых бочек и «плавточки» из немецких бензиновых баков, по четыре штуки связанные проводом. Были тут и автомобильные камеры, и покрышки, и лодки, счетверенные одним деревянным настилом и представляющие собой почти паромы.
Все это любовно сбитое топорами и связанное проволокой хозяйство, кое-где тронутое осколками, частично разрушенное и подраненное в час переправы, выглядело сиротливо без своих хозяев, ушедших вперед. Было жаль, что все это трогательное солдатское добро сейчас уже никому не нужно.
Но я ошибся: чья-то заботливая рука собирала эти вещи. На телеге, возле которой возились двое бойцов, было навалено много таких вещей, подобранных на берегу у самой воды.
– Зачем собираете? – спросил их водитель машины. – На дрова, что ли?
– Как зачем? – удивленно переспросил старшин, оказавшийся бойцом транспортной роты. – К себе в хозяйство. Река-то впереди еще не одна.
– А саперы?
Наш водитель, как и все шоферы, был поклонником крупной техники.
– Сапер-то сапер, да ты и сам не будь хвор, – упрямо ответил старший. – Стрелок, кроме того, что ему положено по табелю, должен сам себя обеспечить. При нем чтоб любое оружие было – автомат, граната, противогаз, и еще своя переправа – автокамера или что-нибудь вроде.
Водитель не согласился с говорившим, и между ними завязался спор о преимуществах крупной техники и недостатках кустарщины.
– Ты бы, дорогой мой, без смеху, – возражал водителю боец транспортной роты. – Есть у нас изобретения, кроме плотов. Пловучий пулемет, например, на винтовой установке. Вот он, пожалуйста!..
Было уже совсем темно, и только подойдя вплотную к телеге, мы разглядели на ней нехитрое сооружение из коротких бревнышек, стянутое железными болтами. На нем торчали остатки ручного пулемета, который, судя по всему, провел жестокий бой.
– Где же тут винт? – не утерпел водитель, а бойцы-транспортники все засмеялись.
– Винтовая установка пошла вперед, – смеясь, сказал тот, кто поддерживал разговор с водителем. – А корабль у нас остался. Вот так берешься за скобы – и толкай все сооружение в воду. Столкнул – руками за пулемет и строчи, а ногами в воде действуй, направляй движение куда надо.
– Машина «рено» марки «тпру» и «но», – пошутил водитель, но в голосе его уже не было прежней высокомерной насмешливости.
Говоривший между тем отошел в сторону и снова похлопал рукой, теперь уже по куску металла.
– А вот наш эсминец! – сказал он ласково.
На крохотном плотике был прикреплен щиток от станкового пулемета. Боец переплывал реку, вооружившись гранатами, под заслоном щитка.
– А это вот… наш солдатский линкор, – показал он на два металлических цилиндра с ручками на крышках, напоминающие большие банки из-под варенья.
– Да это же мороженицы! – крикнул водитель, сразу разгадавший природу «линкора».
– Чем они в мирное время занимались, того не знаю, – строго сказал боец, не обращая внимания на насмешку, – а во время войны они нас через реки переправляют. Мы в них гранаты клали, а сами вплавь. Сухо, аккуратно. Это мы у партизан подсмотрели, как они в мороженице документы хранили. Отличная штука. С ними восемнадцать человек переправились и связь…
И тут я на одно мгновение представил себе стихийную волю красноармейца к движению вперед, волю, которая не терпит замедлений, не поддается усталости, не скупится на выдумку и переполнена таким ярым вдохновением, перед которым отступает все обыденное, среднее, будничное; а в душе человека загорается огонь страстной отваги, и она томится, если не побеждает, а побеждая – ликует, потому что нашла свое высшее счастье.
Передо мною лежали вещи, которым следовало салютовать. Они выглядели участниками славы. Они были оружием вдохновения самого народа, который не разделял себя на саперов, стрелков, танкистов, автоматчиков, а, наоборот, всех объединял в профессии воина, которому незачем кого-то поджидать для того, чтобы спешить к победе.
И дороги стали мне эти «линкоры» и «пловучие пулеметы» пехотинцев, состряпанные уставшими руками в короткие часы досуга между боями, и было приятно, что вещи эти не сгниют на пустынном берегу реки, а еще послужат и вернутся, как старые верные друзья, к тем, кто строил их.
– Куда же их теперь? – почтительно спросил водитель, побежденный тем, что увидел, а еще более тем, что он представил себе.
– На нас рек хватит, – ответил боец. – Куда надо, туда и потребуются.
– Да, это нельзя бросать, – мягко согласился водитель. Он дал газу и, отъехав с полкилометра, сладостно вздохнул и удивленно покачал головой:
– Ну, и боец у нас пошел!
1944
Маневр
1
Генерал в солдатской гимнастерке с полурасстегнутым воротником и в серых от пыли сапогах стоял у дороги, задумчиво покусывая травинку. Пот подсох на его буром от загара лице, и от этого лицо казалось старым, морщинистым. Мимо шли пленные немцы.
Потом он, не спеша, прошел вдоль дороги к хутору, прислушиваясь к суетливому бормотанию мелких и редкому откашливающемуся говору крупных орудий, которые гулкими ударами до того наполняли воздух, что он казался сотканным из одних шумных толчков.
День был безветренный, но на дорогах пылило. Это были принеманские песчаные солончаки. Крохотные рощицы рассредоточенно карабкались вверх по песчаным холмам, кое-где объединяясь в лески и снова разбиваясь на отдельные звенья. Из каждой группы деревьев слышались рычанье и фырканье танков, лязг гусениц, неистовый треск мотоциклов. Ко всему тому, что раздавалось на земле, прибавлялся однообразный гул в небе. Самолеты, то отчетливо видные, то идущие на огромной высоте и сливающиеся с воздухом, все время ощущались над совершенно безлюдными холмами. Иногда грохот обрушивался на поле только что сжатой ржи. Иногда над черепичной крышей хутора вздымался бледный огонь дневного пожара.
Вдруг мины забарабанили по скату одного из дальних холмов. Он из зеленого стал желто-черным, потом ярко-желтым, как дюна, а вскоре исчез, точно его стерли резинкой. «Мессершмитты» оголтело пикировали на каждый лесок, с разгона заглядывая в его глубины. Однако огня они не открывали ни разу.
– Забеспокоились, сукины дети, – довольно оказал генерал, поглядывая вверх. Лицо его сразу помолодело и от улыбки стало привлекательнее. – Ищут меня, а найти не могут. Третьего дня я велел подать голоса рациям на танках. В эфире образовалась толкучка. А потом – сразу стоп, молчание. Ну, вот они с ног сбились, разыскивают, куда я сбежал.
С запада надвигалась длинная, верст на пятнадцать, туча дыма.
– Горит, – сказал литовец, хозяин хутора. – Как пожар, значит немец домой собирается.
– Нет, мы не пустим его домой, – спокойно произнес генерал. – Не для этого воюем. Мало они еще биты. Мне безразлично, чего они хотят. Мне важно, чего мои люди желают, – и генерал кивнул на грохочущие, вспыхивающие, тлеющие и вставшие пыльными столбами холмы, на которых даже в бинокль не удавалось приметить ни единой живой души.
Присев на старое бревно у колодца, генерал знаком руки попросил карту и углубился в нее, поглаживая лоб. Он поджидал пехоту, чтобы передать ей этот участок сражения, а самому с танками нырнуть в топкие леса и объявиться на левом фланге немцев, где его никто не ждал. Пехота еще только подходила, но он, не ожидая даже первого ее батальона, давно уже стал по одному выводить из боя танки и направлять их по лесному маршруту. Сейчас он представлял себе, где они могут быть, и тем особым чувством, которому нет названия, понял, что все дойдут во-время. Пожалуй, следует только поторопить самоходную артиллерию. Он оглянулся, и адъютант, наблюдавший за генералом с крыльца, подбежал, прослушал и передал распоряжение насчет артиллерии.
Держа груду карт подмышкой, подошел тучный, веселый и подвижной начальник штаба. Все было уже уточнено до мельчайших деталей, и все-таки многое должно было произойти не совсем так, как запланировано. Однако все возможные изменения, отклонения и неожиданности, которые сейчас нельзя было предвидеть, имели свои ориентировочные места, как еще не открытые элементы в менделеевской таблице. Вместе с начальником штаба генерал кропотливо намечал пункты и этапы всех возможных случайностей.
Теперь оставалось последнее – добиться намеченного. Войска, которые, быть может, уже этой ночью будут сражаться, не все сразу, и во всяком случае не все время, сумеют видеть генерала возле себя, а он тоже будет лишен возможности ежесекундно влиять на них. Значит, надо сделать это сейчас, до боя. Радио давало ему возможность говорить с каждым танком и видеть глазами экипажей все поле сражения так же отчетливо, как если бы он видел его, стоя на высоком холме с подзорной трубой в руках, подобно генералам прошлого столетия. И он поговорил с бригадами, потом с батальонами.
Начальник политотдела еще с утра созывал коммунистов и комсомольцев, беседовал с людьми, идущими в бой впервые. Задача была ясна всем до последней черты. Генерал спросил, где теперь сам начальник политотдела. Оказалось, что тот уехал проведать только что раненного офицера, а потом собирался посетить батальоны, с утра ушедшие в лес.
– С охраной? Опять без охраны?.. Ну, знаете…
Прирожденный политработник, мастер растить людей и добиваться от них предельного напряжения сил, начальник политотдела был в то же самое время откровенным врагом всякой писанины и заседательства. Заседаниям и совещаниям он предпочитал непринужденную, без повестки дня затеявшуюся беседу, откровенный разговор с офицерами, с бойцами. Этот скромный, редко отдыхающий человек любил говорить, что хорошая партийная работа должна растворяться в деле, как растворяется сахар в стакане чая.
– Сахар ведь никто не хвалит, – говорил он, – чай хвалят. И правильно.
Подтверждая свой афоризм, он самоотверженно растворялся в деле. Генерал любил его, было приятно думать об этом человеке. Но сегодня нельзя было чересчур предаваться воспоминаниям или размышлять о чем-то другом, кроме завтрашнего сражения.
Генерал подготовлял свой завтрашний день так, будто только теперь и должна была начаться его настоящая жизнь. Он был молод, ему не было еще сорока. Генерал он тоже был молодой, но уже с именем, не единожды упомянутый в приказах Верховного Главнокомандующего, с пятью орденами и пятью нашивками за ранения (три легких и два тяжелых). Бойцы говорили о нем: «наш» – и вступали в горячие споры, если кто-либо сомневался в их генерале.
Генерал был так молод, что воспоминания о родной Тараще легко объединялись у него с воспоминаниями об Академии, а дни, когда он командовал батальоном, перемежались с днями, когда он под Котельниковом водил в бой танковую бригаду, находясь под командой Павла Алексеевича Ротмистрова. И все это было так недавно, что, казалось, могло заполнить собой каких-нибудь двести – триста дней жизни. Сражений у него было гораздо больше, чем каких-либо иных событий. Поэтому, готовясь к ним, он забывал обо всем остальном. Люди, с которыми он завтра будет сражаться, предстали сейчас перед его мысленным взором. Он перебрал каждого из них и ни в ком не усомнился.
2
В этот вечерний час стрелки Н-ского полка подходили к отведенному им участку, чтобы сменить танки. Полк, дравшийся пять суток подряд на улицах города, а потом без отдыха прочесывавший окрестные леса, двигался к бою третьи сутки. Его двадцатитрехлетний командир-бакинец третьи сутки спал, как и любой из его бойцов, урывками, набирая отдых по капле, как пчела набирает мед. Все это время бойцы видели своего командира всюду. То он стоял на перекрестке путаных лесных дорог, следя, чтобы кто-нибудь случайно не свернул в сторону, то пробовал с седла обед в ротной кухне, то на коротком привале вручал отличившимся ордена и медали или мчался лугом на трофейной двухцилиндровой машине с размозженными крыльями, крича обозным, чтобы они не обгоняли батальоны, не беспокоили пехоту, которая не любит жаться к обочине.
В голове полка шел батальон майора Малышева. Сам майор, с самодельной, выкрашенной в красный цвет палочкой в руках, непринужденно, точно гуляя, шагал в стороне от дороги, рядом со своим батальоном. В полку его любили за широкий характер и храбрость, уважали за то, что он начал войну красноармейцем, а сейчас прославил себя как опытный, быстро растущий офицер. Все помнили, что за бои в Вильнюсе Малышева хвалил сам командующий армией.
За Малышевым шел батальон майора Рослева, прибывшего в полк несколько дней назад. Его еще мало знали, а он со своей стороны держался скромно, достойно и сдержанно, понимая, что породнится с батальоном в первом бою. Он не покрикивал на выходящих из строя, как Малышев, не шутил язвительно и остро, как майор Измоденов, командир третьего батальона, носившийся вперед и назад на оглушительно стреляющем мотоцикле. Измоденова, как и Малышева, полк знал давно. Это был храбрец, весельчак и отличный хозяин. Он догнал полк, возвращаясь из госпиталя. На улицах Вильнюса во главе комендантской команды он стал пробиваться к своему батальону, ведущему бой в центре города, и пробился почти в одиночку.
Полк занял свой участок в начале ночи под огнем противника. Малышев растер на ладони ржаной колос и стал равнодушно жевать мягкие зерна, изредка поправляя ротных, которые сразу же заставили людей рыть траншеи, а Измоденов узкими глазами степняка настороженно оглядывал местность, видневшуюся при свете разрывов.
Торопливо уходили последние танки. В течение ночи им предстояло совершить обходный маневр по топким лесным дорогам и вырваться километров на пятьдесят в тыл немцам. Пехотинцы окружили машины, расспрашивая, много ли немцев перебил каждый экипаж.
Тут было много всем известных в соединении танкистов. Вот Пасечников, танк которого первым вырвался к Неману. Был тут и гвардии лейтенант Шалиговский, дважды горевший в танке и за это прозванный «неопалимою купиной». О нем рассказывали, что под Сморгонью он доложил по радио: «Прошу прислать тягач для расчистки шоссе. Танк застрял на немцах». Он в самом деле врезался в колонну немецкой пехоты и обозов, давил, рвал, разбрасывал и по обломкам телег, по грудам трупов шел вперед, пока окончательно не застрял в месиве дерева, человеческих тел и металла.
3
Основные силы танков еще с утра скрытно двинулись лесом, по бездорожью, по топям. Танкисты сами строили себе гати. Им помогали пехотинцы. Звуки топоров и пил, рык тягачей, подвозивших камни, и бойкое тявканье молотков заглушали стрельбу боевого охранения.
Уже лес окутала ночь, а работа продолжалась. Свет молодой луны почти не проникал в лесную чащу. Здесь было темно и сыро. Белые пятна тел, копошащихся в болоте, едва угадывались даже вблизи.
Девушка-санинструктор нетерпеливо кричала в темноту:
– Черемисов! Слышите меня, Черемисов? Выходите, а то простудитесь.
– Совестно, Таня, – добродушно отвечал ей чей-то охрипший голос. – Теперь штаны свои до утра не найду.
– Выйдите, я вам что-то скажу, – настойчиво продолжала она.
– Да как же я выйду? – отвечал ей все тот же хриплый голос под хохот соседей.
– Черемисов, я вас в последний раз предупреждаю… Сейчас доложу комбату… Слышите вы или нет?..
Вскоре народ стал одеваться, потому что танки уже начали проходить по свежей, прогибающейся под ними гати, Это была третья гать за день. Оставалась еще одна, последняя, – дела на два часа.
4
Генерал открыл глаза и сделал знак водителю остановиться.
– Ну-ка, свяжитесь с бригадами, что там…
– Прошли, товарищ генерал. Настилают последнюю гать. Машины целы, люди тоже.
На светящихся часах генерала было двенадцать ночи.
– Действовать по варианту номер четыре – не на семьдесят километров, а на сто двадцать.
Он осветил фонариком карту и стал разглядывать новое поле сражения, намечающееся в результате лесной работы. Он собственно думал о нем не в первый раз. Но днем и даже вечером оно было только желательным, еще не реальным. Сейчас оно становилось неизбежным, единственным.
– Скажите командирам бригад – сто двадцать! Они знают. Я еду к ним, буду вызывать через каждый час. Поехали!
Он закрыл глаза, но не для того, чтобы спать. Его манило сражение, за которым бежал он с невероятной скоростью, и он снова стал напряженно думать об этом.
1944







